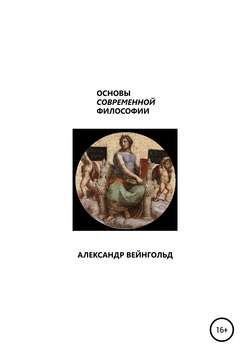Читать книгу Основы современной философии - Александр Вейнгольд - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Введение
В.7. Государство и философия
ОглавлениеХристианство, как один из возможных вариантов аксиоматизированной философии, давало вполне удовлетворительные, простые и весьма однозначные ответы на многие основные вопросы человеческого существования и своей проповедью любви («возлюби ближнего своего, как самого себя»), кротости и идеи самопожертвования способствовало обузданию тех присущих многим из нас – если не всем! – отталкивающих черт, на которые уже издавна обращали внимания просвещенные люди. Так например, в приводимом Диогеном Лаэртским послании Гераклита персидскому царю Дарию читаем: «Гераклит Эфесский царю Дарию, сыну Гистаспа, шлет привет. Сколько ни есть людей на земле, истины и справедливости они чуждаются, а прилежат в дурном неразумии своем к алчности и тщеславию». В V веке до н. э. древнегреческий историк Фукидид констатировал: «Человеческая натура, всегда готовая преступить законы, теперь попрала их и с радостью выявила необузданность своих страстей, пренебрегая законностью и справедливостью и враждуя со всем, что выше ее. Конечно, люди не пожертвовали бы благочестием ради удовольствия отомщения и сознанием, что никому не сделано зла, ради временных выгод, если бы зависть не имела столь вредоносной власти». Фукидиду удалось точно определить и один из главнейших – если не самый главный – источник общечеловеческой склонности к эскалации конфликтов: «Но когда дело идет о мести, то люди не задумываются о будущем и без колебаний попирают все общечеловеческие законы, в которых заключена надежда на собственное спасение человека в случае какой-нибудь беды». Поэтому шесть из десяти христианских заповедей, переданных Творцом на горе Синай Моисею и записанных на одной из двух каменных Скрижалей Завета, посвящены нашим обязанностям по отношению к другим людям. Все эти шесть заповедей не утратили своей исключительной актуальности и поныне…
Платон обратил внимание и на то потенциально опасное и заслуживающее серьезнейшего отношения обстоятельство, что «Когда одни думают так, а другие иначе, тогда уже не бывает общего мнения и непременно каждый презирает другого за образ его мыслей», – и высказал достаточно обоснованное и в принципе верное (но имевшее для самой «любви к мудрости» прямо-таки катастрофические последствия) пожелание, приведшее в конце концов к пониманию необходимости введения государственной философии: «Пока в государствах не будут царствовать философы, либо так называемые нынешние цари и владыки не станут благородно и основательно философствовать и это не сольется воедино – государственная власть и философия, и пока не будут в обязательном порядке отстранены те люди – а их много, – которые ныне стремятся порознь либо к власти, либо к философии, до тех пор, дорогой Главкон, государствам не избавиться от зол, да и не станет возможным для рода человеческого и не увидит солнечного света то государственное устройство, которое мы только что описали словесно».
Римский император Константин положил конец трехсотлетнему преследованию христиан, а затем добился и единства в самой Христианской Церкви. Предвиденная Платоном потребность в единой государственной философии постепенно стала очевидной и первым лицам огромных империй. В 529 г. византийский император Юстиниан I, называвшим себя «императором и священником», своим эдиктом, от последствий которого «любовь к мудрости» не вполне оправилась и по сей день, закрыл на территории империи все философские школы (в одночасье превратившиеся в «языческие»), включая и основанную самим автором идеи о правителе-философе Платоном, Академию в Афинах.
Несомненно, этот шаг происходившего из простых крестьян великого политика, стремившегося поставить под контроль государства все, что только возможно, был продиктован неотложными высшими государственными интересами тех суровых времен, – и в частности, разумеется, намерением укрепить внутреннее единство империи. Семеро афинских академиков, возглавляемых последним руководителем (схолархом) Академии Дамаскием, были вынуждены покинуть пределы великой империи и проследовали в воевавшую в тот момент с Византией Персию…
В Европе жесткая официальная монополия христианства в философии сохранялась в течение многих столетий, хотя, разумеется, – особенно начиная с эпохи Возрождения – всегда находились и те, кто отчетливо осознавал ее несомненную пагубность для «любви в мудрости».
Так, в 18-м веке Иммануил Кант в одном из своих писем заявил: «Я вовсе не скрываю, что смотрю с отвращением, более того, с какой-то ненавистью на напыщенную претенциозность целых томов, наполненных такими воззрениями, какие в ходу в настоящее время. При этом я убежден, что избранный в них путь является совершенно превратным, что модные методы [метафизики] должны до бесконечности умножать заблуждения и ошибки и что полное искоренение всех этих воображаемых знаний не может быть в такой же степени вредным, как сама эта мнимая наука с ее столь отвратительной плодовитостью. (…) Что касается запаса [метафизических] знаний, преподносимого публике, то мое мнение (оно не выражение легкомысленного непостоянства, а результат долгого исследования) таково: самое целесообразное – это снять с него его догматическое одеяние и подвергнуть необоснованные воззрения скептическому рассмотрению».
В 19-м веке Артур Шопенгауэр подверг уничтожающей (и по-прежнему не утратившей своей актуальности!) критике современную ему университетскую философию: «правительство не станет платить жалованья людям за то, чтобы они прямо или хотя бы косвенно противоречили тому, что по его указу возвещается со всех церковных кафедр поставленными им пасторами, или вероучителями (…) Профессору философии и в голову не приходит исследовать вновь появляющуюся систему с точки зрения ее истинности, – он тотчас обращает все свое внимание на то, может ли она быть согласована с учениями государственной религии».
Наконец, в 1908 году Владимир Ленин, указав, что «Известное изречение гласит, что если бы геометрические аксиомы задевали интересы людей, то они наверное опровергались бы», – не только открыто заявил, что: «профессора философии – ученые приказчики теологов», – но и, придя вскоре к власти, открыто настаивал на «борьбе с господствующими религиозными мракобесами»…