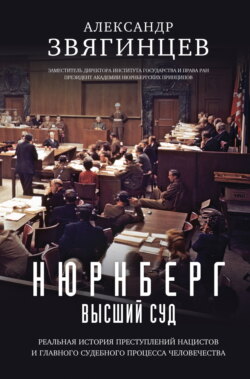Читать книгу Нюрнберг. Высший суд - Александр Звягинцев - Страница 3
Пролог
ОглавлениеТрудно предвидеть, что бы произошло с человечеством, если бы не героические усилия Советской армии, разгромившей гитлеровские орды, в которых воевали представители едва ли не всех европейских стран.
«В случае победы Гитлера, – сказал мне президент Чехии Милош Земан во время интервью, которое я брал у него для фильма о Нюрнбергском процессе в 2016 г., – все мы говорили бы сегодня по-немецки. И это в лучшем, почти невероятном, случае. Скорее всего, мы бы умирали от голода, непосильного труда и пыток в концентрационных лагерях или были бы просто убиты. Не будь Советского Союза – даже американские генералы это признавали, – союзники проиграли бы войну с Гитлером. Нельзя ставить под сомнение решающую роль Советского Союза в победе над фашизмом».
Чтобы помнили!
Вторая мировая война, развязанная в Европе фашистской Германией, а на востоке – империалистической Японией, втянула в свою орбиту более 80 процентов населения всего земного шара. Под ружье было поставлено более 110 миллионов человек. В ней участвовало 61 государство. Прямые потери нашей страны составили около 27 миллионов человек. Большинство советских людей погибли на оккупированной территории (15 миллионов 600 тысяч), в концлагерях и на принудительных работах. Фашисты отправили в рабство почти пять миллионов наших соотечественников. К людским потерям следует добавить и то, что после войны в СССР рождаемость сократилась на 15,5 процента.
На территории СССР нацисты полностью или частично разрушили и сожгли 1710 городов, более 70 тысяч сел и деревень, свыше шести миллионов зданий, лишили крова около 25 миллионов человек. Колоссальные разрушения были нанесены промышленности, сельскому хозяйству, транспорту, медицинской и социальной сферам. В огромных масштабах расхищены культурные ценности, уничтожены исторические памятники. Разрушено 1670 православных церквей, 237 римско-католических, 532 синагоги.
Общая стоимость материальных потерь, понесенных Советским Союзом, выражается в астрономических цифрах!
С июня 1941 г., ведя освободительную войну против немецко-фашистских агрессоров, наши воины сражались с 607 дивизиями противника. Из них 500 соединений были отборными дивизиями германского вермахта. В то время как всем нашим союзникам, вместе взятым, противостояло в 3,5 раза меньше – не более 176 дивизий (и это с учетом воевавших в Северной Африке и Южной Италии).
Безвозвратные потери Советской армии при освобождении европейских стран составили около миллиона человек. А всего участвовало в освобождении 16 стран Европы около девяти миллионов советских граждан.
Фактически вся экономика стран, покоренных Третьим рейхом, реально работала против нашего государства. Фактически мы воевали против военно-промышленного комплекса и ресурсов всей Европы. Из Франции вермахту было поставлено более 200 тысяч автомобилей, на ее заводах ремонтировались танки «Рено» и поставлялись гитлеровцам морские бомбардировщики «Дорнье». Из Чехии и Бельгии шли мощные поставки стрелкового оружия. Даже из нейтральной Швеции поставлялись в фашистскую Германию подшипники для танков и подводных лодок, а также железная руда.
Поставки шли и из США. Компания «Стандарт Ойл» снабжала Германию миллионами баррелей нефти. На Канарских островах была устроена заправочная база для немецких субмарин. Она же продала нацистам через посредников большую партию хлопка, из которого производили порох, а также 25 тысяч тонн взрывчатки. Американские компании продавали немцам аппаратуру спецсвязи, взрыватели к снарядам, радиолокационное оборудование и многое другое… А компания «Кока-кола», чтобы не засвечиваться, наладила производство на территории Германии нового напитка «Фанта». Красноармейцы часто находили в немецких пайках порошок, разбавив который водой, можно было получить апельсиновую газировку. Достаточно сказать, что прибыль американских корпораций во время войны выросла с шести миллиардов в 1940 г. до десяти миллиардов в 1944 г…
Хорошо отлаженный довоенный американо-немецкий бизнес приносил большие дивиденды.
Чтобы помнили!
Во время съемок очередного фильма о Нюрнбергском процессе Питер Кузник, профессор истории Вашингтонского университета, рассказывал:
«Одним из наиболее неприглядных и отталкивающих аспектов поведения бизнеса США в этот период была связь с нацистскими компаниями. Мы говорим о компании “Форд”, мы говорим о “Дженерал Моторс”, мы говорим о “Дюпон”, мы говорим об “Ай-Би-Эм”, “Зингер”, “Интернешнл Харвестер”, “Ай-Ти энд Ти”, “Дженерал Электрик”. Мы можем и дальше пройтись по списку крупнейших американских корпораций. И многие из них сохраняли свои связи с Германией, большинство – вплоть до 1941 г., до начала войны. И были такие, как Генри Форд, кто открыто симпатизировал режиму. На самом деле у Гитлера в кабинете висел портрет Генри Форда, то есть его вдохновлял Генри Форд. Именно Форд публиковал газеты и брошюры в поддержку “Протокола Сионских мудрецов” – сборника антисемитских текстов с нападками на евреев. Были такие, как люди из Дома Морганов, как братья Даллас, большое количество людей, которые продолжали “спать” с немцами до определенного момента. Был Альфред Слоун, генеральный директор “Дженерал Моторс”, были руководители “Ай-Би-Эм”, которые поддерживали хорошие отношения с нацистами до войны и получали огромную прибыль. Во время войны бóльшая часть этой прибыли была размещена на банковских счетах, и после войны они забрали эти деньги, несмотря на то что эти компании функционировали в Германии, используя рабский труд заключенных из России и других стран. То есть они делали деньги, используя рабский труд, получали прибыль от рабского труда, позаботились о том, чтобы забрать эту прибыль после войны… Фактически компания “Дженерал Моторс” получила после войны 33 миллиона долларов в качестве компенсации за свои заводы, которые разбомбили союзники. Это очень неприглядная и безобразная глава в американской истории и в американском бизнесе. В то время они фактически помогали Германии перевооружаться… Была компания “Опель”, компании “Форд-Верке” и другие… Дочерние компании крупных американских корпораций в Германии, они были тесно связаны с нацистами».
Мысленно окидывая взором время, предшествующее Нюрнбергскому процессу, изучая историю, ясно видишь, что этого уникального в истории человечества процесса могло и не быть.
Идея проведения международного трибунала возникла и утвердилась в мировом сообществе далеко не сразу. Некоторые государственные деятели Запада думали расправиться с военными преступниками, не заботясь о юридической процедуре и формальностях. Например, еще в 1942 г. премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль говорил, что нацистская верхушка должна быть казнена без суда. Это мнение он не раз высказывал в дальнейшем.
Похожие идеи существовали и по другую сторону Атлантики. В марте 1943 г. госсекретарь США Корделл Халл заявил на обеде, где присутствовал и посол Великобритании в США лорд Галифакс, что предпочел бы «расстрелять и уничтожить физически все нацистское руководство».
Еще проще смотрели на эту проблему некоторые военные. К примеру, 10 июля 1944 г. американский генерал Дуайт Эйзенхауэр предложил расстреливать представителей вражеского руководства «при попытке к бегству».
Высказывались также мысли полностью уничтожить весь немецкий Генеральный штаб, весь личный состав СС, все руководящие звенья нацистской партии (вплоть до низовых) и т. д.
Тогдашний президент США Франклин Рузвельт не только не возражал соратникам, но фактически их поддерживал. 19 августа 1944 г. он заметил: «Мы должны быть по-настоящему жесткими с Германией, и я имею в виду весь германский народ, а не только нацистов. Немцев нужно либо кастрировать, либо обращаться с ними таким образом, чтобы они забыли и думать о возможности появления среди них людей, которые хотели бы вернуть старые времена и снова продолжить то, что они вытворяли в прошлом».
Такие суждения были характерны для многих американцев. По данным социологического опроса 1945 г., 67 процентов граждан США выступали за скорую внесудебную расправу над нацистскими преступниками, фактически за линчевание. Англичане также горели жаждой мести и, по замечанию одного из политиков, были в состоянии обсуждать лишь место, где поставить виселицы, и длину веревок. И, признаться, зная, что творили фашисты, их можно понять. Но руководство Советского Союза, понесшего самые тяжелые потери в войне, придерживалось иной точки зрения.
Еще в конце 1941 г. советское правительство поставило перед союзниками вопрос об ответственности германского правительства и командования за совершаемые ими преступления на территориях, временно оккупированных вермахтом.
27 апреля 1942 г. правительство СССР официально направило послам и посланникам всех стран ноту «О чудовищных злодеяниях, зверствах и насилиях немецко-фашистских захватчиков в оккупированных советских районах и об ответственности германского правительства и командования за эти преступления». Требование о создании Международного военного трибунала содержалось и в заявлении Советского правительства от 14 октября 1942 г. «Об ответственности гитлеровских захватчиков и их сообщников за злодеяния, совершаемые ими в оккупированных странах Европы».
2 ноября того же года указом Президиума Верховного Совета СССР была образована Чрезвычайная государственная комиссия по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их сообщников.
Комиссия собрала множество материалов, уличающих гитлеровцев в уничтожении миллионов мирных жителей, в том числе детей, женщин и стариков, в бесчеловечном обращении с военнопленными, а также в разрушении городов, сел, памятников старины и искусства, угоне в немецкое рабство миллионов людей. Это были показания свидетелей и потерпевших, документальные материалы – фотоснимки, акты экспертиз и акты эксгумации тел погибших, подлинные документы, изданные самими гитлеровцами.
В ноябре 1942 г. в Москве готовился ответ на очередную английскую дипломатическую ноту. На проекте ответа, подготовленном наркомом иностранных дел В. М. Молотовым, советский руководитель И. В. Сталин вписал фразу: «Советское правительство приветствовало бы, если под углом зрения вышеизложенного была бы достигнута договоренность о создании теперь же, еще до окончания войны, Международного трибунала».
В ноябре 1943 г. Сталин, Рузвельт и Черчилль подписали в Москве Декларацию об ответственности гитлеровцев за совершаемые зверства. В ней, в частности, отмечалось, что главные военные преступники «будут наказаны совместным решением правительств-союзников».
Небывалые злодеяния фашистов вызывали ярость во многих странах мира и в первую очередь в оказавшихся непосредственными жертвами фашистской агрессии и массовых злодеяний оккупантов. Люди жаждали мести и не были готовы проявить терпение, столь необходимое для организации и ведения судебных процессов по всем правилам юриспруденции.
Неудивительно, что внесудебные расправы все-таки вершились. Бойцы французского движения Сопротивления в порыве гнева казнили без суда более восьми тысяч фашистов и их пособников. И это далеко не единственный пример.
Но руководство СССР твердо настаивало на необходимости гласного и объективного суда, дабы урок истории стал еще нагляднее и поучительнее. Советскому Союзу нужен был не просто формальный, показной трибунал, который придал бы видимость законности расправе победителей над побежденными, а по-настоящему легитимный суд, решения которого опирались бы на международное право и сохранили на века незыблемый юридический и моральный авторитет. Как видим, оно оказалось гораздо дальновиднее и мудрее многих западных политиков, выступив за строгую юридическую процедуру наказания военных преступников.
Когда Черчилль пытался навязать Сталину свое мнение о бессудных расправах, тот твердо возразил: «Что бы ни произошло, на это должно быть… соответствующее судебное решение. Иначе люди скажут, что Черчилль, Рузвельт и Сталин просто отомстили своим политическим врагам!»
«Мы должны сделать так, – настаивал британский премьер на встрече со Сталиным в Кремле 9 октября 1944 г., – чтобы даже нашим внукам не довелось увидеть, как поверженная Германия поднимается с колен!»
Сталин был в принципе не согласен с такой постановкой вопроса, он ответил Черчиллю так: «Слишком жесткие меры возбудят жажду мести».
Следует отметить, что еще в ходе войны в Советском Союзе состоялись первые в мире публичные процессы над нацистскими преступниками.
Например, на заседании советского военного трибунала в Харькове в декабре 1943 г. было рассмотрено дело трех немецких офицеров, обвиненных в варварских казнях мирных граждан с применением «газенвагенов», или, как их называли в народе, душегубок. Этот суд стал темой документального фильма, показанного всей стране.
Постепенно к идее суда подходили и западные союзники. В конечном счете советское руководство добилось своего. Но при этом, по мнению премьер-министра Великобритании Черчилля, суд над главными немецкими преступниками должен был стать политическим, а не юридическим актом. Президент США Рузвельт заявлял, что процедура не должна быть слишком уж юридически строгой и при всяких условиях на суд не должны быть допущены корреспонденты и фотографы.
Справедливости ради необходимо сказать, что, наряду с циничными предложениями о трибунале как о формальном прикрытии предрешенной смертной казни, некоторые представители антигитлеровской коалиции высказывали мысль о необходимости серьезного разбирательства и справедливых вердиктов. «Если мы просто хотим расстреливать немцев и избираем это своей политикой, – говорил американский судья Роберт Джексон (в будущем – Главный обвинитель на Нюрнбергском процессе от США), – то пусть уж так и будет. Но тогда не прячьте это злодеяние под видом совершения правосудия. Если вы заранее решили в любом случае казнить человека, то тогда и в суде над ним нет никакой необходимости…»
С 17 июля по 2 августа 1945 г. прошла Потсдамская (Берлинская) конференция глав правительств СССР, Великобритании и США. На ней решались проблемы послевоенного устройства Европы. Там были приняты официальные обязательства – судить виновных. В итоговом документе отмечалось, что на ведущихся в Лондоне переговорах будет выработано согласованное мнение по этой проблеме и установлен конкретный срок начала процесса.
Но до реализации этой идеи было еще слишком далеко.
Процесс мог не состояться и по иной причине. Как недавно стало известно из засекреченных документов, у премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля были собственные планы. Будучи обеспокоенным в конце войны победным и стремительным продвижением советских войск на Запад и усмотрев в этом угрозу прежде всего для Великобритании, он отдал приказ начальникам штабов английских вооруженных сил о разработке плана операции «Немыслимое». Этот план на 29 страницах оказался на его столе 22 мая 1945 г.
Чтобы помнили!
Предполагалось, что операция «Немыслимое» начнется 1 июля 1945 г. В этот день 47 английских и американских дивизий без объявления войны должны были нанести внезапный удар по советским войскам, не ожидающим такой подлости от вчерашних союзников. Англосаксы держали нерасформированными в Шлезвиг-Гольштейне и Южной Дании 12 немецких дивизий – именно на этот случай. Личный состав девизий тренировали британские инструкторы, готовя к грядущей войне с русскими.
План сухопутной кампании предполагал нанесение двух главных ударов в Северо-Восточной Европе: северный – по оси Штеттин – Шнейдемюль – Быдгощ, южный – по оси Лейпциг – Коттбус – Познань и Бреслау.
Считалось, что исход операции должны были решить танковые сражения, развернувшиеся восточнее линии Одер – Нейсе. В случае разгрома советские войска были бы отброшены с территории Германии и Польши к государственной границе СССР. А при неудаче союзников война неизбежно приняла бы затяжной, тотальный характер.
Коварные замыслы провалились, но напряжение среди победителей продолжало сохраняться и после 20 ноября – начала Нюрнбергского процесса. Не так давно стало известно, что американцы тоже не стояли на месте.
Чтобы помнили!
Американские «ястребы» под предлогом «сохранения мира во всем мире» разработали проект операции «Пинчер». Проект появился на свет 2 марта 1946 г., за три дня до выступления Черчилля в Фултоне, и фактически повторял операцию «Немыслимое». План предусматривал, в случае обострения обстановки, столкновение США с Советским Союзом между 1946 и 1949 годами. Сдвиг сроков войны отчасти объяснялся тем, что сухопутные войска США, по крайней мере в течение трех лет, не смогли бы иметь достаточно сил, чтобы противостоять Советскому Союзу. Использование атомных бомб в этой военной кампании пока исключалось – как в силу того, что не было эффективных средств доставки нового оружия, так и потому, что к осени 1946 г. у американцев было всего девять атомных бомб. Есть все основания считать, что об этом плане советскому руководству стало известно благодаря Дональду Маклейну[2].
Вот в такой непростой обстановке готовился и проходил Нюрнбергский процесс.
В этой связи нельзя обойти стороной проходившую еще в феврале 1945 года Ялтинскую конференцию. В совместном коммюнике от 11 февраля 1945 г. главы трех ведущих держав антигитлеровской коалиции провозгласили, что от имени своих народов намереваются «подвергнуть всех преступников войны справедливому и быстрому наказанию».
Документы Ялтинской конференции имели много важных аспектов. Они, в частности, фактически впервые комплексно ввели в международный лексикон так называемую политику «трех Д» – демилитаризации, денацификации и демократизации.
Не секрет, что при работе над Уставом Международного военного трибунала возникали споры. Ведь главные партнеры по антигитлеровской коалиции имели разные правовые системы (англосаксонская, континентальная и социалистическая). В каждой стране существовали свои правовые традиции, действовали существенно различающиеся, особенно в процессуальном плане, системы национального законодательства.
Несмотря на наличие существенных трудностей, юристы четырех держав-победительниц нашли взаимоприемлемые решения и сформировали уникальный процессуальный инструментарий, который оказался действенным.
8 августа 1945 г., через три месяца после Победы над фашистской Германией, правительства СССР, США, Великобритании и Франции учредили Международный военный трибунал. Он стал первым в истории цивилизации опытом осуждения преступлений государственного масштаба – правящего режима, его карательных институтов, высших политических и военных деятелей. Это решение вызвало одобрительный отклик во всем мире: надо было дать суровый урок авторам и исполнителям людоедских планов мирового господства, массового террора и убийств, зловещих идей расового превосходства, геноцида, чудовищных разрушений, ограбления огромных территорий. В дальнейшем к соглашению официально присоединились еще 19 государств, и трибунал стал с полным правом называться Судом народов.
В принятом в Лондоне Уставе Международного военного трибунала была юридически установлена ответственность тех, кто формировал, направлял и реализовывал политику войны как источника ненависти и массовых злодеяний. При этом криминализация агрессии как тягчайшего международного преступления обрела прочную международно-правовую базу.
Процесс начался 20 ноября. Важной чертой Нюрнбергского трибунала явилось обеспечение необходимых процессуальных гарантий для подсудимых. Обвиняемые имели право защищаться лично или при помощи адвоката, представлять доказательства в свою защиту, давать объяснения, допрашивать свидетелей…
В частности, подсудимым предоставили защитников из немцев, которым платили хорошие по тем временам деньги. Они располагали услугами 27 адвокатов (причем многие из них были в прошлом членами нацистской партии), защитникам помогали 54 ассистента-юриста и 67 секретарей. Подсудимые имели возможность знакомиться со всеми документами, которые представлялись на процессе, причем в переводе на немецкий язык. Все они понимали, что говорится на процессе: был организован синхронный перевод на четыре языка – английский, французский, русский и немецкий. Подсудимые могли представлять свидетелей. Причем количество свидетелей со стороны защиты подсудимых было в два раза больше, чем со стороны обвинения. В целом на защиту было потрачено в три раза больше времени, чем на обвинение. Достаточно сказать, например, что один только Геринг, которого все называли «наци № 2», выступал на процессе почти два дня.
В зале суда и на местах были допрошены сотни свидетелей, рассмотрены тысячи документов, фотографий, просмотрены документальные фильмы, кинохроника. Достоверность и убедительность этой базы не вызывали сомнений. Стенограммы Нюрнбергского процесса составили почти 40 томов, содержащих 16 тысяч страниц. Заседания записывались на магнитную пленку и диски.
Нюрнбергский процесс был гласным в самом широком смысле этого слова. Все 403 заседания были открытыми. В зал суда было выдано 60 тысяч пропусков, и часть из них получили немцы. Печать, радио, кино дали возможность миллионам людей во всем мире следить за ходом процесса. Именно для этой цели представителям средств массовой информации была отведена бóльшая часть мест в зале заседаний – 250 из 350.
Словом, Нюрнбергский процесс был действительно судом, а не политическим судилищем победителей над побежденными.
Нельзя не отметить, что советская делегация проделала огромную работу по подготовке к судебному процессу. Необходимо было привести в порядок огромное количество материалов и документов Чрезвычайной государственной комиссии. Требовалось также подготовить для использования на процессе трофейные документы, захваченные советскими войсками. С этой целью в Нюрнберг была направлена группа работников прокуратуры для отбора материалов, которые могли быть использованы нашими обвинителями, а также для предварительного допроса обвиняемых и свидетелей.
Для предварительного допроса обвиняемых и свидетелей, а также для надлежащего оформления доказательств, представляемых трибуналу, в советской миссии были организованы документальная и следственная части.
Государственные обвинители от Советского Союза представляли доказательства, касающиеся преступлений, совершенных не только против СССР, но и против Чехословакии, Польши, Югославии, Греции, а также преднамеренного убийства 50 пленных офицеров британского воздушного флота, бежавших в марте 1944 г. из лагеря в Сагане (их расстреляли после поимки по прямому приказу Гитлера).
В соответствии с решением, принятым на заседании Комитета обвинителей, советские обвинители допрашивали в суде 15 из 19 подсудимых.
Немало споров между союзниками возникло при подготовке приговора. Примером может служить дискуссия по вопросу об отношении трибунала к общему плану или заговору руководителей Германии.
Представитель Франции А.Д. де Вабр и его заместитель Р. Фалько не находили признаков ни того ни другого. К такой же оценке склонялся американский судья Ф. Биддл, считавший, что до Нюрнбергского процесса понятия «заговор» в международном праве не было.
Представители СССР приводили довод за доводом в пользу того, что общий план, или заговор, реально существовал, вызвал тяжелейшие последствия и ему нужно дать соответствующую оценку. Англичанин Н. Биркетт занимал такую же позицию и доказывал, что признание наличия общего плана, или заговора, является принципиальным для трибунала, иначе процесс над нацизмом, нацистской партией и государством превратится в суд над горсткой конкретных персон.
В результате был достигнут компромисс. Трибунал признал наличие общего плана, или заговора, в подготовке и развязывании агрессивных войн, но не в совершении военных преступлений и преступлений против человечности.
Приговоры отдельным осужденным также рождались в столкновении мнений. В некоторых работах отмечается жесткость советских судей, которые якобы выступали за повешение всех. На самом деле смертной казни для всех требовал Главный обвинитель от СССР Р. А. Руденко, однако советские судьи были немного другого мнения, они более дифференцированно подходили к назначению наказания подсудимым.
Передача копий документов в Документационный центр. Нюрнберг, 2014 г.
Слева – президент Нюрнбергского Верховного суда Петер Кюсперт, справа – его заместитель Эвальд Бершмидт. (Фото из личного архива автора.)
Суд не был скорой расправой над поверженным врагом.
«Сразу после войны люди скептически относились к Нюрнбергскому процессу (имеются в виду немцы), – сказал летом 2005 г. заместитель председателя Верховного суда Баварии господин Эвальд Бершмидт, давая мне интервью во время съемок фильма “Нюрнбергский набат”. – Это все-таки был суд победителей над побежденными. Немцы ожидали мести, но необязательно торжества справедливости. Однако уроки процесса оказались другими. Судьи тщательно рассматривали все обстоятельства дела, они доискивались правды. К смертной казни приговорили виновных. Те, чья вина была меньше, получили другие наказания. Кое-кто даже был оправдан. Нюрнбергский процесс стал прецедентом международного права. Его главным уроком явилось равенство перед законом для всех – и для генералов, и для политиков».
30 сентября – 1 октября 1946 г. Суд народов вынес свой приговор. Обвиняемые были признаны виновными в тяжких преступлениях против мира и человечества. Двенадцать из них трибунал приговорил к смертной казни через повешение. Другим предстояло отбыть пожизненное заключение или длительные сроки в тюрьме. Трое были оправданы.
Были объявлены преступными главные звенья государственно-политической машины, доведенные фашистами до дьявольского идеала. Однако правительство, верховное командование, Генштаб и штурмовые отряды (СА), вопреки мнению советских представителей, таковыми признаны не были.
Член Международного военного трибунала от СССР И. Т. Никитченко с этим изъятием (кроме СА), как и с оправданием троих обвиняемых, не согласился. Он также оценил как мягкий приговор о пожизненном заключении Гесса. Советский судья изложил свои возражения в Особом мнении. Оно было оглашено в суде и составляет часть приговора.
Нюрнбергский процесс приобрел всемирно-историческое значение как первое и по сей день крупнейшее правовое деяние объединенных наций.
Ведь раньше человечество не смогло найти такого консенсуса при решении вопроса о наказании агрессора. В этой связи уместно будет отметить, что безнаказанность главных зачинщиков Первой мировой войны отчасти обусловила то, что руководители нацистской Германии решились на развязывание новой мировой войны и совершили многие военные преступления. А ведь в статьях 227 и 228 Версальского договора 1918 года, юридически оформившего окончание Первой мировой войны, содержалось обязательство привлечения к уголовной ответственности кайзера Германии Вильгельма II и его приспешников. Судить кайзера должен был специальный трибунал в составе пяти судей, назначенных Великобританией, Францией, Италией, США и Японией. Однако этого не случилось.
Создание Международного военного трибунала, учрежденного для суда в Нюрнберге над главарями нацистской Германии, а также Организации Объединенных Наций, международной организации, призванной способствовать обеспечению мира, безопасности и развитию сотрудничества между государствами, безусловно, эпохальные события, заложившие фундамент послевоенного мироустройства. Было наглядно продемонстрировано, что страны даже с весьма и весьма различными идеологиями и государственно-правовым устройством могут объединяться на основе наиболее фундаментальных, общечеловеческих принципов права для защиты основополагающих интересов мирового сообщества.
За рубежом много пишут и говорят о «своих» участниках процесса, но там практически нет книг о советских представителях, которые до Нюрнбергского процесса в тяжелых условиях войны собирали доказательства обвинения, а во время самого процесса боролись за торжество правосудия и справедливый приговор.
В этой связи, конечно, будет справедливо вспомнить нашего Главного государственного обвинителя на Нюрнбергском процессе Романа Андреевича Руденко.
Главный обвинитель от СССР генерал-лейтенант Роман Андреевич Руденко во время выступления на международном судебном процессе над бывшими руководителями гитлеровской Германии в городе Нюрнберге.
(Фото Виктора Кинеловского.)
Юноша из многодетной крестьянской семьи, Руденко прошагал все нелегкие ступеньки прокурорской карьеры. За год до войны освобожденный от должности прокурора Сталинской (ныне Донецкой) области и едва не репрессированный, он в первые же дни войны стал проситься на фронт. Во время войны начинается его стремительный рост – в 1943 г. он уже был прокурором Украины.
В отличие от своих коллег – главных обвинителей от Великобритании, США и Франции, – Руденко не понаслышке знал, что такое война и зверства фашистов. До Нюрнберга он руководил одной из следственных групп, которая шла за войсками и собирала доказательства фашистских злодеяний. Потом в качестве обвинителя Руденко участвовал в Московском процессе, проходившем с 20 по 22 июня 1945 г.
Выступления Романа Андреевича в Нюрнберге были убедительными, громкими, юридически выверенными, доказательными и резонансными. В своих выступлениях он не просто обвинял – он сумел подняться до философских высот осмысления мировой трагедии. Разоблачал глубинную сущность фашизма, людоедские планы уничтожения целых государств и народов, непреходящую опасность идей национального превосходства. Доводы Главного советского обвинителя легли в основу признания агрессивной войны тягчайшим преступлением.
Хочется еще раз повторить: СССР сыграл огромную роль в создании, а представители нашей страны внесли весомый вклад в работу Нюрнбергского трибунала.
Во-первых, сама идея его учреждения изначально принадлежала Советскому Союзу. И руководству нашей страны удалось реализовать ее, несмотря на сопротивление, как видим, в самом начале войны со стороны союзников по антигитлеровской коалиции.
Во-вторых, советские дипломаты и юристы провели большую работу по заключению союзниками в 1945 году Соглашения о судебном преследовании главных военных преступников, на основе которого был создан и работал Международный военный трибунал в Нюрнберге.
В-третьих, советская делегация провела большую и многотрудную работу в период подготовки судебного процесса и его проведения, очень много сделала для разоблачения преступной деятельности главных военных преступников и поддержания обвинения во время работы Нюрнбергского трибунала, а также вынесения приговора.
Нюрнбергский процесс оказал большое влияние на развитие международного законодательства. После процесса началась новая эра, оказавшая важное влияние на все сферы жизни и международной законности. Суд народов заложил хороший мощный фундамент для последующего принятия основополагающих правовых документов, которые определили послевоенное мироустройство.
Казалось, перед всеми странами открылись перспективы коллективного и мирного решения проблем для мирного будущего без войн и насилия.
Но, к сожалению, человечество слишком быстро забывает уроки прошлого. Вскоре после известной Фултонской речи Уинстона Черчилля, несмотря на убедительные коллективные действия в Нюрнберге, державы-победительницы разделились на военно-политические блоки, и работу Организации Объединенных Наций осложнило политическое противоборство. Тень «холодной войны» на долгие десятилетия опустилась над миром.
В этих условиях активизировались силы, желающие пересмотреть итоги Второй мировой войны, принизить и даже свести к нулю главенствующую роль Советского Союза в разгроме фашизма, поставить знак равенства между Германией, страной-агрессором, и СССР, который вел справедливую войну и ценой огромных жертв спас мир от ужасов нацизма.
Чтобы помнили!
Сегодня появилась масса публикаций, фильмов, телевизионных передач, искажающих историческую реальность. В «трудах» бывших бравых наци и других многочисленных авторов обеляются, а то и героизируются вожди Третьего рейха и очерняются советские военачальники – без оглядки на истину и действительный ход событий. В их версии Нюрнбергский процесс и преследование военных преступников в целом – всего лишь акт мести победителей побежденным. При этом используется типичный прием – показать известных фашистов на бытовом уровне: смотрите, это самые обычные и даже милые люди, а вовсе не палачи и садисты.
Например, рейхсфюрер СС Гиммлер, шеф самых зловещих карательных органов, предстает нежной натурой, сторонником защиты животных, любящим отцом семейства, мужчиной, строго пресекающим непристойности в отношении женщин.
Кем была эта «нежная» натура на самом деле? Вот слова Гиммлера, произнесенные публично: «…Как себя чувствуют русские, как себя чувствуют чехи, мне абсолютно все равно. Живут ли другие народы в благоденствии или вымирают с голоду, меня интересует лишь постольку, поскольку мы можем их использовать в качестве рабов для нашей культуры, в остальном мне это совершенно все равно. Умрут ли при строительстве противотанкового рва 10 тысяч русских баб от истощения или нет, меня интересует лишь постольку, поскольку этот ров должен быть построен для Германии…»
Это – сама правда. Откровения в полной мере соответствуют образу создателя СС – изощренной репрессивной организации, творца системы концлагерей, ужасающих людей и по сей день.
Лев Николаевич Смирнов, помощник Главного обвинителя от СССР на Нюрнбергском процессе, рассказывал, что когда он готовился выступать по разделу обвинения «Преступления против мирного населения», то знакомился с «ужасающими документами», которые проливали свет, в частности, на дьявольские утехи коменданта Яновского лагеря оберштурмана Вильгауза. Этот мелкий служка сатаны постоянно стрелял из автомата с балкона в работающих заключенных. Потом передавал автомат жене. И она тоже стреляла. Ну а чтобы доставить больше удовольствия рядом стоящей девятилетней дочери, Вильгауз требовал подбрасывать в воздух двух – четырехлетних детей и стрелял в них. Дочке это очень нравилось – она хлопала в ладоши и кричала: «Папа, еще!» И папа стрелял еще и еще…
И это тоже правда, от которой стынет кровь.
Теплые слова находятся даже для Гитлера. В фантастическом по объему «гитлероведении» он и храбрый воин Первой мировой войны, и артистическая натура – художник, знаток архитектуры, – и скромный вегетарианец, и образцовый государственный деятель. Есть точка зрения, что, если бы фюрер прекратил свою деятельность в 1939 году, не начав войны, он вошел бы в историю как величайший политик Германии, Европы, мира!
Но есть ли сила, способная освободить Гитлера от ответственности за развязанную им агрессивную, самую кровавую и жестокую мировую бойню?
Конечно, позитивная роль ООН в деле послевоенного мира и сотрудничества присутствует, и она абсолютно бесспорна. Но несомненно и то, что эта роль могла бы быть гораздо весомее.
К счастью, глобального столкновения после Нюрнберга не состоялось, но военные блоки нередко балансировали на весьма острой грани. Локальным конфликтам не было конца. Вспыхивали малые войны с немалыми жертвами, а в некоторых местах планеты возникали и утверждались террористические режимы.
Приходится констатировать, что рецидивы прошлого в разных уголках планеты гулким эхом звучат все чаще и чаще. Мы живем в неспокойном и нестабильном мире, год от года все более хрупком и уязвимом. Противоречия между развитыми и остальными странами становятся все острее. Появились глубокие трещины по границам культур, цивилизаций.
В своей самой опасной – международной – разновидности развязывание новых конфликтов направлено против всей цивилизации. Сегодня это явление представляет серьезную угрозу, и нужно новое, твердое, справедливое слово в борьбе со злом, подобное тому, которое сказал в 1946 г. германскому фашизму Международный военный трибунал в Нюрнберге.
Успешный опыт противостояния агрессии во время Второй мировой войны актуален по сей день. Многие подходы применимы без изменений, другие нуждаются в переосмыслении, развитии. Впрочем, выводы вы можете сделать сами.
Никто сегодня не может утверждать, что свобода и демократия утвердились в мире окончательно и бесповоротно. В этой связи напрашивается вопрос: сколько и каких усилий требуется предпринять человечеству, чтобы из опыта Нюрнбергского процесса были сделаны конкретные выводы, которые воплотились бы в добрые дела и стали прологом к созданию миропорядка без войн и насилия, основанного на реальном невмешательстве во внутренние дела других государств и народов, а также на уважении прав личности?
2
Дональд Маклейн был первым секретарем английского посольства в Вашингтоне и имел доступ к совершенно секретным документам американской атомной программы. C лета 1955 г. Маклейн проживал в Москве. С того же года работал в журнале «Международная жизнь», печатался под псевдонимом С. Модзаевский. С 1961 г. до своей кончины Маклейн трудился в Институте мировой экономики и международных отношений АН СССР. В 1983 г. Дональд Дональдович Маклейн умер от сердечного приступа.