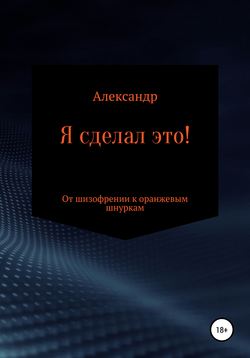Читать книгу Я сделал это! От шизофрении к оранжевым шнуркам - Александр - Страница 3
Глава 2. Первые годы. "Я не сделаю это”.
ОглавлениеНачались первые годы моей жизни, время праздности и беззаботности. Ну и материнской юбки, в случае неожиданных проблем. Само собой, сам я из раннего детства ничего не помню и лишь знаю рассказы родителей. Как же именно зарождались внутренние конфликты будущего пациента психиатра, которые скорее всего сыграли роль если не в самой шизофрении, то в ее субъективной тяжести? Каким ребенком я был? Судя по описаниям близких, я был очаровательным, умным, добрым и очень спокойным малышом. Что касается внешности в тот период, то мама говорит о ней, как об исключительной, и в этом вопросе действительно очень приятно положиться на мнение знающей женщины. Что ж, если еще в роддоме все врачи и медицинские работники сошлись на том, что такого симпатичного подопечного у них давно не было, то как жаль, что в начале четвертого десятка я выгляжу более-менее, как все. Вопрос некой внешней красоты в дошкольном возрасте затронут здесь не просто так, он на долгие годы стал аргументом моих родных в те моменты, когда у сына или внука что-то не получалось. Особенно у внука. Бабушка еще долго твердила при неудачах:
– Ну как же так?! Ты же красивый! Ты должен был это сделать!
Связь здесь мне до сих пор не очень понятна, хотя я и знаком с мнением, что у привлекательных людей в жизни действительно может получаться больше. Но давайте тогда сузим этот вопрос до взаимодействия с другими: вероятно, у тех, кто и правда отлично вышел лицом, просто может быть больше участия и помощи от окружающих, которые им симпатизируют. Да, в дошкольном возрасте мне и правда хватало и внимания ровесниц, иногда повышенного, и благосклонности окружающих. А особенно если они видели на своем любимчике белую рубашечку с бордовой бабочкой, а сверху – милые искренние глаза.
Однако, во взрослой жизни от тех приятных моментов ничего не осталось. Может быть, как раз потому, что не осталось ничего и от симметричного лица с выразительным взглядом. Нет, сейчас я в жизни точно не получаю ничего особенного благодаря какой-то необычной внешности, да и нет ее уже давно. Впрочем, это мнение субъективно, и я специально написал данный абзац, чтобы показать скорее решенный внутренний конфликт молодого мужчины, которому его лицо почти безразлично. Что ж, возможно, вам будет куда интереснее зарождение других внутренних противоречий. Я опишу их, и прямо сейчас. У каждой главы должно быть такое начало, которое готовит к драматичной середине, нагнетающей эмоции перед финальной разрядкой. Хотя все главы разные. Особенно если ты еще только пытаешься стать писателем.
Если говорить про мой интеллект в первые годы жизни, то согласно убеждению родителей, я был также и очень умным. Скорее всего, так и есть. Ведь близкие могут оценить это более-менее объективно. Но в чем же мой ум выражался? В легкости решения задач, конечно. Еще до того, как я научился говорить, все давалось и правда достаточно легко. Ну как, все? Лишь то, за что брался, а ведь благодаря родителям я сталкивался только с теми препятствиями, которые соответствовали имеющимся талантам. Меня попросту ограждали от нехарактерных занятий, чтобы ещё больше развивать в том, что шло хорошо. Если ни к какой физической активности я способностей не проявлял, то ни к чему такому меня и не приучали. А ведь вспомните про материнскую юбку, в которую можно было уткнуться в случае чего, причем гораздо чаще, чем ровесникам. В общем, началось балование. Я развивался непринужденно, и была только одна серьезная проблема, которая косвенно относилась к интеллекту.
Я очень долго не мог заговорить, хотя, конечно, хорошо понимал как речь, так и происходящее вокруг. Обычно в таких случаях родителей малыша успокаивают тем, что однажды его прорвет, и он заговорит сразу предложениями. Думаю, такое всегда приятно слышать, но при этом тревога и даже отчаяние – верные спутники родственников "молчуна". Особенно когда они видят речевые успехи чужих детей. В песочнице на детской площадке мы часто играли с девочкой из соседнего дома, ее звали Н. Мои мама и ее дедушка любили поболтать о том, о сем, пока мы лепили из песка домики и фигуры. Н., будучи точно такого же возраста, уже отлично говорила, и как же мне, судя по рассказам, было неловко от этого. Наверняка я понимал, что не могу чего-то важного, в чем она уже преуспела.
– Бууу! – показывал я на стоящую неподалеку машину.
– Это машина красного цвета. – говорила Н.
– Боже мой! У нее получилось, а у меня нет! Я не смогу! Я… Я не сделаю это! – вероятно, переживал я – Киии! – радостно пытался я перегнать Н. в словах..
– Ну да, у кисы хвост. – спокойно сообщала Н.
– Боже мой! Я… Ведь я и правда не сделаю это! Как же быть? – может быть, продолжал расстраиваться я.
Однако, в возрасте двух с половиной лет меня наконец “прорвало”, и я и правда заговорил сразу предложениями, которые быстро переросли в длинные истории и сказки. Ох, что уж тут началось! Родители говорят, что я мог болтать часами, причем остановить эти рассказы было невозможно. А ведь речь о возрасте менее трех лет. Врачи быстро пришли к выводу, что перед ними ребенок-вундеркинд. Ну а я быстро почувствовал к себе соответствующее отношение, что расхолаживало еще больше. Однажды, когда я в очередной раз приставал со своими рассказами к уставшему от начала девяностых дедушке, он сказал, что необходимо делать в жизни такому болтливому мальчику.
– Дед, что мне делать?
– Напиши книгу, когда вырастешь.
Первое складное стихотворение появилось в возрасте около трех лет, ну а книга… Надеюсь, что наконец-то вырос.
Что же касается доброты и спокойствия, то близкие говорят, что никакая злоба, никакая агрессия никогда не были мне присущи. Если в первые месяцы жизни я вообще почти не плакал, то и дальше практически не проявлял эмоций. Ну, они были, конечно, но лучше всего описать их так: помните милого инопланетянина из фильма с соответствующим названием? Вот примерно так у меня и было. В эпитетах мамы, бабушки и дедушки, которыми они описывают невероятную хорошесть и необычность свалившегося им на голову "инопланетянина", следует прочитать любовь ко мне, когда я еще был совсем маленьким. Возможно, доброта в характере и берет начало в том раннем принятии с их стороны. Впрочем, я знаком с точкой зрения, что она определяется генами.
С самого рождения я действительно был очень необычным. Думаю, может быть, и слабые эмоции с этим связаны. Я очень любил фантазировать, не понимая, где заканчиваются выдумки, а где начинается жизнь. Ну а когда заговорил сразу сложными и длинными историями, текстами, то они почти только из фантазий и состояли. Я и сейчас люблю посидеть, поразмышлять, представить себе что-то снова и снова, и ещё раз пофантазировать о только что придуманном. Хотя с годами я, конечно, и научился хотя бы отделять свои грезы от окружающей реальности. Вероятно, уже в раннем детстве я сторонился тех, кто пытался вернуть меня к ней. Действительно, если ты большой выдумщик, то вряд ли тебе будет приятно, когда другие мешают заниматься любимым делом, да при этом еще и давая понять, что оказывают тебе услугу. Нет, никакая это не услуга. Во взрослой жизни в таких ситуациях вопросы вроде "А как ты жить-то собираешься?" или "Ну, что ты придумал сегодня?" – это плохие вопросы. Потому что вы все равно не получите на них ответа, а вот мечтателя можете и задеть за живое. Ведь он в своем выдуманном мире, и ваша реальность ему безразлична. Что же, вероятно, начало происходить в моей душе в первые годы жизни?
Здесь необходимо немного порассуждать. Ну конечно же, представить пару умозрительных конструкций и порассуждать, как вы, наверно, уже поняли. Смотрите: пусть перед вами ребенок, который больше живет согласно своим выдумкам, и он живет больше в них, чем в мире ваших событий, проблем, идей. Вы на эти события как-то реагируете, решая свои задачи. Да попросту говоря, вы живете. И, возможно, вам кажется, что у такого ребенка не все в порядке. Но тогда вы станете для него чуждым человеком, потому что вовсе не соответствуете его выдуманной вселенной. Вы чужой, вы будто отрываете ребенка-выдумщика от нее, то есть, от самой его сути. И что тогда будет делать такой малыш? Скорее всего, побаиваться и пытаться избегать вас. И здесь получается о двух концахг: чем больше он любит фантазировать, и чем сильнее вы пытаетесь помешать этому, тем дальше вы друг от друга станете. Ребенок, вероятно, лишь будет уходить в себя больше и больше, пока в какой-то момент, дай бог как можно более отдаленный, не поймет, что слышит какие-то голоса, например.
Очевидно, ввиду описанного выше, мозг такого ребенка постепенно учится фантазировать даже в том, что он слышит, а может, даже и видит. Единственный выход из ситуации, когда малыш еще только увлечен своими грезами и не обнаруживает симптомов шизофрении, это на самом деле не замечать его особенностей. Я хочу подчеркнуть: не делать вид, что вы их не замечаете, а на самом деле не замечать, то есть вообще никак не реагировать, даже едва заметными выражениями лица. Он же их все равно заметит! Но не замечать – это же практически невозможно! К сожалению, так оказалось и в моем случае. Однако, как же все-таки быть с таким ребенком? Мой ответ: понять, что он и не должен быть обычным, как все. И общаться с ним как с отдельной личностью, а не как с кем-то, прилепленным к вашему интересу его переделать. Вы его все равно не переделаете.
Тогда, в первые три года своей жизни, я ещё не совсем замкнулся в своих мечтах. Я еще жил, если можно так сказать, еще любил кататься сначала на четырех-, а потом и на трехколесном велосипеде, привезенном дедушкой бог знает из какого города. Во время таких поездок необходимо внимательно смотреть, не подрезает ли тебя справа А., или не выбегает ли на дорогу Ю. Которые, конечно, так и норовили подрезать и выбежать. Нужно, двигаясь навстречу другому маленькому велосипедисту, кричать: "Би-бип!". Может, и достаточно спокойно кричать, без какой-то искры в голосе, что ли. Но кричать же, то есть реагировать на происходящее вокруг. А когда столкнешься, по-доброму сказать: "Бип, что ли! Ну я же бибикал, ну ты чего?". И очень мило улыбнуться.
Я был, помимо всего, еще и очень милым малышом. В соседнем подъезде жила моя ровесница Р., ее мама и бабушка умилялись мне, как и многие во дворе. Знаете, дети вызывают разные эмоции, а я вот в те годы чаще всего вызывал умиление. Р. была умной, хорошо развитой для своего возраста девочкой, особенно если учесть профессию ее бабушки – педагог с советским образованием. Да, я хочу обозначить эту профессию именно так. Р., может быть, тоже умилялась мне. Достаточно частыми стали походы в гости в семью девочки. Ее бабушка всегда знала, чем нас занять. Как зная свою внучку, так и хорошо понимая мои особенности, она умела придумать подходящее нам занятие, поэтому совместные игры были интересны нам обоим. Р. была первой, которая влюбилась в меня. Будучи ребенком, я не мог этого понять, а ведь мы с ней могли бы сохранить общение на десятилетия. Лишь по рассказам родителей я знаю, как она млела, когда видела меня, как торопилась разложить игрушки. К сожалению, я ничего подобного не испытывал, будучи еще слишком маленьким. Я вообще ходил в их семью, чтобы поиграть да полакомиться чем-нибудь вкусненьким, судя по всему. Вот он, ответ на вечный вопрос о том, что среди ровесников девочки чаще развиваются быстрее, чем мальчики.
Как же складывались мои отношения с другими девчонками во дворе? Ответ будет кратким: как со всеми. Я очень поздно пошел в детский сад, поэтому социальные аспекты взаимодействия с людьми до сих пор представляют большую проблему. Ну а в детстве я вообще практически не понимал их. С дошкольными учреждениями сложилось далеко не сразу по причине постоянных простуд и других проблем со здоровьем. Поэтому даже и во дворе я гулял не так уж и часто. Ну, что же тут говорить о навыках общения, которые быстро получали другие дети? Легко понять, что в это время я больше сидел дома с бабушкой и, конечно же, без конца фантазировал, иногда пугаясь собственных выдумок, или играл в спокойные игры. Такое ощущение, что врач в детской поликлинике в какой-то момент просто махнула рукой: "Ладно, пусть болеет, все равно когда-нибудь перестанет". Родители утверждают, что занимались только моим лечением. Скорее всего, чей-то тихий шепот "Я не сделаю это" звучал в моей голове все отчетливее. Что же это за шепот такой? И вообще, как я понимаю собственные мысли?
Здесь хотелось бы немного отойти от рассказов про свое раннее детство и описать один из симптомов шизофрении от первого лица. Я искренне верю, что это поможет здоровым читателям лучше понимать таких пациентов. Все свои мысли я будто слышу, причем их озвучивает мой собственный голос. Я не думаю их, а именно слышу, какими бы странными эти слова ни выглядели. Это не звуки, совсем нет, это скорее какой-то невнятный шепот, но я действительно постоянно слышу свой голос, когда думаю о чем-то. Он где-то внутри головы. По-другому и не бывает. Я узнал о том, что это вообще является проблемой, в юности, чему был очень удивлен. Другие люди не всегда понимают этот симптом и, разводя руками, говорят, что думают свои мысли. Но как это – думать их? Что это значит? Я правда не знаю этого. Разве не свой голос сообщает их человеку? Вот скромное и достаточно короткое описание одного из так называемых "симптомов первого ранга" при шизофрении. Думаю, сейчас на эту тему пока достаточно.
Итак, о каких же ещё проблемах и страхах, превратившихся впоследствии в глубокие внутренние конфликты, мой собственный голос, вероятно, нашептывал мне в первые годы жизни? Ну, помимо "Я же красивый, почему у меня не получилось", "У меня вообще не получится" и "Я хочу быть как можно дальше ото всех" (ведь все время сидя дома, перестаешь хотеть быть ближе к ровесникам, наверно)? С какой тяжёлой проблемой я столкнулся?
Однажды, когда мне уже исполнилось три года, я проходил мимо лавочки у подъезда. Там сидели бабушки, причем, кажется, те же самые бабушки общаются на этой лавочке до сих пор. Одна из них что-то спросила меня, а я не смог ответить.
– Т… т… ттт…
Я никак не мог выговорить. Заикание началось резко, без видимых причин, и было сильным. В речевой центр, известный далеко за пределами региона, брали только с пяти лет, поэтому мне еще предстояло около двух лет страданий, которые на долгие годы стали сомнениями в том, что я полноценный ребенок. Я заикался на одних и тех же согласных: Т, П, Б, К, а иногда даже на гласных. Как трехлетний фантазер со стажем, я уже тогда заявил родителям, что заикаюсь потому, что испугался упавшего на голову стекла. На самом деле, конечно, никакое стекло не падало.
Проблема была очень серьезной, ведь в какие-то моменты я и вовсе не мог говорить. Все это, видимо, усугубило мои тревожность и замкнутость, которые начались задолго до начала заикания, а именно, ещё с самого рождения. И вот здесь я хочу сказать: беззаботные и светлые годы подошли к концу. Три, три с половиной – тот возраст, когда я перестал нормально говорить, а точнее, болтать – он же и будто разделил жизнь на "до" и "после", и это был первый из таких моментов. Ну как "человек-радио" может запинаться, не будучи в состоянии ничего сказать? Что же это за радио такое, которое старается молчать, и что будет с таким ребенком? Да и потом, как вам сказать? Я считаю, что мало кому нравится, когда ребенок комплексует из-за какого-то дефекта, а заикание – это дефект. Видимо, сама по себе проблема и не вызывает у людей ничего негативного, но вот реакция на нее самого малыша, его страхи – вполне могут вызывать. Я не утверждаю здесь, что любой сильно заикающийся обязательно испытывает отвержение ото всех подряд, а лишь говорю, что его сомнения в себе самом могут быть неприятны другим.