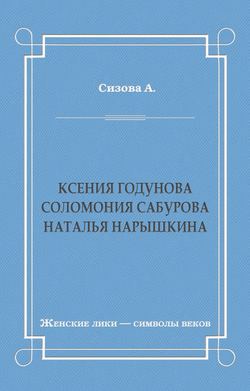Читать книгу Ксения Годунова. Соломония Сабурова. Наталья Нарышкина - Александра Сизова - Страница 2
Ксения Годунова
Часть первая
ОглавлениеI
1603 году бабье лето в Москве стояло сухое, теплое. Дома утопали в зелени садов, паутина летала в воздухе и обещала хороший сентябрь. По случаю ясной погоды много любопытных толпилось в Кремле, на площадке перед дворцом и у постельного крыльца. Утро давно началось, было девять часов, когда туда же пришел пожилой боярин в высокой шапке и дорогом кафтане. До самого крыльца его провожали слуги. Знаком руки он велел им остаться и ждать его, а сам взошел на верхний рундук. Входил он неторопливо, важно, на верхней площадке остановился, постоял, а потом решительно вступил в сени. Тут в небольшой комнате в три окна было уже много народу. Увидев входившего боярина Богдана Бельского, ожидавшие посторонились, отвесили ему низкий поклон, но он едва посмотрел на них. Недовольные не поскупились своими замечаниями:
– Ишь, куражится-топорщится! Он и взаправду думает, что сам Сатана ему не брат!
– Глянь-ка, до него с земли и шестом не достанешь! Ишь, вздулся, как тесто на опаре!
– Не те нонче времена, погуляли Бельские, да и будет! Не в чести они у царя Бориса Федоровича.
– Фу-ты ну-ты боки вздуты! – сказал один и, подпершись руками, прошел козырем.
В сенях засмеялись.
Боярин не слышал обидных замечаний. Он прошел дальше и неторопливо снял верхнее платье, долго расчесывая и оправляя свою длинную черную бороду и густые непокорные волосы. Затем он медленно прошел через следующую комнату в три окна и вышел в другую, где сидело уже несколько бояр в ожидании выхода царя. Увидел здесь Богдан Бельский Федора Ивановича Мстиславского, который приветливо улыбнулся ему и тотчас же добродушно заговорил:
– Что, боярин, позамешкался? Понедужилось аль больно притомился с дальней дороги?
– Утомился, сильно утомился, больно гнал в Москву, торопился, думал: веселую свадебку сыграешь без приятеля. Я-то тут, да вот, кажись, опять ничего не слыхать о твоей женитьбе?
– Правда твоя, боярин, правда! Опять дело не сладилось, зато теперь уж батюшка-царь сам обещал сосватать мне невесту, вот я и жду.
– Эх, доброта ты доброта! – как бы про себя заметил Бельский.
Мстиславский был действительно человек замечательно добрый, которого трудно было вывести из себя. По смерти царя Федора Ивановича он, старейший из бояр, был единственным, не желавшим престола. Он был очень богат, от природы ленив, а благодаря своему высокому положению жил холостяком. Царь Борис Федорович боялся, что его потомки могут быть соперниками его собственным во владении престолом и поэтому каждый его выбор невесты то по тем, то по другим соображениям не одобрял, находя разные неудобства, а Федор Иванович добродушно покорялся.
– Брал бы ты себе за образец Василия Ивановича Шуйского, покорился бы отказу и не утруждал царя больше просьбами, – сказал ему Бельский.
Шуйский не чета был Мстиславскому; он тотчас понял намек и лукаво-добродушно заметил:
– Батюшка-царь, яко добрый отец, о нас же, его недостойных холопях, печется. Наш черед настанет, вот отпразднуем царевнину свадьбу, тогда попируем и на наших, боярских.
Бельский был не в духе и, посмотрев на него сердито, сказал:
– Вот что разумно, так разумно, боярин, неспроста ты это слово молвил. Да только вот что ты запамятовал: больно пригожа княжна Буйносова, в девках не засидится, царевниной свадьбы ждать не будет. Надо поспешать, а то и близок локоть, да не укусишь: живо станет под венец с другим.
Шуйский, услышав это, сильно заморгал всегда слезившимися красными глазами и, отвернувшись от Бельского, тихо стал говорить с Семеном Годуновым. Неприятны ему были слова, сказанные о княжне. Только для виду помирился он с запрещением ему жениться, а очень тяжело ему было отказаться от красавицы Буйносовой-Ростовской. Знал он ее давно, мечтал жениться на ней, сильно любил ее. Да и времени терять не хотелось ему, ведь немолод он.
В этот разговор вмешался князь Шестунов, безвредный болтун, любивший поесть, выпить, но не способный ни на какой подвох. Услышав о свадьбах и пирах, он не понял ядовитого замечания Бельского и, по привычке, быстро заговорил:
– Давно пора вам жениться. За невестами дело не станет: добра этого непочатой угол. Вот тогда авось расщедрился бы боярин Шуйский! После его угощения у нас в головах бы трещало, в ушах бы шумело! Застоялось вино старое, заморское в его погребах – давно пора осушить бочки…
Все эти бояре ожидали выхода царя Бориса Федоровича Годунова, пригласившего их «посидеть о государевом деле». Кроме старых бояр были еще вновь возвышенные и находившиеся в близком родстве к царю два Годунова, конюший Дмитрий Иванович да дворецкий Степан Васильевич. Был еще заведующий Аптекарским приказом Семен Никитич Годунов. Важную роль играл и Дмитрий Иванович Шуйский, он приходился свояком царю. Вошли они позже других и приняли милостиво низкие поклоны старых бояр; по своему высокому положению они заняли места ближе к царскому креслу. На скамьях, покрытых рудо-желтым сукном, перед столом, тоже покрытым, разместились все бояре.
Появление двух рынд указало и на скорое прибытие царя.
II
В то время как бояре сидели в комнате и ожидали выхода царя, Борис Федорович был на женской половине и наедине беседовал с женой и детьми. Годунову было в то время пятьдесят лет. Голос у него был льстивый, мягкий, глаза, обыкновенно внушавшие страх, здесь, в семье, смотрели ласково.
И любил он семью как лучшую часть самого себя.
Как только ушли провожавшие его, он ласково поздоровался с женой и особенно нежно расцеловал свою красавицу дочь.
– Аксюша, дитя мое, скоро исполнится наша заветная дума, – сказал он, целуя дочь. – Дожили мы до того, что и нам дает Бог участие и мы увидим нашу дорогую голубку под венцом.
Жена его Марья Григорьевна радостно спросила:
– А разве жених уже близко?
– Да, – сказал царь, – сегодня приехали посланные и привезли известие, что и сам королевич торопится – просит везти его скорее.
Царевна знала, что взоры всех обращены на нее, и скромно опустила глаза. Сердце ее сильно билось. Она привыкла уже к мысли, что жених приедет скоро, а тут примешивалось еще и сильное любопытство, каков-то этот человек. Ведь он один последнее время занимал не только ее, но и все их семейство, только и разговора было, что про него.
Тринадцатилетний Федор обратился к отцу с просьбой сказать, что ему еще пишут о королевиче.
– Вот что пишет мне Михаил Глебович Салтыков: «В новолетие королевич сказал: я знаю, вы в сей день празднуете Новый год, все желают многолетия государю, и я также усердно молюсь: да здравствует он! Потом спросил вина и стоя пил царские чаши».
– Батюшка, скорей бы он приезжал, верно, он добрый, хороший, и я полюблю его, – быстро сказал Федор.
Марья Григорьевна, любуясь Ксенией, сказала, вздохнув:
– Чем-то Господь взыщет, вознесет нашу голубку? Сросшиеся брови ведь у нее, сулят они ей счастье.
Мать и отец с восторгом смотрели на дочь и думали: как не полюбить такую красавицу разумницу?
Она была роста среднего, полна, стройна, очень бела; ее густые длинные волосы локонами лежали по плечам; лицо свежее, румяное, союзные брови придавали ему строгое выражение; глаза большие, черные, блестящие, замечательно красивые.
С добрый час оставалась вся семья вместе, и, видя Бориса, окруженного детьми, невольно думалось, как мог бы он быть счастлив, если бы не честолюбие. Сильно не хотелось царю оставлять терем, но, вспомнив, что бояре ждут, он ушел. Как только удалился он от жены и детей, взгляд его переменился, лицо приняло обычное грозное и суровое выражение. Мысли его теперь были заняты уже не счастьем любимого детища, а тем, как неприятно будет его врагам, как досадно будет Бельскому, Шуйскому его родство с сильным государем.
Ксения и Федор думали о королевиче Иоанне без всякой примеси отцовского честолюбия и наедине припоминали подробности письма. Ксении приятно было восхищение брата удалью и ловкостью королевича.
Царевну занимала мысль: так ли он красив, как смел и храбр?
Ей шел двадцать первый год. Все ее подруги были уже замужем, и воспитание готовило ее к тому же; выбор был один – замужество или монастырь.
Подруги рассказывали ей о счастье то одной, то другой, а Ксении благодаря своему высокому положению приходилось долго ждать своей очереди; для нее не было жениха-ровни – и вот наконец-то и она невеста.
К царице по уходе царя собрались постельницы, богомолицы, и все углубились в рассматривание рукоделья. Дело это было трудное: лежали целые вороха белья, по нескольку десятков было впялено одних стеганых одеял.
– Жених скоро прибудет, – шепотом передавалось в мастерской.
Узнав о скором прибытии жениха, весело заторопились, закопошились швеи, зашумел весь этот людской муравейник.
III
Борис, поддерживаемый под руки двумя окольничими, важно и медленно вошел в комнату, где сидели бояре. Те быстро вскочили и низко поклонились ему, касаясь рукой до земли.
Дьяк Щелкалов поместился позади царского места и ждал приказаний. Годунов обвел присутствующих взглядом, и едва заметная улыбка раздвинула углы его губ, но, остановившись на Богдане Бельском, глаза его заблистали злым огнем. Бояре заметили недовольство царя и низко опустили головы. Борис тотчас же овладел собой и велел Щелкалову докладывать. В то время когда велся разговор об очередных делах, Борис все думал о приезде дорогого гостя и вскоре, не дав еще дьяку кончить, заговорил:
– Верные мои бояре! Ведомо нам учинилось, что светлейший королевич, брат могучего славного государя датского, скоро прибудет в Москву. Бог не до конца еще на нас прогневался и посылает нам великую радость. Собрались мы здесь, чтобы обсудить, как принять его, дабы не унизить и не посрамить земли Русской перед иноземцами.
– Повели только, государь, и мы, твои рабы, готовы исполнить все! Не только достатки, но и животы наши в твоей да Божьей власти, – подобострастно заметил Шуйский.
– А уж я не пожалею ни мошны, ни труда, на славу выряжу своих челядинцев! У меня богатых нарядов не занимать стать, не ударю лицом в грязь, – добродушно сказал Мстиславский.
– Не в этом только дело, – вздохнув, продолжал царь Борис, – надо нам обдумать, как бы закрыть прорехи поважнее. Не заметили бы иноземцы нищеты, голода, посланного нам свыше за наши тяжкие грехи и беззакония… Прочти, Щелкалов, отписку воеводы Буйносова-Ростовского.
Тот стал читать:
– «Ямские охотники от хлебной дороговизны охудали, лошади у них попадали, московской дороги всех ямов охотники от дороговизны, падежа и большой гоньбы хотели бежать, но Михайло Глебович Салтыков их уговорил перетерпеть; новгородские ямские охотники также хотели бежать, и воеводы, видя их великую нужду, дали им по рублю на человека, чтобы не разбежались».
Призадумались бояре. До сих пор бессильны были все меры, употребляемые в борьбе со страшным злом. От голода люди мерли во множестве, а развившиеся болезни уносили и состоятельных людей. Все молчали, и Борис грустно задумался, а потом сказал:
– Передайте всем моим царским словом, что кто покажется на улице не нарядным, будет взыскан моим гневом. Служилым людям пусть отпустят одежды из моей казны. Прием и встреча должны быть подобающими его званию и нашему могуществу. Нищим отпущу по деньге, а вы говорите народу, что царь о нем думает и промышляет, где достать хлеба. Ведомо мне, что в Северской земле урожай; пусть потерпят немного, пока оттуда хлеб доставят сюда.
Потолковав еще, царь скоро отпустил бояр. Видел он, что в душе большинство бояр не сочувствуют его радости, что не одобряют они его любви ко всему иноземному, порицают за то, что окружил он себя немцами, приблизил к себе иностранцев докторов. Но царь Борис Федорович был силен на престоле, и это его мало беспокоило. Так и теперь бояре с видом полной покорности и преданности низко поклонились ему, и все отправились одной дорогой до выхода из Кремля.
Мстиславский и Бельский пошли к хлебосольному Шестунову обедать. Там ждал их приятель Богдана Бельского, Акинфий Зиновьев. Когда они пришли, из сеней уже доносился запах съестного: вкусно пахли разные кулебяки и жаркое. Стол был уже накрыт скатертью, и на нем стояли блюда, покрытые крышками. Перед обедом прочитана была заздравная молитва за царя. Обычай этот был введен только Борисом, но тем не менее за его исполнением строго наблюдали. Шестунов как хозяин прочел:
– Дай, Боже, царю Борису, единому, подсолнечному, христианскому царю и его царице и их чадам на многие лета здравия, дабы они были недругам страшны.
– Аминь, – сказали все присутствующее, молча принялись за еду и, только утолив голод, стали беседовать.
Первым начал Богдан Бельский:
– Да, Акинфий, видно, и взаправду, кто кого смог, тот того и с ног. Осилил нас Борис и добирается, как бы совсем погубить. Видно, мы ему поперек горла стали.
– Полно, Богдан, – сказал Зиновьев, – не место тут: то и дело мерзавцы снуют да подслушивают.
– Ишь, тоже доброта! Деньги нищим раздает, не ведает, знать, Борис, что не та милостыня, что мечут по улицам, – добра та милостыня, что дана десною рукою, а шуйца не ведала бы.
– Полно, Богдан, удержи ты свой язык, – говорил Зиновьев.
Но Бельский не унимался:
– Зачем вернул он меня с Низу назад? Там я жил – не тужил. Борис был царь в Москве, а я царь в Борисове. Был я тароват, много мошны порастряс, уж и честили меня и любили!..
В конце обеда двое слуг принесли ведерную братину вина, и пока ковшиком наливали себе гости, один из них внимательно прислушивался и не проронил ни одного слова из сказанного Бельским.
Никто из бояр не придал никакого значения этой речи, многие уже отяжелели после сытного обеда и думали только о том, как бы малость соснуть.
Чтобы гости не утруждали себя разговором, радушный хозяин свистелкой позвал домашнего бахаря и слепцов домрачеев. Первый убаюкивающе-однообразно стал рассказывать житие Алексея, человека Божия, а потом слепцы затянули свои бесконечные песни под аккомпанемент домры. Бояре сладко и долго спали после сытного обеда.
IV
Утро 19 сентября было ясное, безветренное. Солнце, заливая золотистым светом сады, играло на блестящих от не высохшей еще росы крышах. Москва имела праздничный вид. Огнем горели, отражая яркие лучи солнца, купола московских церквей, а колокола торжественно переливались густыми волнами звуков.
Осенний воздух был прозрачен, и отдаленные предметы ясно вырисовывались. Хорошо можно было рассмотреть дорогу, по которой ожидали приезда дорогого гостя. Улицы имели совсем праздничный вид; на них заметно было с самого раннего утра необыкновенное оживление; приставы верхом скакали взад и вперед, приказывая подметать, свозить мусор, прибирать и перекладывать приготовленный для построек лес, строго следя за тем, чтобы нищие не показывались и особенно чтобы не носили покойников. В тот год была страшная смертность, и в иной день хоронили до пятисот человек и более. Народ, одетый по-праздничному, стекался со всех сторон на встречу датскому королевичу Иоанну.
По сторонам улиц стояло стрелецкого и солдатского строя войско и теснились любопытные. Стрельцы были в цветных служилых платьях; знамена красиво развевались.
На кровле одной из лавок верхнего овощного ряда стоял капитан солдатского строя с ясачным знаменем. Он должен был подать сигнал, и тогда следовало звонить «в валовые»[1].
Весь путь от Лобного места к Спасским воротам огражден был надолбами, которые для красы обиты были красным сукном. Дорога королевича шла через Новгород, Валдай, Торжок и Старицу. 18 сентября он ночевал в Тушине, а 19-го подъезжал к Москве. Главная встреча ему была приготовлена на красивой и ровной поляне в семи верстах от города. Там с утра уже находилось несколько тысяч верховых, очень нарядно одетых, бояр и служилых людей, в длинных кафтанах из золотой и серебряной парчи, на лошадях, богато убранных в серебряную и позолоченную сбрую. Собрались не только русские, но и татары, немцы, поляки, находившиеся на службе. Как только заметили подъезжавшего королевича, внимание всех встречавших было обращено на него и на его свиту.
Светлейший королевич был очень красив и статен. Его открытое, прямое лицо добродушно и приветливо смотрело на собравшихся. Вид у него был добрый и свежий, незаметно было никакой усталости от дальнего пути. Позади него ехали Михаил Глебович Салтыков и дьяк Афанасий Власьев.
Увидев встречавших, Иоанн был тронут и ласково сказал Салтыкову:
– Я еще молод, впервые приезжаю к вам в Москву и обычаев ваших не знаю, но я готов учиться, а вы мне только укажите…
Музыка, игравшая до сих пор, смолкла, и к королевичу подошли окольничий Семен Годунов, князь Шестунов и князь Черкасский, а все окружающие на его поклон ответили низким наклонением головы, что выражало высший почет.
После приветствия, сказанного Семеном Годуновым, королевичу приведена была от царя прекрасная серая в яблоках лошадь. Иоанн с видом знатока любовался красивым конем, трепал его по холке и рассматривал его убранство. Седло на нем было серебряное, позолоченное, попона – из кованой золотой парчи, нашейник тоже из золоченого серебра; на нем были два повода. Конь щеголял роскошным убранством – даже на ногах у него надето было нечто вроде браслетов из чистого золота с драгоценными каменьями. Все приехавшие гости получили от царя в подарок по коню.
Через час тронулись опять в путь. Торжественно, при звоне в большой колокол, поезд двигался к Китай-городу, где королевичу был отведен довольно обширный дом. Обстановка была приготовлена хотя и непривычная для датчан, но роскошная.
Не успел королевич оправиться после дороги и встречи, как ему доложили, что царь изволит жаловать светлейшего королевича блюдами со своего стола. К обеду королевичу царь прислал сто кушаний на блюдах из чистого и яркого золота, очень больших и тяжелых. На всяком кушанье было еще такое же блюдо для покрышки. Присланы были также и разные напитки: пиво, мед, вина и водки в золотых и позолоченных кубках и жбанах.
На другой день царь пригласил королевича к себе в гости. Посланным за ним явился дьяк Афанасий Власьев, богато одетый, с большой толпой русских дворян.
Иоанн тщательно оделся и в сопровождении своей свиты отправился за посланными, которые ехали в большом порядке впереди. Несколько тысяч хорошо одетых и вооруженных стрельцов стояли по обеим сторонам улиц.
На крыльце дворца королевича встретили князья Трубецкие и Черкасские, на лестнице – Василий Иоаннович Шуйский и князь Голицын, а в сенях на рундуке – Мстиславский и Шереметев.
В главной золотой палате королевича встретили царь с сыном. Они были в длинных бархатных кармазинного цвета кафтанах и с головы до ног осыпаны драгоценными каменьями. Иоанн подошел к Борису Федоровичу с почтением и понравился всем открытым, ласковым взглядом, приветливостью без подобострастия. Царь принял его очень ласково, а Федор, думая о сестре, любовался статной фигурой жениха.
Королевич заговорил приятным голосом:
– Великий государь царь Борис Федорович! Брат мой, светлейший король датский, объявляет тебе свое христианское и братское, верное и дружеское приятельство, мир и любовь и желает от Всемогущего Бога всегда быть в добром здоровье.
По обычаю, за царя отвечал дьяк Щелкалов:
– Всем Бог украсил нашего великого государя, надо всеми людьми вознес. Велики Его благодеяния, ниспосылаемые нам! Челом бьем, хвалу воссылаем Всемогущему Творцу, что видим тебя в добром здравии! В лице твоем благодарим и светлейшего государя, короля датского, за его приятельство к нам.
После приветствия последовал парадный обед. Царь с сыном и гостем пошли к столу в Грановитую палату, прекрасно расписанную и убранную. Кресло Бориса Федоровича было золотое с позолоченными ступенями; вокруг стола был постлан тканый с золотом ковер. С потолка залы спускался превосходной работы венец с золотыми часами. Посредине возвышался большой четырехугольный столб, на котором сверху донизу понаставлено было множество золотых и серебряных кубков, больших чаш, скляниц и бокалов. Москвичи посудой, видимо, щеголяли, так как и в передней зале было множество золотых и серебряных чаш и блюд; на некоторых изображены были звери. Столовая палата была украшена превосходной лампадой, изображавшей Аполлона, литого, с золотыми крыльями. Другая лампада была так же роскошна и имела вид льва, державшего в лапах змею, а к ней привешено множество прекрасных канделябров, сплетенных наподобие корзин.
Царю с сыном и королевичем был приготовлен отдельный стол. Русские князья и бояре разместились за другим столом, а люди, приехавшие с королевичем, – за третьим, каждый по своему званию. Были и еще столы для низших русских бояр, немцев, поляков и татар, каждый народ особо, и никто не говорил с иностранцами под страхом лишения царской милости.
Угощение было роскошное, всего в изобилии, всех блюд и не перечтешь. Из мясных были тут и жареные тетерева, обложенные лимоном, и заячья голова с мелко искрошенным мясом под нею, баранина в борще и баранина жареная, курица и с красной сладкой подливкой, и с белой кислой, всевозможные пироги: с бараниной, со свиным салом, с яйцами, капустой, творогом; пироги медовые с начинкой из бараньей внутренности. Были целые блюда жареных лебедей, без которых никогда не обходился царский пир. Стольники то и дело разносили кушанья по столам и провозглашали:
– Великий государь царь и великий князь Борис Федорович, всея Руси самодержец, и сын его, царевич Федор, жалуют вас блюдом со своего стола!
Не было недостатка и в винах. Были тут разных сортов вина рейнские, вина церковные, водки. Было пиво поддельное, малиновое, мартовское, был мед сыченый, красный, белый, ягодный, яблочный, вишневый, смородинный, можжевеловый, малиновый, черемуховый, мед с гвоздикой. Был мед хмельной, старый, по десяткам лет выдерживали его в погребах. Вкусны были и браги, квасы яблочные, медвяные, паточные, овсяные, ячные; воды брусничные, гонобобелевые, малиновые.
Долго тянулся обед. Не было слышно ни разговора, ни шума. Королевич скучал и только думал о том, когда же все это наконец кончится. Невесело было и молодому Федору, хотя он и привык так долго сидеть за едой. Но теперь ему хотелось поговорить с Иоанном, с которым он часто переглядывался.
Только Борису обед не казался долгим. Он был занят тем, как бы проделать все по обычаю и не уронить своего величия если и не перед будущим зятем, то перед другими иноземцами.
В конце обеда стали подавать заедки: виноград, арбузные и дынные полосы, яблоки свежие, яблоки в патоке, в сыте, в квасе, дули свежие, дули в сыте, сливы и вишни соленые, груши, смоквы, финики, рожки, орехи грецкие.
Когда этот очень длинный обед кончился, царь и Федор сняли с себя по золотой цепи превосходной работы, богато украшенной драгоценными каменьями, и надели их на шею Иоанну. Борис подарил ему еще много серебряной посуды, дорогой одежды, золотой парчи, несколько сороков дорогих соболей, куниц, рысей, черных лисиц и разных других вещей.
V
Когда жених возвращался в отведенный ему дом, а слуги несли за ним подарки, его невеста, Ксения, пробиралась темными переходами обратно на свою половину. Она торопилась, и за нею еле поспевала ее мать с мамушками. У дверей ее уже ждал Федор и шепнул ей:
– Как ты нашла суженого? Небось такого красавца-удальца и во сне не снилось?
Ксения ничего не ответила, а только, сильно покраснев, обняла брата.
– Правда, сестра, как ему не понравиться? Краше и удалее он всех! Хочу и я быть на него похожим, хочу быть таким же смелым…
– Чего только душа желала, братец, того Бог и дал…
– А как вскочил он на коня-то! Мне даже жутко стало. Не успели ему подставить скамейки, никто еще и у стремени не стал, а он уже взлетел, и конь под ним взвился.
– Заметил ты, братец, какая на нем была шапочка? Батюшкин дар – скарлату червчату с рысьим окладом. Уж и пригож же он!
Долго брат с сестрой говорили о королевиче и не могли им нахвалиться, а Ксения не только уже полюбила жениха, но гордилась им и была счастлива.
Прошло много таких дней, ничего не омрачало ее радости, в семье ее стали баловать еще более. Мать с отцом, исполняя ее капризы, прибавляли:
– Не надолго ведь она нам досталась. Пусть всегда добром вспоминает родительский кров…
С тех пор как приехал жених и Ксения стала невестой, переменилось все и в светлице и в мастерской: помещение девушек приняло праздничный вид, точно и солнце ярче светило; даже и осенняя сумрачная погода казалась светлее и яснее; радостное настроение царского семейства передалось и всем окружающим. Чаще прежнего прибегал сюда царевич Федор, многозначительно, шепотом передавал сестре:
– Сестрица, я от него, твоего суженого. Он здоров и весел, просил кланяться тебе да спросить, не выйдешь ли сегодня в темные переходы.
По шептанию брата с сестрой сенные девушки догадывались, о ком шла речь, и сочувственно помогали, радуясь счастью своей царевны.
– Аксюша, голубонька, коли ты слышала бы, каково он занятно рассказывает! Он-то не то, что мы, люди темные, много повидал-таки на свете.
– Братец, родненький, попомни обо мне, расскажи-ка мне уж!
– Ладно, ладно, а вот он допытывает все меня о наших распорядках, больно до всего доходчив. Сестрица, королевич сказывает тебе спасибо за твои подарки. Приглянулась ему постель и не налюбуется он на твою мастерскую работу.
– А расскажи, братец, что он делает день-деньской?
– Больно прилежит к книгам – батюшка послал ему азбучник да Апокалипсис.
– Часто гляжу я, Федя, на его рисованный лик[2] – куда же он сам-то супротив его пригожее да краше.
– Вот то же, Аксюша, и он про твой лик сказывает… Заболтался я с тобой, как бы не опоздать к выходу, батюшка прогневается, да и тебе пора…
По уходе брата царевна торопилась в темные переходы, чтобы оттуда следить за королевичем. Иоанн уже знал от Федора, что она тут, близко, и видит его, и сам глазами отыскивал ее, и много говорили эти молчаливые взгляды.
Хорошее время они переживали! Оба были веселы, любимы, молоды, здоровы и с нетерпением ждали свадьбы.
Но не всегда одни только веселые разговоры велись между братом и сестрой. Часто в их мир врывалась внешняя жизнь и на время затуманивала их счастье.
– Сестрица, сестрица, ведомо ли тебе, знамо ли, что твоя сенная девушка Феклуша…
– Говори скорее, братец! Я сегодня еще допытывала, чего Феклуша несколько дней не приходит, особливо в такое горячее страдное время…
– Да она померла, а тебе не велено сказывать… Тоже твоя верховая боярыня Рукавишникова…
– Ох, господи, моей доброй Настасьи не стало!
– Да, сестрица, вокруг мрут, куда ни поглядишь! Вот тоже мой любимый ключарь…
Тут мамушка догадывалась по опечаленным лицам, что ведутся разговоры нежеланные, и тотчас старалась развлечь:
– Чтой-то вы, девоньки, приумолкли? Знать, величать заленились аль песни все спеты?
И, побуждаемые мамушкой, девушки сначала неохотно затягивали величание, но потом сами увлекались и весело раздавалось:
Сокол летит из улицы,
Соколинка из проулочка,
Слеталися, целовалися,
Сизым крыльям обнималися…
Не всегда так легко удавалось развлечь царевну. Раз мамушка и сенная боярыня были очень рассержены поступком Марфуши, одной из любимиц царевны.
Неожиданно для всех вбежала она в мастерскую и заголосила:
– Не стало моего ясного сокола, умер мой ненаглядный, закрылися его ласковые глазыньки, подкосилися резвые ноженьки!..
Все были озадачены, окружили плачущую девушку, а мамушка стала сердито ее прогонять:
– Ступай, ступай, непутевая! Аль забыла, в чьи хоромы залетела? Аль не ведаешь, что строго заказано от больных ходить сюда?
– Оставь Марфушу, мамушка, пускай поведает свое горе, – говорила сквозь слезы Ксения.
– Ох, царевна, осталась я сиротинушка горькая… Как мне не тужить!.. Брат умер, и вся моя семья лежит!.. Горемычные мы, злосчастные! Знать, Бог отстанет – и никто не встанет!
– Перестанешь ли? Полно хныкать!.. Ступай, тебе говорят, ступай! Царица даст тебе ужо на сиротство, – говорила сенная боярыня.
– Бог вам простит, что меня гоните… Слышно вам, как мы песни поем, а не слышно, как воем…
Мамушка ласками да уговорами увела-таки горько плачущую девушку, но и по уходе ее в мастерской долго не могли успокоиться. И многие подумали: «Сохрани Бог, не к добру это! Пронеси, Господи, беду и напасть от царевны…»
Защемило сердце и у царицы от этого происшествия. И целый вечер нельзя было заставить по-прежнему петь девушек. Но на другой день опять принялись за песни. Вначале звучали они грустно, но потом весело раздавалось:
Недолго веночку на стопочке висети,
Недолго царевне во девушках сидети.
Не так легкомысленно относился ко всему окружающему царь Борис.
Тяжелые минуты переживал он. Он уже не мог больше себя обманывать, думая, что народ благоденствует под его управлением. Голод не прекращался и все становился сильнее; целые селения пустели, вымирали. Приставы постоянно заняты были погребением мертвых; разбои увеличивались. Борис скрывал все эти беды от семьи и еще более страдал, чувствуя себя одиноким. Никому из бояр он не доверял. Только и было у него утешение – предполагаемая свадьба дочери.
– Дожить бы до счастья, – говорил он часто жене, – породниться бы нам с королем датским, друг бы он был надежный.
– Уж и сам-то королевич больно люб нам, – говорила на это царица Марья Григорьевна. – Уж на что выше счастье: согласен он взять удел. Близко от нас будет Аксюша, недалеко Тверь-то. Надо нам съездить на богомолье к Троице, а там и отпировать свадьбу. Нечего долго-то откладывать…
VI
Насколько веселы были сборы и поездка на богомолье царя и его семейства, настолько печально и неожиданно было скорое возвращение оттуда.
Тот, кто пять недель назад приехал таким бодрым, веселым, здоровым, теперь лежал при последнем издыхании. Не на счастье отпустили его родители, не жену готовила ему Москва, а могилу. Как и месяц назад, вся семья сидела вместе и ждала вестей. Догадывались, что не дождутся ничего хорошего, а все еще надеялись.
– Должно, больно плох королевич, – говорила старуха няня, – видно, не встать ему больше на резвы ноженьки.
– Да, вот беда! – заметила старушка богомолка. – Не жива уж та душа, что по лекарям пошла.
– Говори, говори, нянюшка! Аль узнала, услыхала что? – спросила царица Марья Григорьевна.
– Сам батюшка царь, слышь, посетил его. А уж не след православному царю навещать нехристя-немца…
– Полно, няня, ты опять за ту же песню, – с грустью сказала царевна.
– Знаю, знаю, касатка, что ты изволишь прогневаться на меня, старуху, ну да что делать! Не я одна так думаю, а спокон веку у нас так велось.
– Расскажи-ка лучше, кто был с батюшкой и как он нашел моего суженого?
– Впереди-то батюшки царя несли позолоченный крест, обвитый белым покрывалом, а за крестом шел сам святейший с золотым крестом и таково усердно кропил святою водой и кадил от самого крыльца и до комнаты больного… Да никак и сам батюшка-царь жалует сюда!
Опять, как и месяц назад, вошел царь Борис на женскую половину, но нерадостен был его приход. Он сильно осунулся и постарел за эти дни и теперь еле двигался, поддерживаемый под руки двумя окольничими Годуновыми. Взглянув на него, семья поняла, с какими вестями пришел он.
– Аксюша, любимая дочь моя! Твое счастье и мое утешение погибло!.. Юноша несчастный оставил мать, родных, отечество и приехал к нам, чтобы умереть безвременно!
Услышав это, Ксения так и грохнулась к ногам отца. Произошла суматоха, стали приводить ее в чувство, лили на голову воду, подносили нюхать жженые перья. Придя в себя, она рыдала, металась и рвала на себе одежду.
– Господи Боже, за что Ты нам посылаешь такие испытания? – в отчаянии вопила Марья Григорьевна.
– Тяжки грехи наши! – говорил Борис. – Бог не внемлет нашей молитве… Уж каких обетов я не давал: хотел освободить четыре тысячи узников, предпринять путешествие к Троице пешком – все напрасно, Иоанн не выжил…
– Не ропщите, не грешите, голубчики, – заливаясь сама слезами, говорила старуха богомолка. – Не старый умирает, а поспелый, ведь молодых-то Господь берет по выбору.
Федор сидел бледный, тупо смотря в одну точку…
– Голубчик мой, – ласкала его мамушка, – на что ты стал похож, как извелся-то ты! Тяжко и тебе за сестру. И впрямь, не тот болен, кто лежит, а кто над болью сидит.
– Люди мрут – нам дорогу трут! – завизжала одна из юродивых, которых много осталось Борису в наследство от Федора Иоанновича.
Все вздрогнули и стали креститься.
– Передний заднему мост на погост. Царь и народ – все в землю пойдет! – выла юродивая.
– Перестань, блаженненькая, – сказал царь, – и так горько…
Лихо не лежит тихо: либо катится, либо валится, либо по плечам рассыпается, как гласит народная пословица. Так случилось и с царем Борисом. На другой день после похорон королевича сидел он у себя в комнате с боярами Годуновыми, Шуйскими, Голицыными и другими. Был он страшно расстроен, да и немудрено: плохие вести дошли до него. Умный Борис дельно рассуждал, пока дело не касалось его личных интересов, а теперь он потерял всякое самообладание.
– Итак, вы говорите, что пленные казаки объявили, что скоро придут в Москву с законным царем Дмитрием Ивановичем? С каким таким царем? Покойники не встают, а этот отрок Дмитрий четырнадцать лет уже покоится в земле.
– Успокойся, батюшка царь, негоже слушать сказки зломысленных людей! Вот и князь Василий Иванович то же скажет, – сказал Федор Иванович Мстиславский, в то время как в комнату вошел Шуйский, сухой, черствый человек. Лицо его, с длинным горбатым носом, с бегающими глазами, изображало сильное беспокойство.
– С худыми вестями, батюшка царь, к тебе пришел! Слышно, в Литве появился Самозванец.
При этих словах царь Борис еще более сгорбился и беспомощно опустил руки. В эту минуту он был очень жалок.
– Говори, за кого выдает себя этот обманщик? – спросил он, но сам боялся услышать опять страшное имя.
– Да негоже говорит он! Выдает себя за Дмитрия, сына Ивана Васильевича…
Едва только выговорил это Шуйский, как Борис вскочил как ужаленный и неистово закричал:
– Вот, наконец, оно, вот что вышло! Я знаю, это дело изменников и предателей, князей и бояр дело…
Кончить фразы он не смог, у него сделались спазмы в горле, и, побагровев, он бессильно опустился в кресло.
Бояре перепугались, бросились за придворным доктором и, когда пришел лейб-медик Габриель, передали заботы о царе ему. Позвали к нему на помощь еще двух докторов иноземцев. Решили лечить государя метанием руды кровопусканием, что и было исполнено. Как только Борис пришел в себя, он слабым голосом подозвал Габриеля и сказал:
– Предателю моему, самодельному царю Богдану Бельскому, приказываю тебе, Габриель, по волосикам выщипать бороду и отправить на жительство со всей семьей в Сибирь. Не забыл я его похвальбы, что он царь в Борисове.
Никто из бояр не сказал ни слова в защиту товарища-собрата. Только преданный Борису дьяк Тимофей Осипов пробормотал:
– Так ему и надо, больно уж голову задрал, а Бог гордым противится.
Бояре разошлись, сконфуженные, огорченные. Каждый подумал про себя, как бы и до него не дошла беда.
Спаси, Господи, помилуй!
VII
Была темная ночь. Все небо заволокли тучи, и улицы были совсем пусты. Только изредка проходили приставы да слышался шум, крик и пьяные песни в Стрелецкой слободе. Боярин Петр Федорович Басманов, молодой, очень красивый всадник, быстро ехал по направленно к Китай-городу – он спешил из гостей домой. В голове его шумело от выпитого вина и громких разговоров. Несмотря на это, две мысли выступали ясно и ярко: думал он о появлении Самозванца и о предстоящем отъезде в Новгород-Северский на воеводство. В нескольких шагах от себя он заметил дым, а вскоре за тем изнутри дома вырвались наружу огненные языки. Басманов тотчас же сообразил, что это пожар. Раздавшийся набат и подтвердил это.
Ветер сильно раздувал пламя, и когда Петр Федорович подъехал, небольшой деревянный дом уже пылал. Он застал обитателей на улице, полуодетых, слышал их раздирающие душу крики, видел их бесполезную суету. Не успел Басманов сойти с лошади и что-нибудь сообразить, как к нему подбежала молоденькая девушка лет пятнадцати и сказала:
– Добрый боярин, помоги! Наверху осталась больная старуха, ведь она погибнет, задохнется от дыма. Я пробовала пробраться туда, лестница пока еще не занялась, а снести безногую старуху не могу!
Басманов бросился наверх. Вскоре он показался на крыльце, неся худенькую, сгорбленную старушку, к которой бросилась девушка.
– Бабушка, милая, слава богу, ты спасена! Теперь надо перенести ее в дом, – обратилась она к Басманову, – а пока помоги мне ее укутать.
Пока требовали от Басманова подвига, самолюбие его не оскорблялось, но когда девушка обратилась к нему с просьбой незначительных услуг, он возмутился и уже готов был грубо ответить ей, но при взгляде на ее красоту не только не возразил ей, но подчинился. Ее большие темно-серые глаза смотрели на него так ласково. Теперь молодой человек, сам не отдавая отчета, повиновался девушке и смотрел на нее, ожидая распоряжений. Больная тупо улыбалась и глядела на них, не совсем еще понимая, где она и что с ней.
– Куда же нести старушку, укажи только? – спросил Басманов.
Они оба стали помогать ей накинуть на себя телогрею. Занятые этим делом, они хотя и не смотрели друг на друга, но чувствовали взаимную близость.
«Будет заниматься глупостями, – думал Басманов, – еще кто увидит, на смех поднимет». Но стоило девушке посмотреть на него, и он опять стал послушным.
– Боярин, ты поддержи бабушку, а я накину на нее шубейку. Больно холодно, ветер до костей пробирает, а она, бедная, давно сидела все на вышке.
– Да ты-то сама дрожишь! Надень мою ферязь да и пойдем скорее в дом, я отнесу старушку.
Нести было недалеко, да и дорога им показалась слишком короткой. Они дружески разговаривали.
– Не снимай ферязи, кутайся плотнее, запахнись, а мне в одном кафтане удобнее нести.
– Какой ты добрый, хороший! Скажи, как твое имя? Я буду каждое утро и вечер молиться за тебя Богу.
Искренняя похвала простой девушки заставила покраснеть гордого боярина.
– Помолись за Петра. А тебя как звать?
– Липой, а живем мы вот здесь, рядом с большим домом.
– Как это ты попала на пожар?
– Собрались мы с сестрой спать ложиться, уж повечеряли, Богу помолились, стали раздеваться. Я глянула в окно – кругом тучи нависли, того и жди дождь ночью пойдет, а у нас белье на дворе развешано. Разбудила я девку Палашку да и побежала снять. Зачали мы собирать, да как глянула я на дом бабушки Офросиньи, ахнула и, не вспомнясь, бросилась туда.
– Ох, касатка ты моя желанная, болезная, коли бы не ты, сгореть бы мне, старухе, умереть без покаяния!
– Это, бабушка, ведь не я, а все он, Петр. Как по отчеству величать?
– Федорович, Липа.
– Вот мы и дома, вон на крыльце и батюшка и сестрица! Сюда, сюда!
Старик поспешил навстречу и бросился помогать боярину, укоризненно покачивая Липе головой:
– Что ты это, девонька, на себя напялила?
– И взаправду, Петр Федорович, а я все в твоей одеже! Возьми, спасибо тебе большое за все.
– Дай тебе Господь всего хорошего, пошли тебе Боже милостей за доброту твою! – говорила сквозь слезы старуха, целуя руки своего спасителя.
Басманов ушел, напутствуемый благословениями всей семьи. Уходя, он несколько раз обертывался, пока мог видеть Липу. Девушка быстро вошла в дом, нацедила кружку пива и бегом догнала боярина, который сильно обрадовался, увидев ее опять.
– На, испей, Петр свет Федорович, да не погневайся, что раньше не вспомнила.
Басманов взял чару, но не торопился пить, а девушка терпеливо ждала.
– Спасибо, Липа, спасибо! Какая ты славная, добрая! Буду помнить я тебя.
– А я и ввек не забуду твоего благодеяния.
И она опять скрылась в темноте. На душе у Басманова стало так светло, легко. Ему хотелось и плакать, и петь, и молиться. Он пошел опять к пожарищу и оставался там до зари, помогая растаскивать горелые бревна и удивляя всех своим усердием.
– Глянь-ка, – говорили в толпе, – никак это сам боярин Басманов так важно работает?
Работая, Басманов думал о Липе и на другой же день узнал все подробности о ней и ее семье.
По его просьбе дочь стрелецкого сотника Алексеева была принята сенной девушкой в Верхние царицыны мастерские палаты.
VIII
Лучом солнца явилась Липа в царские светлицы, с ней ворвалась жизнь и радость к затворницам, которых горе царевны искусственно держало в печали. Никто не осмеливался не только громко смеяться, но и возвысить голос. Кругом раздавались притворно плаксивые ноты. Для царевны это было еще тяжелее, но ничто не отвлекало ее от горя. Лучшим лекарством служат необходимые, обязательные заботы о других, но у нее их не было, и ее даже не допускали ни до чего. В такое-то время и поступила в терем дочь Алексеева. Появление здоровой, веселой, энергичной девушки среди печальных лиц произвело хорошее влияние. Ее приятный молодой голосок один только звучал громко и казался музыкой. Приходила она по утрам, и с ней уличная жизнь, жизнь Москвы, врывалась в светлицу. Мало-помалу она втягивала в свои интересы Ксению, и Липа сделалась для нее необходимой. Скоро лица, дорогие ей, стали знакомы и всем в тереме: так, бабушка Офросинья была и для них бабушкой, уже и для нее шились телогреи, обшивались благодаря Липе бедные погорельцы.
По рассказам девушки, вся ее семья стала знакома Ксении. Липа рассказала о смерти своей матери, чем вызвала слезы царевны. В свою очередь и Ксения говорила ей о потере жениха, и обе девушки плакали. Сперва другие мастерицы обрадовались ее приходу, как живой души, но потом явилась зависть, которая, однако, уступила перед добротой Липы. Любовь и ласку к себе девушка употребляла на пользу другим. Только заметит она, что у кого-нибудь горе, тотчас же спешит утешить или выручить.
Всякое поощрение себе в виде дорогого подарка она отклоняла, умея убедить, что ей лично этого не надо, а приятнее будет, если одарят такую-то, более нуждающуюся. И царица Марья Григорьевна, и царь Борис Федорович полюбили девушку и не мешали ее дружбе с Ксенией.
– Хорошая, добрая девушка, руки и сердце у нее золотые, – говаривали они. – Подыскать бы ей жениха хорошего.
А жених уже был, и искать было недалеко. Петр Федорович сильно любил девушку, и она любила его.
В доме Алексеевых стал он своим человеком. Необходим он был и старику отцу, и девочке-сестре. Никого не удивляла эта близость, его считали Липиным женихом. Ничего, что неровня, царь посватает! Одно горе, что не время теперь свадьбу-то играть, надо ехать на воеводство, оберегать православную Русь и постоять за нее. Все говорили о враге. Как ни запрещали говорить о Самозванце, сколько ни мучили людей, ни ссылали – ничего не помогало.
За несколько дней до отъезда Басманов сидел в гостях у сотника и слышал, как два стрельца, вбежав к своему начальнику, рассказывали ему:
– У нас в полку нездорово – худое дело попритчилось! – Молодой парень, сказав это, пугливо осмотрелся, а потом широко осенил себя крестным знамением и, тряхнув головой, продолжал: – Стояли мы нынче в Кремле на стороже, наше место свято… Стемнело уж. Вдруг ровно свет какой промчался, мы как глянем – так ажно страшно вспомнить, наше место свято…
– Говори, чего испужались-то? – спросил старик сотник.
– Да как глянули – видим, да так ясно, чудную колымагу, наше место свято!.. Висит она в воздухе, а запряжена шестью лошадьми на вынос. Возница-то одет не по-нашему, а вот как поляки. Как хлопнет он бичом по кремлевской стене – Мать Пресвятая Богородица! – да как крикнет зычно, мы все со страху разбежались. Господи, спаси нас, будь не к ночи помянуто!
Алексеев сам дрожал от страха, но успокоил, как мог, стрельцов и отпустил их по домам, а потом, тщательно осмотревшись, тихо сказал Басманову:
– Больно неладно у нас, видно! Бог знамения посылает, чтобы мы покаялись. Вот хоть бы и звезда хвостатая – тоже не к добру. Видно, кровь царевича достигла до неба. Младенческая, знать, душа отмщения просит.
IX
Мрачен, угрюм и недоступен стал царь Борис. По целым дням сидел он один в своем дворце, совсем не показываясь народу. Не скоро уразумели просители, что времена изменились, и по целым дням напрасно толпились у постельного крыльца со своими челобитными, пока наконец не являлись царские слуги и не разгоняли их немилосердно палками. Много безнаказанных насильственных деяний совершили тогда начальные люди в Московском государстве, зная, что до царя не дойдут жалобы утесненных. Глух стал царь, и никакие жалобы не достигали его ушей. Онемели от страха приближенные, и никто не смел заступиться за множество родовитых бояр, сосланных и заключенных по приказанию подозрительного царя. Не упоминались при дворе больше имена Бельских, Романовых, Зиновьевых, Шестуновых, Черкасских. Весть о Самозванце и его успехах отняла всякое самообладание у умного царя Бориса: он не только не старался успокоить недовольство бояр, а как бы еще нарочно возбуждал его.
Царь не устыдился даже наградить Воинко, слугу боярина князя Шестунова, за ложный донос на господина, и клеветнику сказали на площади всенародно государево милостивое слово, дали вольность, чин и поместье. Знали бояре, за какую службу царь наградил так щедро Воинко, – и возмутились. Обратились некоторые из них, Голицыны, Сицкие, Репнины, к патриарху Иову, и старик Сицкий со слезами, выступив вперед, стал говорить:
– Отец святой, зачем ты молчишь, видя, что творят с нами? Заступись хоть ты, будь милостив!
Иов боялся утратить свое значение, и хотя и сознавал справедливость просьбы и совесть его уязвлялась этими речами как стрелами, но у него не хватало смелости противоречить царю.
– Видя семена лукавствия, сеемые в винограде Христовом, делатель изнемог, – говорил в утешение патриарх Иов, – и нам остается только, к Господу Богу единому взирая, ниву ту недобрую обливать слезами.
Через несколько дней после этого разговора сослан был и Сицкий – на него донес слуга его, что он сказал Репнину: «Жаль Богдана Бельского, умный был человек, досуж был к посольским и ко всяким делам».
И этого достаточно было, чтобы сослать его.
Всякий новый слух об успехах Самозванца вел за собой новые строгости: граница тщательно оберегалась, и никого не пропускали через нее, даже и с «проезжей памятью». А в Москве жить было невыносимо! Грабили и убивали по ночам. Стоило в темноте сойти со двора, как сейчас же из-за угла свистнет кто-нибудь кистенем в голову! Каждое утро привозили к Земскому приказу много убитых и обобранных ночью на улицах. Царь не занимался внутренними делами совсем: слухи из Северской земли сильно тревожили его. Как только вступил Лжедмитрий в область Московского государства, ему покорился город Моравск, а за ним и Чернигов. У русских при его появлении точно не было рук для сечи. Многочисленное войско под предводительством Федора Ивановича Мстиславского было разбито под Новгород-Северском; только город защищался и устоял благодаря храбрости и верности Петра Федоровича Басманова. Все эти вести быстро распространились в Москве и, несмотря на то что патриарх Иов и Василий Иванович Шуйский усердно уговаривали народ не верить ни слухам, ни подметным грамотам, ничто не помогало, и часто раздавались такие речи: «Знамо, говорят они это поневоле, боясь царя Бориса, а потому это только и остается утверждать! А то, знамо, надо царство оставить и о животе своем промышлять».
А из полков вести все печальнее и печальнее, и понял царь, что вся его сила теперь в войске. И вот, несмотря на то что оно было разбито, царь слал ему благодарственные грамоты и отправил туда своих докторов лечить предводителя Мстиславского, раненого в битве под Новгород-Северском. Посыпались милости и на Басманова; царь отозвал его с воеводства к себе в Москву, чтобы примерно наградить.
Престольный град заликовал в ожидании въезда храброго Петра Федоровича, а сам герой счастлив был вернуться домой хоть на время – сильно влекло его желание видеть Липу Алексееву.
По приезде он выслушал намек царя Бориса Федоровича, что нет предела его царским ласкам, что хочет он приблизить его к себе и даже породниться.
Рука Ксении обыкновенно ставилась как высшая царская награда. Мстиславскому еще раньше сулили в невесты царскую дочь за его военные заслуги.
Басманов был доволен вниманием и почестями, рассчитывая, что теперь самое удобное время просить царя разрешить ему жениться на Липе. Он был щедро награжден, получил боярство, богатое поместье, много денег и подарков.
Но далеко не все дружелюбно отнеслись к новому любимцу. Многие считали, что награды превысили его заслуги, и во многих это быстрое возвышение возбудило зависть. Семен Годунов особенно негодовал на него и с умыслом омрачил его счастье. После приема во дворце, оставшись с ним наедине, он стал расспрашивать его о Самозванце и ехидно ввернул:
– Да, по всему видно, что это истинный царевич!
Слова эти врезались в память Петра Федоровича и заставляли его часто раздумывать о них.
Пожалел впоследствии о том, что сказал их, и Семен Годунов, да было уже поздно, сказанного нельзя было вернуть.
Х
В Стрелецкой слободе в Москве стоял небольшой деревянный дом самой обыкновенной постройки: белая горница на глухом подклете, между ними сени о трех жильях, под ними погреб. За домом был довольно большой огород, а на нем баня с сенями и конюшня с навесом. Все это было огорожено забором с красивыми воротами. Слюдяные окна освещались восковыми свечами, и сквозь них такой уютной, гостеприимной казалась горница! Такой же она оставалась и при входе в нее. Все говорило в ней о довольстве обитателей; в ней раздавались веселый говор, смех.
В переднем углу за дубовым столом сидела вся семья сотника Алексеева. На самом почетном месте, в красном углу под образами, сидел Петр Федорович Басманов, рядом с ним старик отец, а напротив – две дочери, Липа и Куля. Перед гостем стояла стопа старого меда, на столе были всевозможные заедки. Липа внимательно следила, не понадобится ли еще чего отцу или гостю, и тотчас же доставала из поставца, отдергивая суконную занавесу. На столе стояли два шандала с восковыми свечами.
Дочери Алексеева, как девушки незнатные и небогатые, воспитание получили для тогдашнего времени не совсем обыкновенное и пользовались большой свободой. В доме отца по смерти матери они распоряжались всем и заведовали хозяйством.
– Ну, доченьки, не посрамите старика, угостите порядком и с честью примите боярина! Спасибо ему, не погнушался нашим хлебом-солью. Да, слышь, к нам жалуют сегодня и его сродственники. Челом бьем тебе, боярин, на твоей ласке!
– Кажись, кто подъехал? Нам с сестрой в светлицу пора.
– Разумница моя, Липа! Знамо, негоже молодым девкам тут оставаться.
Петр Федорович шепнул Липе:
– Ты точно молодой месяц – покажешься, осветишь да и опять спрячешься.
– Спрячусь, да тут близко, словечка не пророню из твоего рассказа, – ответила она ему так же тихо.
Хозяин вышел с поклонами навстречу гостям, а девушки из любопытства позамешкались и поглядели на сводного брата Петра Федоровича, Ивана Голицына, да приятеля его, молодого красавца Михаила Васильевича Скопина-Шуйского.
– Челом бью вам, гости дорогие, бояре славные! Садитесь за скатерти бранные, за напитки пьяные. Садитесь под святые, наливайте, починайте ендову!
– Спасибо, спасибо, хозяин, на угощении, – сказал Голицын, усаживаясь и наливая меда. – Чаша что море Соловецкое, пьют из нее про здоровье молодецкое.
– Как не выпить сегодня? Надо выпить, недаром мы собрались сюда чествовать храброго молодца Петра Федоровича. Порасскажи-ка нам, как ты отличился, как храбро бился с неприятелем! Меня так даже завидки на тебя берут, – сказал Скопин.
– Поведай нам, что я спрошу тебя, боярин, – спросил сотник. – Каков из себя супостат наш, злодей проклятый, Гришка Отрепьев? Небось неуклюж, неловок? Где ж ему супротив настоящих воинов?
При этих словах сотника в воображении Петра Федоровича ожила фигура Самозванца, смело, ловко и красиво скачущая на буром аргамаке, и пришли на память слова Семена Годунова.
Под влиянием этих мыслей он ответил:
– Нет, не чернецом он смотрит, повадка не та, а уж как смел-то, страха не знает, хоть бы всем так сражаться впору за правое дело…
– Так враг-то, должно, сильный, и война жестокая, как и быть следует? – недоумевающе спросил сотник.
– На что тяжелее воевать со своими братьями крещеными! Будь настороже, хоронись измены. Уж хоть бы сброд, голодные холопья перебегали, а то, стыдно сказать, свой же брат, дворяне, – ответил Басманов.
– Как это только Господь терпит? Как огонь не сойдет с неба, не попалит сих окаянных? – сказал, вздохнув, Скопин-Шуйский.
– Ты ведь видал, брат Петр, Гришку Отрепьева. Что же, обманщик-то напоминает хоть чем-нибудь этого расстригу? – спросил Голицын.
– Ну нет!
Слова Семена Годунова опять пришли ему на память, и Басманов задумался.
– Да, загадочно, – сказал Голицын, – многого тут не уразумеешь. Темна вода во облацех…
Разговор оборвался. Каждый молчал, занятый своими мыслями.
Алексеев, чтобы развеселить гостей, принес еще браги.
– Стоит град пуст, а около града куст, из града идет старец, несет в руках ставец, в ставце-то взварец, а во взварце-то сладость!
Шутка удалась, гости развеселились и стали пить.
Сидя в светлице, Липа с Кулей не проронили ни слова. Как только гости стали расходиться, Петр Федорович позамешкался в ожидании хозяина, который пошел проводить гостей до ворот, а Липа успела выйти поговорить с Басмановым.
– Липа, свет мой, уж как же ты мне люба, радость ты моя! Промолви хоть словечко, люб я тебе?
Счастливая девушка молчала, но Петр Федорович понял это красноречивое молчание. От сильного волнения не могла она говорить: то бледнела, то краснела.
– Промолви же словечко, лебедь моя белая: люб я тебе? Будешь моею?
Петр Федорович и сам не ожидал, что так скоро объяснится в любви. За час еще он думал, что так далек от этого, а теперь все его мысли сосредоточились на том, чтобы девушка согласилась. Ему искренне казалось, что без этого согласия он не в состоянии будет дальше жить. Но тут вернулся сотник, и они разошлись. Отец заметил их замешательство, но не сказал ничего.
Липа была с Басмановым одно мгновение, а счастья, казалось, хватило бы на всю жизнь. Сияющая, блаженная, радостная явилась она к сестре. Какой счастливый для нее день! До этой минуты она только подозревала, что любима, а теперь она уже убеждена в этом. Как это случилось, и сама она не могла сказать, да и вообще сказать могла мало – чувства ее нельзя было выразить словами.
– Липа, милая, что он говорил тебе? – спросила сестра.
– Куля, я так счастлива, так счастлива! Давай говорить, спать ведь нам не хочется!
Обе девушки уселись рядом. Липа приготовилась рассказывать. Она хотела быть откровенной, но не могла, в первый раз испытывая странное чувство: другу, сестре, она не в силах была передать слов Петра Федоровича. Ей казалось, что, поделившись, она уменьшит свое счастье. Никто не оценит так, как ей хочется, его слов и, пожалуй, еще засмеется.
– Куля, – заговорила она, – завтра поговорим, а теперь мне что-то спать захотелось, глаза слипаются.
Но глаза ее блестели, она все смотрела куда-то вдаль и кому-то улыбалась.
Куля обиделась. Нижняя губа ее стала слегка подергиваться, а на глаза готовы были навернуться слезы. Она чувствовала, что между чувством любви к ней сестры стало что-то другое, более сильное, могущественное чувство. Но она боялась заговорить, стараясь скрыть досаду. Липа заметила это, подошла к сестре, обняла ее и стала ласкать. Ей та же мысль пришла в голову, что вот любит она сестру, а о нем и говорить с ней не может, и так полна она любовью к Петру Федоровичу, что Куля стала от нее как-то дальше.
– Кулюша, милуня, полно, не разрывай ты моего сердца! Тебя ведь я любить никогда не перестану, ты мне всегда будешь дорога!
Успокоенные взаимными ласками, они улеглись спать, но долго не могли заснуть.
– Липа, а какие глаза-то у него острые, а брови соболиные! Молодец, как есть молодец!
– Кто, Петр Федорович-то? Да никто супротив его не может…
– Да нет, совсем же не он, а Михаил Васильевич. Всю-то ночку буду о нем думать, его сокольи очи вспоминать.
Липа ничего не ответила, и разговор на этом и прекратился.
Каждая из сестер занята была своими мыслями.
XI
13 апреля 1605 года, во вторую неделю после Пасхи, был ясный, солнечный весенний день. Приятная теплота чувствовалась в воздухе, и, даже несмотря на непролазную грязь, хорошо было на московских улицах: ручьи текли с шумом, появилось множество птиц, которые особенно радостно пели, пригреваемые весенним солнцем. Люди тоже были настроены по-праздничному, всем легче дышалось сегодня. Не остался равнодушным к этому празднику природы и сам царь. Смягчился его дух, а вместе с хозяином оживился и дворец.
Давно уже не был так многолюден праздничный царский стол, как сегодня. Собралось много гостей. Были Мстиславский, Шуйские, Годуновы, Басманов и Голицыны. Во время обеда царь был весел, милостиво разговаривал, расспрашивал Басманова и оживился, слушая его рассказы из недавней осады Новгорода-Северского.
По окончании обеда бояре еще оставались в столовой золотой палате, а царю Борису вздумалось отправиться на вышку в сопровождении сына Федора и Семена Годунова – ему сильно захотелось повидать свою семью.
Приход его наверх удивил женскую половину. Давно уже был он мрачен и не навещал ее в такое непривычное время, но, заметив его веселое настроение, все обрадовались. В голове у Марьи Григорьевны и Ксении мелькнула мысль, что получены благоприятные вести.
– Пойдем в мастерские светлицы, там небось солнце еще веселее светит!
И царь с семьей вошел в рабочую светлицу. Увидев Липу Алексееву, он ласково потрепал ее по щеке.
Приход свой он объяснил жене и дочери желанием посмотреть с вышки на Москву, освещенную ярким весенним солнцем. Здесь он расположился как бы надолго, покойно уселся, но вдруг встал, заторопился и, позвав сына и окольничего, сказал:
– Пойду вниз в опочивальню. Видно, отяжелел я после сытного обеда.
С этими словами он стал спускаться с лестницы. Ноги плохо его слушались.
– Батюшка, обопрись сильнее на меня, тебе неможется, ты шатаешься.
– Ох, сильно мне неможется! Потри мне руку и ногу, словно их собаки жуют, худо мне, больно худо… Скорей вниз! Пошли за лекарями.
Испуганные Федор и Семен Годунов едва успели свести его вниз, как у него из ушей, носа и рта хлынула кровь. Царь Борис сильно испугался, бояре растерялись, поднялась суета по всей столовой палате.
Каждый предлагал свое средство, чтобы унять кровь. Толпясь вокруг царя, они толкали друг друга. Стольники побежали за оставшимися в Москве докторами. А кровь все не унималась, царь Борис слабел от потери ее и уже готов был лишиться сознания. Собрав последние силы, он едва слышно изменившимся голосом проговорил:
– Смерть моя подходит, уже близко… зовите патриарха… постриг… схиму… торопитесь…
За креслом, на котором лежал умирающий Борис, беззвучно рыдал его сын, а вскоре тут же раздались стоны и плач царицы с царевной. Кто позвал их, сами ли они догадались, слыша беготню и суматоху, что он сильно заболел, никто доподлинно не знал. Царь услышал голоса плачущих, и на лице его изобразилось сильное страдание. Он хотел что-то сказать, может быть, успокоить их, но язык не слушался. В мыслях больного ясно представился образ сильного врага – Самозванца, и беспокойство за участь горячо любимых детей вырвало стон из его груди.
На зов бояр быстро собралось сюда в палату духовенство, и начался постриг. Патриарх Иов, видя бесчувственного царя, торопился с обрядом и едва успели облечь его в монашеское платье, как началась агония.
Царя Бориса, или вновь постриженного схимника Боголепа, не стало.
Как громом поражены были все присутствующие. Развязка наступила так быстро, так неожиданно… Не успело еще зайти то солнце, которым любовался сегодня царь, как не стало и его самого. Удручающее впечатление произвело это на всех, особенно в виду смутного положения дел. Видно, Бог покарал, видно, и взаправду настоящий, прирожденный, царевич в Северской земле. Все приближенные потеряли головы, и никто не решился даже объявить народу о кончине царя, а шестнадцатилетнему Федору было не до того, чтобы этим распорядиться.
Толпа народу, видя необычайную суету в Кремле, собралась у постельного крыльца и осаждала бояр. Но хотя новость была у всех на языке, каждому страшно было объявить ее во всеуслышание.
Только на другой день патриарх Иов решился сказать народу о смерти царя Бориса. Он тут же поторопился прибавить, что престол завещан покойным царем Федору, и стал немедленно приводить к присяге. Народ московский спокойно присягнул Федору и целовал крест на том, чтобы служить верно государыне царице и великой княгине Марье Григорьевне и ее детям, государю царю Федору Борисовичу и государыне царевне Ксении Борисовне.
Возвратившись с похорон и покончив тяжелый обед в поминальной палате, осиротелая семья Годуновых осталась одна. При пире, при беседе – много друзей, а при горе, при кручине – нет никого.
Молодой царь Федор тотчас же заметил в окружающих перемену: не то уж было их обращение с царской семьей. Понял теперь юный Годунов, что после смерти царя-отца они совсем одиноки, мало людей, искренне им преданных, и если бы судьба их не была так тесно связана с ними, и эти немногие покинули бы их.
Первыми советниками у нового царя были патриарх Иов, а затем Семен Годунов, вскоре к ним присоединился и Андрей Телятевский, бежавши из Северской земли. Василий Шуйский держал себя странно: он, по-видимому, был искренне предан Федору Борисовичу, а между тем избегал давать прямые советы и с притворным смирением уступал другим места близких к царю советников.
Но время было горячее, нельзя было предаваться печали, надо было действовать.
Одна надежда у Годуновых была на Басманова, и все, даже личные враги его, соглашались с тем, что именно его следует облечь полномочиями и немедленно отправить к войску. Боялись, чтобы весть о внезапной кончине царя не дошла раньше стороной к полкам и не смутила их, поэтому в ночь на 14 апреля к войску должен был выехать Петр Федорович. Вместе с ним отправлялся и новгородский митрополит Исидор, чтобы привести начальников и все войско к присяге новому царю, причем велено строго наблюдать, чтобы не было ни единого человека, который бы на верность Годуновым креста не целовал.
Вечером того же дня, 14 апреля, быстро ехал Петр Федорович Басманов по хорошо знакомой ему дороге к Стрелецкой слободе. Ему хотелось увидеть поскорее Алексеевых. Он торопился рассказать, какое высокое получил он назначение и какое важное поручение на него возложено. Ему даже казалось, что во всех встречных он замечал к себе особенное почтение, и думал, что все в глубине души завидуют ему.
«Как сотник-то обрадуется! – думал он. – Ведь немалая честь стать тестем славного воеводы. А что будет еще, как я въеду в Москву победителем? Царь Федор не будет знать, чем и наградить меня… милости так и посыплются».
Но вдруг ему вспомнилось, как таким же точно вечером провожал он брата своего Ивана в поход против Хлопко, а возвращение было совсем не похоже на то, о котором мечтал он. Правда, был и колокольный звон, шумел и народ, да только не видал и не слыхал всего этого лежавший в гробу брат. Живо припомнил он все это, и стало ему грустно.
С заплаканными глазами встретила его Липа и, стараясь казаться спокойной, по обыкновению, приветливо улыбнулась ему. Басманов забыл о своем высоком назначении, помня теперь только о разлуке. Так дороги показались ему уютный домик и приветливая семья!
– Ненаглядный ты мой, желанный, коли бы Бог привел увидать тебя опять живым, – сказала вся в слезах Липа.
Басманов вздрогнул – одна и та же мысль занимала их обоих.
– Надо и о смерти помышлять. Ведь враг-то страшный… а коли еще и правда за него, коли он в самом деле прирожденный царевич? – невольно сорвалось с языка Петра Федоровича.
– Господи Боже! А я об этом-то и не помыслила. Как же это ты будешь биться супротив него, коли он и доподлинно царевич Дмитрий Иванович?
Басманов спохватился, не проговорился ли он:
– Это я так, зря сболтнул, а ты и не думай об этом. Знамо, народ толкует разно, всякому слуху верить нельзя, больно уж смутила шаткие умы приключившаяся царю Борису быстрая кончина…
– Ох, желанный ты мой, а коли он прирожденный царевич, что же тогда будет с молодым царем, с Ксенией?..
– Полно об этом говорить, не больно много остается нам побыть вместе, поцелуй-ка меня на прощание, моя красавица!
Липа обняла и крепко поцеловала жениха. Минута была торжественная – этот поцелуй еще ближе связал их.
– Вот тебе мой первый поцелуй! Не думала, не гадала я, что, может, это и последний, что так скоро ты опять покинешь меня… – Слезы градом катились по ее щекам.
– Коли жив буду, пришлю тебе весточку, а коли помру…
– Не говори этого, – с ужасом воскликнула Липа, – не разрывай моего сердца! Надень на себя эту ладанку с чудотворными мощами и верь, что она тебя сохранит целым и невредимым. День и ночь буду молиться за тебя, отпрошусь у царевны и пойду на богомолье.
– Прощай, батюшка Петр Федорович, прости, родимый, береги ты там только себя, батюшка, попомни и о нас, горемычных, не будь уже больно отважен! – с низкими поклонами напутствовал старик отец отъезжающего.
По обычаю, вся семья присела, а потом стали усердно молиться Богу, осеняя себя широкими крестами. Положив пред образами много земных поклонов, стали прощаться.
– Простите, не поминайте лихом, бог весть, увидимся ли! – сказал Петр Федорович и, расцеловав всех, взглянул еще раз на Липу и быстро вышел на крыльцо.
Поправляя седло, он и не заметил, что на дворе уже рассвело, что в слободе проснулись и много любопытных собралось у дома.
Между тем Липа, оставшись одна точно в столбняке, вдруг опомнилась и, вспомнив, что было, выбежала на крыльцо и бросилась к нему на шею. Она забыла, что она на улице, что все видели ее прощание. Петр Федорович, крепко прижав ее к груди, бережно передал ее вышедшему на крыльцо отцу, быстро вскочил в седло и, ни разу не оглянувшись больше, помчался вперед.
XII
Прошло недели две со времени отъезда Петра Федоровича. Обывательская жизнь в Москве шла по-старому. Прислушиваясь к разговорам, можно было заметить, что все чаще и смелее говорили о царевиче Дмитрии Ивановиче, и многие высказывали убеждение в том, что он сядет на свой прародительский престол, «как только лист на дереве развернется». Но, несмотря на все эти толки, жизнь для многих текла по-старому. По-прежнему жили и в Стрелецкой слободе, так же аккуратно посещала Липа царские мастерские. Но сама она сильно изменилась – большое было у нее горе, и в тереме ей было невыносимо тяжело.
Определенных слухов с места войны не было, а те, что доходили стороной, отнимали всякую надежду на хорошее будущее. Семья Алексеевых чутко прислушивалась ко всякой вести с Северской земли, а Липа, припоминая прощание с женихом, уже предчувствовала то, что вскоре и услышала. Она одна не удивилась, когда вокруг стали говорить о переходе к врагу Басманова, о его измене. Она знала, что ее милый не может быть вероломным предателем и что, верно, уважительные причины принудили его к такому поступку. Теперь враги Басманова подняли голову и везде кричали, что они всегда этого ожидали. А что же другое и мог сделать прямой потомок подлого отца? Пришлось Липе пережить много горьких минут – и ее не щадили. Большинство, напротив, завидуя и прежде ее счастью, теперь с еще большим злорадством оскорбляли ее. Девушка была одинока и беззащитна в своем горе; даже родной отец не только не жалел ее, а корил и бранил, что она все-то помнит об изменнике. Старик забыл, что было время, когда и он сам не был властен над своим сердцем и оно не слушалось рассудка. Одна только Куля понимала сестру, и та отдыхала только в беседе с нею. Ни у той ни у другой не было и в мыслях осуждать Петра Федоровича. Знать, так надо было, успокаивали они свою совесть. Молодой Скопин-Шуйский, выслушивая их речи, снисходительно молчал, не одобряя и не осуждая приятеля. Зато как же и благодарны были ему девушки, как полюбили его, который один скрашивал их теперешнюю жизнь!
Положение Липы наверху в мастерских с каждым днем становилось нестерпимее, и только благодаря сильной привязанности к ней Ксении не постигла ее опала и ссылка. Царица Марья Григорьевна срывала на ней свой гнев и с окружающими ее старицами наслаждалась мучениями беззащитной девушки. Они при ней поносили всячески Басманова, суля ему всевозможные казни за его клятвопреступление. Липа страдала и молчала.
Так проходил день за днем. С наступлением сумерек, по окончании работы, она вырывалась из терема и, измученная нравственно, еле передвигая ноги, тащилась домой. На крыльце ждала уже ее прихода Куля и торопилась ей передать, что узнавала за день.
– Сестрица, словно боярин Коптырев таково быстро промчался.
– Один или кто с ним приехал? Весточки никакой не получила?
– Батюшка спросил, чего это они вернулись, супостат, что ли, разбит аль вышло замирение. Ничего не ответили, только один с усмешкой говорит: «Больно хитер, ступай, мол, туда сам, там много узнаешь».
Дождалась наконец Липа и весточки, полегчало у нее на сердце…
Неделю спустя после вешнего Николы обе сестры отправились в храм Божий ко всенощной и таково-то усердно молились, что запоздали выйти из церкви. Народу почти уже никого не осталось. При выходе они заметили двух пожилых странников в плохом дорожном платье.
– Страннички, старички Божии, издалека ли куда пробираетесь? – спросила Липа прохожих.
– Издалека мы сами, девонька, издалека, а пробираемся к дому сотника Алексеева, – нехотя ответил один из них.
– К дому моего батюшки! – вскрикнула Липа.
Старички удивленно посмотрели на девушку и по ее невольному восклицанию догадались, что она-то и есть именно та, кого они ищут.
Один из них шепнул ей:
– Весточка от суженого! Здоров и низко велел кланяться своей зазнобушке, приказал скоро ждать его назад сюда.
Уж и не знала она, какими только ласковыми словами отблагодарить незнакомцев. Девушки зазвали их к себе в дом. Никого из соседей не удивило, когда они с длинными посохами, в одежде, которую обыкновенно надевали пешеходы-богомольцы, вошли под кров сотника Алексеева. Прием странных людей был тогда делом очень обыкновенным, поэтому ничего не сказал и хозяин, когда дочери ввели к нему двух незнакомцев.
На другой день Липа, веселая, отправилась, по обыкновению, в мастерскую светлицу и была очень довольна, что в этот день царица Марья Григорьевна оставалась внизу с царем Федором. В ее отсутствие и другие старухи стихли и не допекали девушку, а ей сегодня особенно было бы тяжело, если бы стали бранить ее жениха. Когда стемнело и Липа собиралась уже идти домой, царевна послала ее на половину царя отыскать ключника, велеть нацедить ему хорошего кваса и передать ему гнев царевны за тот, который давеча принесла ей сенная девушка.
Во всем здании было уже довольно темно. Отыскивая ключника, Липа попала в дальние переходы. Вдруг в одном из них услышала она нечеловеческий крик, а за ним тотчас же началась какая-то глухая возня, и она узнала голос Семена Годунова:
– Так им и надо, бесовым детям, еще грамоты смеют привозить от антихриста!
Липа, сама не сознавая, что делает, но смутно поняв, что творится что-то недоброе, остановилась и слушала.
Она распознала голос вчерашнего странника, но так как он был слаб, то она не могла разобрать, что он говорит. В приотворенную немного дверь она увидала, как Семен Годунов с каким-то рослым широкоплечим мужчиной подскочили к нему и, повалив, стали наносить ему удары в голову и лицо. Шестнадцатилетний Федор был возмущен этой сценой – он попытался было остановить неистовства Годунова, но мать его со злыми глазами хриплым голосом кричала:
– Собаке собачья и смерть! Изверги, злодеи, клятвопреступники! Вот того же дождется и главный зачинщик Петька Басманов!
Тут Липа, сама не помня, что делает, рванула дверь и вбежала к ним. Все смутились и так были поражены, что даже не сразу узнали ее, но царица Марья Григорьевна скоро пришла в себя и стала бить девушку, сопровождая удары страшной бранью. В уме Семена Годунова сейчас же мелькнула мысль.
– С этой надо тоже покончить, зажать ей рот! – шепнул он царице.
Но тут произошло то, чего никто никак не ожидал. Один из связанных, покорно ожидавший своей участи, видя отважность девушки, сделал неимоверное усилие, высвободил стянутые кушаком руки и бросился на выручку Липе, а товарищ его тоже приободрился, и началась свалка. Этим воспользовалась избитая, полумертвая девушка и бросилась вон из дворца. Она даже не могла кричать о помощи, испуг отнял у нее голос, и она только шевелила помертвелыми губами… Без оглядки бежала она домой. Встречные с ужасом смотрели на нее и, не узнавая девушку, крестились.
Она добежала до дому и тут упала замертво.
– Сестрица, голубонька, что с тобой?! Батюшка, батюшка, скорее! – кричала перепуганная Куля.
Насилу-то удалось общими усилиями привести Липу в чувство, но к жизни она не вернулась. Промаялась бедняжка несколько часов, оглашая воздух страшными словами, бессвязно рассказывая о чем-то ужасном, потом понемногу успокоилась – и совсем замолкла.
Девушки не стало.
За чертой города на кладбище прибавился небольшой холмик с белым деревянным крестом, а в сердце отца открылась смертельная, незаживающая рана.
– Да будет Твоя святая воля, – говорил старик. – Ты дал, Ты и взял! – И покорно нес свое горе до могилы.
Поддерживаемая и ободряемая примером отца, в вере и молитве почерпала себе утешение и Куля.
– Не ропщи на Бога, крест по силе налагается! – повторял ей часто старик.
Есть в смерти и примиряющая сторона: остающиеся в живых теснее сплачиваются между собой. Чувства, скрываемые раньше по разным причинам, выступают наружу под влиянием сочувствия и сожаления к горю другого.
Так, утешая Кулю, Михаил Васильевич Шуйский договорился до того, что неожиданно объяснился ей в любви. Это послужило большим утешением Куле. Оба знали, что им предстоит жестокая борьба и мало надежды одержать победу. Род Шуйских славился гордостью и честолюбием, и едва ли когда-нибудь эта семья согласится принять в свою среду дочь простого сотника.
XIII
10 июня 1605 года на площади в Кремле перед дворцом и собором толпился народ. Десять дней назад наступил конец царствования Годуновых, и молодого царя Федора с матерью и сестрой заключили в дом Бориса Федоровича и стерегли крепко-накрепко.
Слышала семья Годуновых из своего заточения шум и крик, долетали до них угрозы, и крепче жались они друг к другу. Никого у них больше не осталось на свете из близких. Десять дней провели они в смертельном страхе.
– Матушка, – сказал Федор, – никак патриарха повезли?
– Ох, господи, до чего мы дожили! Так и есть, его! На простой тележке святителя везут! Да он, голубчик, во власянице! Не попомнили, что десять лет был первосвятителем. Его не пощадили, так уж нас и подавно не пожалеют!
Иногда Марья Григорьевна утешала себя и детей тем, что Дмитрий не погубит их, явит на них свое милосердие. Сегодня им было особенно жутко – толпа была возбуждена, и до них часто долетали крики: «Смерть извергам! Смерть злодеям!» Каждый из заключенных выражал страх по-своему: Федор храбрился и успокаивал сестру, Марью Григорьевну поддерживала любовь к детям. Она привыкла с детства к ужасам и теперь смотрела героиней.
Одна Ксения не думала о борьбе. Она казалась уже убитой всеми стрясшимися над ними бедствиями и еле держалась она на ногах, едва осознавая опасность.
Долго Ксения лежала без чувств, а когда стала приходить в себя, в комнате было почти темно. Не сразу вспомнила она, что такое с нею было: сознание возвращалось медленно.
Прислушиваясь, она заметила, что в комнате кто-то есть.
– Матушка родимая, это ты со мною? А где же братец?
– Ксения, дитятко мое злополучное, горемычное! Насилу-то ты опомнилась!
Царевна слышала знакомый ласковый голос и старалась припомнить, кто это говорит с ней. Но память изменила ей, и она не узнала своей старой знакомой. К ней пришла монахиня Онисифора, приближенная к ее тетке Ирине. Часто бывала старуха у царевны и ласкала Ксению, а когда тетка ее постриглась, обе монахини жили вместе и были неразлучны.
Матушка Онисифора зажгла ночничок и затеплила лампадку. Девушка приподнялась, но, угнетенная горем, не обрадовалась, увидев ласковое лицо. Монахиня грустно смотрела на нее.
– Касаточка сизокрылая, уйдем отсюда скорей от беды! Как бы опять изверги пьяные не пришли.
– А где же матушка, брат?
– Ох, не вспоминай! Отлетели их ангельские души, прияли они мученическую кончину. Всемогущий Господь вознес их из юдоли плача к Себе!
Ксения выслушала это, плохо понимая и по-прежнему оставаясь безучастной.
– Пойдем же отсюда, моя горемычная сиротка! Пойдем, дитятко, к нам в обитель, простись в последний раз с этой комнатой, помолись перед иконами.
Царевна стояла и не шевелилась – она готова была опять лишиться чувств.
– Пойдем же скорей, прикрой платье рясой да укутайся черным платком! Торопись, а то не дожить бы до беды. Что, как вспомнят о тебе да хватятся?
Ксения не двигалась. Тогда старушка перестала ее уговаривать, а сама накинула на нее рясу и закутала платком. Пришлось-таки ей повозиться с непокорными волосами девушки, пряди которых выбивались наружу. Кое-как одев, она взяла ее за руку, и та покорно пошла за ней, не сознавая, зачем и куда ее ведут.
– Вот наша обитель. Слава Всемогущему Создателю, добрались благополучно, уж не чаяла я, что и доберемся-то. Много страдалиц нашли себе здесь утешение!
Подойдя к двери кельи, монахиня прочитала Иисусову молитву и, когда послушница отперла, произнося «аминь», вошла и стала усердно класть поклоны перед образами. Молилась она за упокой близких ей людей, а слезы так и лились из ее глаз. Молитва ее была покорная, детская, в ней не было ропота на Создателя, Отца Небесного.
– Плачь, Аксюточка, плачь, болезная! Аль по такому горю и плач неймет? Ох, нет того хуже, тяжелее, как человек от горя каменеет! Словно сам не свой, одеревенеет весь. Матерь Пресвятая Богородица, смягчи Ты ее сердце, пошли ей слезы!
Настала ночь. Тишина в обители была невозмутимая. В келье матери Онисифоры было покойно. Старушка не ложилась спать всю ночь, читая псалтырь по убиенным новопреставленным Марии и Феодоре, а Ксения с открытыми глазами лежала на постели.
Много прошло таких ночей, а она все оставалась такой же, ко всему безучастной. Она ощущала страшную томящую боль во всем теле и жаждала смерти как успокоения. Но молодость взяла свое. Мир понемногу проник в измученную душу, и слезы полились у нее из глаз. Долго плакала Ксения – откуда только и брались теперь эти слезы? – а старушка не утешала, только ласково глядела на девушку.
Успокоившись, царевна осталась жить в этом мирном убежище, счастливая тем, что, казалось, все забыли об ее существовании.
1
Во все колокола.
2
Портрет.