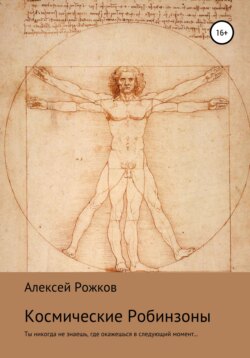Читать книгу Космические Робинзоны - Алексей Анатольевич Рожков - Страница 4
Глава 3.
В наших сновидениях мы всегда одной ногой в детстве.
или грустная история Бременского музыканта.
ОглавлениеПланета Земля, Италия
Город Рим, 12 апреля 2000 года.
Грустный итальянский уличный музыкант с русскими корнями, вынужденный интеллигент-эмигрант, томящийся муками и думами о Родине, собирал свой скудный небогатый скарб в большую холщовую сумку. Это был невысокий тщедушный человечек, очень худой, болезненный, с глубокими впавшими глазами и чёрными зрачками в тусклых глазницах. Щёки у него местами плохо выбриты, губы тонкие, безжизненные, а нос торчит на скуластом лице как у Буратино. Весь он какой-то пожёванный жизнью, но при этом не теряющий присутствия духа. Волосы музыканта были давно не ухожены, не стрижены, напоминали паклю, он собрал их сзади в косичку, перевязанную резинкой. Весь внешний безысходный вид менестреля и огромные грустные глаза, покорные судьбе, делали его поразительно похожим на Ослика Иа из мультика про Винни-Пуха. Одет парень был в старые, видавшие виды джинсы, стоптанные туфли с выпирающими большими пальцами, то и дело грозившими прорваться на свет Божий, и старую серую куртку, тоже «под джинсу».
Эта светло-серая куртка напомнила Саньку про старые, добрые стройотрядовские годы, когда он вместе с институтскими друзьями тянул линию связи под ЛЭП. Ах, эти дивные студенческие каникулы, советская романтика! Мошкара, пиво с водкой, прыщавые женщины в палатках, драки с местными, ну и конечно песни под гитару, куда же без них. Стройотрядовская жизнь очень хорошо запомнилась Шурику тем, что в ней было всегда холодно и жёстко ночами спать в палатке на земле и постоянно кончались сигареты, а посему курил он с друзьями всякую лабуду типа листьев дуба, коры клёна и выпотрошенных, размоченных дождём, бычков Примы. Помогало ли это утолить никотиновый голод? Вряд ли, но после коры дуба и сушёного чертополоха, уже точно не хотелось курить ничего, а башка трещала так, как будто ты бухал неделю. Хотя собственно почему «как будто»? Тогда всем раздавали такие куртки. Правда к концу смены они были испещрены нашивками и шильдиками, типа «СМУ-88», «БАМ», «Спецназ», и щедро разрисованы шариковой ручкой местного студенческого художника от слова «худо» картинами из жизни соцреализма на фронтах комсомольских строек.
На голову болезненный паренёк нахлобучил длиннополую, обвисшую, чёрную шляпу, по всей видимости часто служившую ему крышей и зонтом во время дождей. Во всём внешнем виде артиста было что-то от иллюстраций из книг Достоевского. Именно таким представлял я себе Раскольникова из «Преступления и наказания» и князя Мышкина из «Идиота».
Все нехитрые пожитки грустного музыканта, которые он паковал в бездонный холщовый мешок, состояли из складного стульчика, маленькой колонки-усилителя, шляпы для взимания подношений, остатков скудного обеда, нескольких старых газет и ещё какого-то мусора, свойственного самым бедным слоям населения. Большей половине этих вещей прямое место было в ближайшем мусорном контейнере, однако он его бережно хранил за неимением ничего большего. Я участливо помог парню и поднял его сумку-мешок с нехитрым скарбом.
После того как вещи были собраны, молодой человек отвязал верёвку, служившую поводком «Счастливчику», такому же грустному и худому, как и его владелец. Говорят, собаки похожи на своих хозяев. «Счастливчик» был не только не исключением, но даже наглядным доказательством этой народной приметы. Собственно, одинаковый образ жизни и делает двух существ из разных биологических видов – человека и собаку – похожими друг на друга. Естество определяет наше существование и сознание. Фортунтати, наверное, хотел бы иметь красивый кожаный ошейник, дорого́й, с выбитыми на блестящей железной бирке именем и адресом… Но увы, довольствоваться ему приходилось накинутой на шею матерчатой удавкой. Да и адреса-то для набития на ошейнике у него никакого и никогда не было, потому что не было ни квартиры, ни комнаты, ни даже угла.
Верёвка была накинута на собаку так, для видимости, потому что никуда убегать Фортунати-Счастливчик от грустного музыканта не хотел, да и некуда ему было бежать в этом огромном, и в то же время безжизненном, городе бездушных католиков, жалеющих медный грош. По причине острой истощённости, единственным вариантом сбежать, было разве что подохнуть в ближайшей подворотне. Верёвка болталась на Фортунати, как отцовское пальто на вешалке, когда пёс, так же шаркая и прихрамывая, как и его бедный хозяин, нехотя и устало плёлся домой. Цвета Счастливчик был рыжего, роста по собачьим меркам среднего, породы, сугубо итальянской, дворянской. Грустная квадратная мордочка с бородкой, чёрные, один в один как у музыканта, грустные слезящиеся глаза и стёртые жёлтые клыки – вот нехитрый портрет собаки. Физиономия Фортунати отдалённо напоминала благородных родственников по материнской линии, толи ризеншнауцера, толи эрдельтерьера, только бородёнка, как и у артиста была редкой, торчащей клоками. Уши кобеля висели как два унылых флага, а хвост, давно уже игриво не виляющий, болтался где-то сзади, как будто прибитый гвоздём. Шерсть пса была свалена колтунами, по бокам торчали голодные исхудалые ребра, а глаза были ну настолько печальны и, казалось с наворачивающейся на них слезой, что без сострадания на несчастного Счастливчика было не взглянуть.
*****
Фортунати давно свыкся со своей участью попрошайки, и единственной функцией – вызывать жалость для сбора подаяний. Он обладал не дюжим талантом, такую театральную паузу как он, не мог больше держать никто севернее Капитолия. Пёс был актёром одной роли, которую он знал в совершенстве и исполнял блестяще – грустно сидеть и смотреть на спешащую куда-то праздную толпу разно матерных живых существ, человеков разумных, гомо сапиенс. Это сложная работа, ведь надо выглядеть подобающе. Надо суметь разжалобить безразличных прохожих, каждый из которых если чего и хочет меньше всего, так это лишиться медяка в кошельке. Он лучше потеряет крохотную деньгу, выкинет в фонтан, «чтобы ещё раз вернуться», чем отдаст бездомному, помирающему с голода псу. Бессмертная строчка из «Вечной весны в одиночной камере» отражает всю суть католицизма:
«…Под столетними сугробами библейских анекдотов,
Похотливых православных и прожорливых католиков…»
Грустный хозяин и его не менее печальный пёс, оба они представляли собой яркую иллюстрацию к нетленным «Униженным и оскорблённым» Фёдора Михайловича Достоевского. Медленно плетясь, как по последней миле на Голгофу, оба, и музыкант, и «Счастливчик», шли по узким извилистым улочкам ночного Рима. Я помогал им тащить мешок, а мимо летели римские мажоры, жигало и прожигатели жизни в дорогих авто. Крича, улюлюкая и разливая шампанское в узкие дорогие бокалы, они высовывались из люков спортивных каров. Грудастые итальянские дивы, доморощенные Моники Белучи и Джины Лоллобриджиды, смеялись из окон машин над бедностью и ущербностью прохожих и весело тыкали в них пальцем. Музыкант вцепился обеими руками в свою гитару, которая болталась на ремешке на шее и, казалось, боялся отпустить её. Ведь по сути гитара была его, а точнее их, единственным кормильцем и средством заработка. Хоть и скудный, но всё-таки хлеб насущный… По всему было видно, что он ни при каких условиях не предаст свою верную подругу-гитару, не отдаст её никому, чтобы её не сглазили, не наложили проклятие, перекрывающее скудный ручеёк монеток.
Спустя какое-то время молчаливого пути, видимо чтобы скоротать долгий путь за беседой, мой новый знакомый начал свою грустную историю:
– Ну что, Александр, дорога длинная, до метро идти и идти, это если ещё успеем на последний поезд. Ты хотел узнать, как я сюда попал? Право не знаю с чего и начать…
– А ты начни сначала, – поддержал я его, пыхтя и таща мешок за человеком с собакой.
– Ладно, но учти, история будет длинная и непростая… К тому же я не знаю, поверишь ли ты…, впрочем, может оно и к лучшему… Родился я в Питере, тогда ещё Ленинграде, знаешь, наверное, что это культурная столица. Интеллигенция, искусство, город семи революций, мать его. Рос в самой обычной советской семье, типа отец – рабочий, мать – служащая… И всё было за нас предрешено заранее, панельная квартира, панельная школа, панельная жизнь… Всё как у всех, как у миллионов людей в СССР, живущих по одному и тому уже сценарию. «Родился-учился-работал и умер», «…Сотни лет сугробов, лазаретов, питекантропов…». Жили мы на окраине, где всё было ещё более среднестатистическое, чем в центре. Пустой холодильник, бананы по праздникам, вещи по знакомству из-под прилавка, водка по талонам, очереди за едой. На пустых прилавках продуктовых геометрические фигуры-инсталляции из трёхлитровых банок берёзового сока и килек в томате выставляли, потому что больше ничего не было. Вот и выкладывали их злые тётки-продавщицы то в пирамидки, то уголком, то треугольником. Помнишь ты, Санёк, эти банки с берёзовым соком? Такие большие, прозрачные, как слеза. Почему именно берёзовый сок заполнил всё место на прилавках? Не яблочный, не томатный, а именно берёзовый? Видимо был в этом какой-то особый, сакраментальный смысл. Ведь в России чего больше всего? Берёз. Они, берёзы эти, и есть символ исконной Руси. Вот и должны были чёрно-белые деревца, как сама русская Земля-матушка, в трудные годы прокормить весь советский народ одним соком, как тот Иисус Христос, что пятью хлебами пять тысяч человек накормил.
Музыкант встал, перевёл дыхание, вытер со лба капли пота и продолжил:
– А по большом счёту, Сашка, хотя вроде везде дефицит был, но с голоду не помирали. На 1 мая с отцом на демонстрацию ходили, с флагами, транспарантами. «Мир, труд, май». Седьмое ноября – красный день календаря, праздник Великой октябрьской революции. Несли портреты Ленина, руководителей страны, весёлые, замёрзшие, подпрыгивали на морозце. Помню сахарные петушки на палочках у площади, которые покупали у цыган, такие сладкие. Их почему-то в продаже в магазинах не было, только у цыган, и только на первое мая или седьмое ноября. Беднота была одно время такая, что обуви не найдёшь, поэтому носили её, что называется пока она до тротуара не стиралась. Однажды пошёл я на парад с отцом, а подошва ботинка одного возьми и отвались. А виду показывать нельзя, не положено, надо пройти под одобрительные взгляды вождей с ликующими массами, раскисать запрещено. Вот я и решил, как революционеры пламенные, без подошвы пройти весь парад, никому ничего не сказав. А ноябрь, холод, дождь со снегом, а я наступаю в лужи холоднющие прямо босой ногой, на которой ботинок висел только для вида, точнее его верхняя часть. Это я так в себе силу воли вырабатывал. Правда заболел потом и две недели валялся с температурой. Но ничего, выходили, советская медицина была тогда на высоте.
Рассказчика передёрнуло, как будто он вспомнил как сейчас холодно в далёкой России.
– И всё вроде шло по плану. Панельная двушка, четвёрка по математике, музыкальная школа, секция баскетбола. Родителей с утра до вечера нет дома, они на работе, а ключ от квартиры болтается на шее на верёвочке, драка на школьном дворе, продлёнка. Чем я отличался от миллионов таких же мальчишек? Да, пожалуй, ничем. Вот разве что, когда по школьной программе «Преступление и наказание» читали, врезалась мне в память одна фразочка. «…Тварь я дрожащая или право имею…». И тогда уже я начал думать над этим. Думал и всё понять не мог – как же так? Почему мы все живём одинаково, и нам хорошо… А откуда тогда мысли у людей такие? Ведь надо быть первым, стать октябрёнком, поступить в пионеры, выучить клятву, стать звеньевым звёздочки… А тут – «право имею». И свербела эта мысль меня, не давала она мне покою, понимаешь, Александр?
*****
Шурка пристально посмотрел на музыканта и увидел в его глазах нездоровый лихорадочный блеск, который делал его ещё больше похожим на иллюстрацию Родиона Романовича Раскольникова. Наверное, точно такой же блеск был у героя «Преступления и наказания», когда тот шёл убивать старуху-процентщицу. Вот хоть сейчас картину пиши.
– «Надо порыться в мешке, нет ли там топорика», – подумал он про себя, а вслух сказал, – а тебя случайно не Родином кличут? А то мы пол ночи общаемся, а так и не познакомились.
– Кстати да. А ты как догадался? – непонимающе захлопал глазами музыкант-Родион, – Потому что на гитаре «R» сзади нацарапана? Никто ещё ни разу в жизни не смог моё имя угадать.
– Ну можно и так сказать… Да… Именно по букве «R»… Как ещё я мог догадаться? – протянул Сашка.
Вот оно как значит. Реинкарнация, мать её ети.
– Ну ты Догада!
Букву «г» Родион смешно пытался произнести по-хохляцки, где-то между «х» и «г», правда получалось у него всё это почему-то печально и нисколечки не смешно. Аж всплакнуть захотелось.
– Помнишь, как в том анекдоте? Ну, когда один мужик видит, как другой мужик сидит на суку, и его под собой рубит? Нет, не помнишь? Короче первый говорит ему: «Что ты делаешь, сейчас упадёшь!», а тот знай себе рубит и посмеивается. Дорубил значит, шлёпнулся на землю, почесал затылок и отвечает: «Ну ты, мужик, Дохгада! Не колдун случайно?». Правда весёлый анекдот?
– Очень смешной, – задумчиво сказал Александр.
Этот анекдот с бородой не вызывал во нём никаких эмоций, но надо же отдать дань должного уважению и приличию. К тому же это самый простой способ расположить к себе человека – посмеяться, пусть натянуто и искусственно, над его неудачной шуткой. Сколько раз каждый из нас оказывался в ситуации, когда приятель плоско и неудачно шутит и заискивающе глядит в глаза, надеясь на смех с вашей стороны? И Вам, как бы ни было не смешно, надо выдавливать из себя улыбку и поддерживать неудавшегося сатирика.
– Так что ты там рассказывал про своё детство?
– Ну, а что детство? Детство, как детство. Самое обычное советское босоногое детство. Когда ты круглый день предоставлен сам себе, потому что родители усердно строят социализм. Воспоминания кусками всплывают. Помню ездили мы с родителями в круиз на теплоходе, путёвку дали матери на заводе, а завод-то был секретный, как, впрочем, и всё в Союзе. Помню приходишь со школы, а холодильник пустой. И не просто пустой, а шаром покати. Ни кусочка хлеба, ни капли супа, даже воды нет, авария. И только банка трёхлитровая с чёрной икрой стоит. Ну и ел я её столовой ложкой, куда деваться. Вот они гримасы социализма, жрать нечего, а чёрной икры море. Потом правда она стала стоить как космос, только одни воспоминая и остались.
А зимний салат и селёдка под шубой на Новый год? А походы через речку на лыжах и пельмени единственной пельменной в городе? Там такие пельмени были, что казалось, что это не пельмень, а заморское яство. Вспоминаю друзей школьных, товарищей, первую любовь. Эх, а поездки на Чёрное море с мамой и папой по путёвке, доставшейся по большому блату от профсоюза? А на лыжах зимой в соседний город, название которого и не вспомню уже… Горы там были большие, снежные… Тропы, лыжня, спуски, леса красивые… Да, Сашка, золотое время было, СССР. И главное чувствовали, что защита есть, что всё гарантировано. Хоть и типовое всё, бедное, серое, уравниловка, а не пропадёшь, до шестидесяти-то точно дотянешь. Такую страну просрали! Но это теперь я понимаю, а тогда всё по-другому казалось. Ветер перемен, будь он не ладен. А в пятом классе произошла со мной одна история…