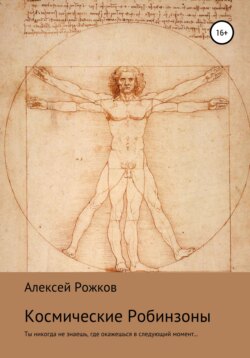Читать книгу Космические Робинзоны - Алексей Анатольевич Рожков - Страница 8
Глава 7.
Сладкое слово – одиночество.
Оглавление– Знаешь, – перебил Сашка его рассказ, – а ведь вот в этом я с тобой полностью соглашусь. Более того, мы здесь с тобой очень похожи. И я бывал почти в такой же ситуации, когда родители казались тебе неким вселенским оружием защиты, без которого ты казался себе брошенным на произвол судьбы, один одинёшенек во всей галактике. Практически голый перед ужасным миром. И я, как и ты, видел призраков.
Вспоминаю давно забытую историю, даже не историю, а свои чувства. Я всего на один миг почувствовал себя одиноким, маленьким, беззащитным человечком, которого лишили самого родного что у него было. Лишили чувства семьи, точки опоры. Я тогда был очень мал, лет мне было всего ничего, возможно три или четыре года. Но случай этот врезался мне в память навечно, как нечто экстраординарное, как вселенское ощущение глобальности одиночества. Неописуемое чувство поглощения тебя в виде молекулы огромным водоворотом бытия.
– Ну и что же это за случай такой? Ты не тяни, давай к сути, – поторопил меня Родион.
– Так вот, Родя, можно я так буду тебя называть? Ты за этот вечер стал мне как родной. Знаешь, столько у нас с тобой похожего? Ей-ей, не вру. Был у меня к слову сказать один знакомый Родя, Родион Перчинов, с которым мы потом, после взрыва на атомной электростанции, завернувшись в саваны по кладбищам ползали по пути из Н-ска в Саранск. Ты вот, например, знал ты, что взрыв на Чернобыльской АЭС был не единственным таким ядерным взрывом? А что до сих пор под Саранском дети с двумя головами рождаются, и если через одну деревушку в глухих мордовских лесах проехать, напрочь потенция пропадает? Нет? Ну узнаешь ещё, какие твои годы. Так вот, Родя, то чувство, о котором я тебе говорил, наиболее ярко посетило меня так же, как и тебя, первый раз в глубоком детстве, если так можно выразиться.
Наша троица – Санёк, Родион и несчастный Фортунати, продолжали свой скорбный путь по затихающим улочкам Рима, быстро угасающим в лучах весеннего заката. Я по-прежнему тащил мешок, а музыкант и собакой угрюмо брели, еле волоча уставшие за день ноги. Меня не отпускало ощущение, что рассказ Роди мне кого-то напоминает… И иногда к своему ужасу я понимал, что напоминает он мне меня самого….
– Я тебя долго слушал, теперь ты меня послушай, не перебивай – продолжил Шурик, – так вот, был я с года, как и все нормальные советские дети, отдан в ясли, потом, повзрослев, перешёл в детский садик. Там, как и во всём СССР, было так знаешь надёжно, не надо ни о чём думать. Вот тебе какао с пенкой, вот омлет, вот пюре с печенью минтая. Правда колбасы не было, но мы иногда делали её из пластилина, а потом ели по-настоящему. От советского пластилина ещё никто не умирал. И всегда мне казалось, что я как за каменной стеной, как за железным занавесом. По часам спешащие на работу родители меня провожали, по часам забирали, и я всегда знал, что ровно в пол шестого за мной придёт папа или мама, и мы пойдём домой. В нашу, вот такую же как у тебя Родя, двухкомнатную квартиру в панельном доме, только в другом городе, не Питере конечно, в Н-ске. Но, впрочем, какая разница в стране типовых домов, жизней и голов? И вот однажды, когда, казалось бы, ничего не предвещало, случилось страшное.
В тот прекрасный день в детском садике закономерно и традиционно после дня настал вечер. Потихоньку разобрали всех детей, все разошлись по домам. Увели даже Вику Родзивилову, которую её полупьяная мамаша забирала всегда позже всех. Ушла нянечка, начинало потихоньку смеркаться. Позже Вики никогда ещё никого не забирали, это был «час икс», последний отсчёт для меня перед концом света. Но в этот раз я остался. Один. А со мной только нервничающая и изрыгающая ругательства воспитательница, злая тётка, которая однажды уже стукнула меня больно туфлей по голове, да так, что рассекла её и потом долго не могли остановить кровь.
Добрые они были, эти советские служащие, особенно продавщицы в магазинах и воспитательницы в детских садах. Вот уж не знаю, почему они так всех ненавидели и относились ко всем гражданам и их детям не лучше, чем к назойливым насекомым.
Злая демонесса-воспиталка, худая, разукрашенная, со взрывом макаронной фабрики на голове, модной на тот момент причёской, каждую секунду грозилась плюнуть на всё это дело и уйти, оставив меня одного, как она выразилась «гнить в куче дерьма». Ни капли сострадания от неё ждать не приходилось, а своим бесконечным зудением и проклятиями она только больше и больше подливала масла в огонь моего безысходного детского одиночества. Становилось по-настоящему страшно и пусто. Я представлял, как эта злая тётка выставит меня из садика, и я столкнусь со злобным недружелюбным миром, населённым маньяками, убийцами и разбойниками, а также страшными монстрами и конечно цыганами. Они, разумеется, схватят меня сию секунду и уведут в свои цыганские таборы, где или съедят, предварительно нарезав по кусочкам и приправив цыганскими приправами по вкусу, или заставят работать и, чего ещё хуже того, попрошайничать на улице. Это было для советского мальчика, верного делу Ленина, смерти подобно.
*****
С младенческих лет я, всосав принципы марксизма-ленинизма с молоком матери, направо и налево проповедовал, ещё толком не слезая с горшка, хорошее, доброе и вечное.
– «Ну чистый генерал!»
Восхищаясь моими моральными принципами, говорил мне и одобрительно кивал, смоля «Приму», дед Иван, старый чувашин, вояка и коммунист, прошедший войну на японском фронте в военной прокуратуре и дослужившийся до чина полковника. Он, своим чувашским лицом с узкими глазами и широкими скулами, а так же военными прокурорскими повадками, был очень похож на татаро-монгольского завоевателя, Чингиз Хана. Жёлтый от сигарет, с больным желудком после армейских сухпайков, который он ездил в конце жизни лечить в Кисловодск, с больным сердцем, исковерканным войной и ползучим инфарктом, каждую секунду приближавшим его смерть, дед Иван всегда был и оставался офицером, полковником, прокурором и истинным советским несгибаемым солдатом и командиром. Закалённый, можно сказать железный или ледяной, мощный коренастый старик, пол жизни прослужил он в военном городке Иман на полуострове Тикси, на Дальнем Востоке, где-то в вечной мерзлоте, снегах и холоде Якутии.
Со временем, застава, где служил дед и на которой родилась моя матушка, превратилась, как и многое в Союзе, в город-призрак, а его, больного, раненого, после службы в горячих точках и отдалённых уголках на востоке нашей Родины, командировали в относительно спокойный и комфортный город среднерусской полосы с умеренным климатом под скромным названием «Н-ск». За заслуги перед отечеством дед Иван получил двухкомнатную хрущёвскую квартиру на пятом этаже, в тихом спальном районе с тополями, дачу в традиционные шесть соток рядом с городом, на которой он поставил срубовой дом, купленный в ближайшей деревне, и шикарную по тем временам машину – копейку ядовито-зелёного цвета. В придачу он занял должность заместителя военного прокурора Н-ска и получил бесплатный проезд наземным и воздушным транспортом пару раз в год.
В принципе Родина постаралась за все его боевые подвиги, потерянные годы и здоровье расплатиться по тогдашним меркам весьма щедро, жаль здоровья деду Ване было уже не вернуть… Чтобы хоть как-то заглушить боль в сердце и желудке, он постоянно пил горькую в гараже со своим приятелем – Чапаем, при чём по странному стечению обстоятельств это была не кличка и не прозвище. Чапай (именно Чапай, а не Чапаев, прошу заметить) Василий Иванович, был действительно реальный персонаж, сосед деда Вани по гаражу, номенклатурный работник в строительной отрасли в каком-то всемогущем СМУ, который с обеда уже был каждый день в те застойные брежневские времена свободен. Его привозила в гаражи чёрная Волга, которую он тут же отпускал. Чапай снимал костюм, надевал майку, трико, и из чиновника превращался в обыкновенного алкаша, который всегда был не прочь раздавить с заместителем военного прокурора бутылочку «Пшенички» с устатку. Вместе старики-разбойники прятались от бабы Мани, которая гоняла бедного деда Ваню из гаражей, в прямом смысле этого слова, поганой метлой. Дружба с Чапаем и бутылкой во многом приблизила безвременную кончину этого несгибаемого советского офицера, вместе с которым уходила эпоха СССР, уходило моё детство.
*****
Я твёрдо знал, что цыгане поджидали всех оставленных советских детей за воротами детского садика, прячась в подъездах, зарослях травы и помойках. Они высматривали вот таких-же как я брошенных мальчиков, которых не забрали родители и выставили из садика злые бессердечные ведьмы-воспитательницы. А самое ужасное было то, что я понял, что никогда больше не увижу нашей маленькой двухкомнатной квартирки, такой уютной и удобной, не увижу своей доброй мамочки, уставшего отца, большого, умного, сильного…
– «Наверное что-то случилось. Что-то непоправимое, страшное. Не могли же они просто меня забыть, они не такие!» – думал с ужасом я.
От этих мыслей становилось горько и обидно, страшно и безумно одиноко. Ведь никто так как мама не сварит суп, никто как отец не покатает на плечах, никто не пожалеет, не пойдёт со мной гулять… Это был конец, я стал беспризорником. Я пойду по дворам, по рукам и кончу жизнь в сточной канаве. У меня больше нет ни дома, ни родителей, ни одного близкого и родного человека. Слёзы жгучей предательской струёй подступили к глазам, я готов был расплакаться от жестоких слов злой воспитательницы, крывшей моих родителей благим матом, за то что они куда-то запропастились и сломали все её вечерние планы.
Помнишь лица вечно суровых, никогда не улыбающихся на улицах при встрече, советских людей? И тот самый диссонанс с фальшивим улыбками Запада, за каждой из которых крылась ненависть и волчий оскал капитализма? Так вот, я бы ни за что на свете не променял эти суровые уставшие лица советских тружеников, с их простой русской добротой, неприкрытой, надёжной, истинной, без наигранной театральщины, на улыбчивые маски-гримасы западников. Пусть не каждому понравятся наши хмурые физиономии, и уж совсем не каждый их поймёт, но не променяю я их на рафинированную лживую патоку американских наигранных, приторных улыбок, с белоснежными голливудскими зубами, которыми каждый из них, как вампир, готов вцепиться в глотку. Гнилые души за фальшивыми ширмами улыбок манекенов. Нет, Родя, по мне уж пусть лучше суровая сермяжная русская правда. По крайней мере она честная в своей вековечной злобе и бесконечной борьбе, порою сама с собой.
В тот сумрачный вечер я познал своё первое чувство одиночества. Оно было таким необычным, неприятным и болезненным, что комок подступал к горлу и хотелось выть на луну от обиды и тоски. Несмотря на то, что мой садик был буквально в паре кварталов от дома, я не представлял, если что-то случится с родителями, как я туда дойду. Как перейду страшную улицу с несущимися в никуда машинами и огромными красными трамваями-гильотинами. Как сбегу от шныряющих тут и там в поисках добычи цыган в цветастых длинных юбках и платках, то и дело кричащих «Позолоти ручку!». К тому же у меня, банально, как у того Остапа Бендера, не было ключа от квартиры где деньги лежат. Я готов был разрыдаться, чего по всей видимости и добивалась злющая ведьма, прикинувшаяся воспиталкой, каждую минуту раскалявшаяся от проклятий до красна.
Вдруг мне показалось, что я еле уловимо услышал голос моего деда, прошедшего войну, а перед глазами в дымке наворачивающихся слёз появился его образ в парадной военной форме и при полной амуниции, с орденами и медалями, который всё явственней стоял у меня перед глазами. В голове зазвучали слова:
– Ну чистый генерал! Не бойся, я с тобой! – сказал мне неизвестно откуда материализовавшийся дед.
Это точно был он, с неизменной дымящейся сигареткой в зубах и доброй советской улыбкой на знакомом с младенчества лице. Я оторопел. Помощь пришла откуда не ждали. Дед стоял передо мной и улыбался, совершенно реальный, живой, и я уже не был один. Теперь злой тётке – шиш с соплями, а не мои слёзы, я не отступлю ни шагу назад. Нет, я никак не мог предать, подвести деда, изменить идеалам революции и пролетариев всех стран, которые так активно объединялись в борьбе за всемирное равенство и братство. Поэтому я только с ненавистью смотрел, сжав кулачки на крашеную гидру, изрыгающую потоки ругательств и молчал, готовый ко всему.
– Врёшь, не возьмёшь, – шептал я про себя, глядя в её размалёванные глаза и силой воли удерживал поток детских слёз.
– Вот нарожают вас, иждивенцев, а самим потом дела нету. А нам что, личной жизни не иметь? – продолжала орать медуза Гаргонэр, – Ну всё, пошли! Я тебя выпровожу из садика, ждать больше не могу. И делай что хочешь, ты уже мужик большой, разберёшься.
«Большой» трёхлетний мужик, в моём лице, намертво вцепился в свой детский шкафчик с нарисованной красной звёздочкой, всё-таки не удержал пару скупых мужских слезинок и, глядя на неё исподлобья, прошипел:
– Никуда я отсюда не пойду! А ты… ты… Фашистка!
– Что? Что ты сказал, маленький негодник? Ты кого фашисткой назвал? Да за такие слова знаешь, что я с тобой сейчас сделаю!
Ведьма уже начала было снимать свой колдовской башмак с острым каблуком, чтобы, по всей видимости, пробить мой хрупкий детский черепок, но её страшному замыслу не суждено было сбыться. В этот самый момент, улыбаясь и шутя, совершенно беззаботно, в комнату группы вошли мои папа и мама. Я сначала не поверил своим глазам, так как был уверен, что никогда их больше не увижу. Но их образ не исчез и не развеялся, родители продолжали стоять в метре от нас, такие светлые и воплощавшие в себе всё добро этого мира. Ведьма-воспиталка сразу поникла, осела и начала что-то бурчать, клокотать и квакать как жаба.
– Что ж вы, родители, на часы не смотрите? У нас рабочий день до 6, а время сколько!
– Сколько?
Воспитательница посмотрела на часы, висящие на стене. Время-то было всего-навсего пять минут седьмого. Она скривила рожу. Вся её истерика и бесконечные события длились ровно пять минут.
– Вы уж нас извините, тут накладка вышла. Жену на работе задержали, а я думал она ребёнка заберёт. А потом мы как-то вот вместе встретились и сразу пошли за Сашей. Собственно, опоздали-то всего на пять минут, о чём разговор?
Ведьма не знала, что сказать, весь свой яд она уже выплеснула на беззащитного меня, а со взрослыми защитниками ей не хватало силёнок тягаться и спорить.
– Ну ладно, забирайте своего… – она явно хотела назвать какой-то гадкий эпитет, но её связки словно кто-то придушил невидимой рукой, и изо рта только вылетело шипящее, змеиное, – ребёнка-а-а-а.
– Мама, папа! А ко мне дедушка приходил! – радостно известил я родителей, – он мне помог не бояться!
Родители озадаченно переглянулись.
– Да вон же он, смотрите, – я потянул их за рукава в то место, где только что стоял, улыбался и цедил цигарку дед Иван, блистая орденами.
Но там уже никого не оказалось. Лишь лёгкий, неуловимый запах сигарет таял в воздухе, да растворялись в пространстве следы улыбки, словно у чеширского кота.
– Саша, ну что ты выдумываешь… Мы же говорили тебе, дедушка умер…
Отец с сожалением погладил меня по голове и повёл за руку на выход. А я всё не верил, оборачивался, в надежде доказать всем, что не выдумывал, что дедушка жив, что он мне помог… Вот так, Родя, это и был мой первый случай самостоятельности, первое чувство вселенского одиночества и первая встреча с призраком.
Родион недовольно и даже агрессивно поглядел на меня и сплюнул.
– Но это не одно и тоже! Я тебе про реальный случай рассказываю, про встречу с представителем иных миров, цивилизаций! Эх, да ты ничего не понимаешь! Что ты мне – дед, воспитательница… Марксизм-ленинизм, одиночество! Нет, брат, извини, но твой рассказ совсем из другой оперы.
Санёк честно говоря не ожидал от этого плюгавого забитого человечка такой тирады. Ему было совсем не понятно, что так вывело из себя музыканта, и что он так раскричался, при этом ему ещё его дурацкий мешок тащат. Шурик встал, кинул поклажу на мостовую и сказал:
– Знаешь, что, Родя! Значит мой призрак деда-фронтовика тебе не призрак, а эти твои рассказики, попахивающие шизофренией с синдромом преждевременного старения, это значит я должен слушать и восхищаться. Иди-ка, ты того, мил человек, знаешь куда… И тащи-ка сам свой мешок!
Сашка развернулся и готов был идти прочь, да и время было уже позднее, как вдруг почувствовал, что Родион схватил его за рукав.
– Ну ты что, Александр… Не кипятись… Просто ты ещё всего не знаешь… Ну извини, я, наверное, погорячился. Пойдём, мне же надо тебе ещё столько рассказать. Мне это физически необходимо, понимаешь?
Парень потупил глаза, чувствовалось, что ему очень неудобно, но при этом очень важен этот разговор. Может он с русским человеком не разговаривал уже год, да и когда ещё придётся…
– На ладно, – отходчиво пробурчал Санёк, – пользуешься ты моей добротой.
Он поднял с земли мешок и медленно пошёл вперёд.
– Ну что застыл, Родя, догоняй! Счастливчик, вперёд, не спи, замёрзнешь!