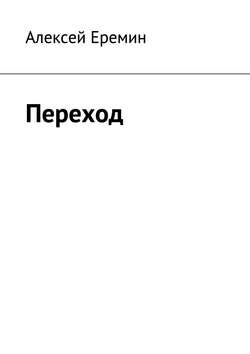Читать книгу Переход - Алексей Еремин - Страница 3
Часть первая
Глава первая
ОглавлениеВ отдельной комнате, на широкой кровати, головой к окну спал Гриша Цветов. Накануне он попросил маму разбудить его в семь часов, но сейчас отвернулся от стены, повернулся на спину, и очнулся. Он любил в себе способность проснуться по заказу, в определённый час. Гриша лежал в полудрёме и думал, что если позволить закрыть глаза, то можно ещё поспать, но тогда разбудят насильно, и весь день будешь сонным, если проснуться сейчас, то встанешь бодрым. Но проснуться не было сил. Цветов резко сел на кровати. В голове зашумело, закачалось, словно заплескалось молоко в кастрюле. Гриша подставил упоры рук. Подумалось, если утром рано вставать, накануне не можешь заснуть, не смотреть фильм, не читать книгу. «Не даром бутерброд падает маслом вниз», – произнёс он вслух, сиплым спросонья голосом, отбросил с ног одеяло, – стал рассматривать свои худые волосатые ноги, чему-то удивлённо приподнял нижней губой верхнюю, и встал прямо в тапочки. Надевая синие домашние тренировочные и белую футболку, решил, что надо обязательно повторить английский, – «сегодня две пары». Просовывая ступню в носок, он про себя проговаривал: «Socks, футболка vest, нет vest это майка, а футболка будить фьютболька. Teeshirt!». Вложил руки в рукава байковой рубашки, в сине-чёрную клетку, и подумал «shirt». И уже пропел вслух: «Shirt, длинный звук, – shirt. Поставим кончик язычка на альвиолки и снова тянем – shirt. Здравствуй мама! Решил тебя не беспокоить и проснулся сам. Здравствуй, папа, исходя из того, что ты ещё в постели, ванную комнату займу я».
В ванной комнате он с полным ртом мятной пасты морщил лоб, раскрывал красные в белой пене губы и громко мычал «to brush the teeth». Цветов посмотрел в отражение (в овальном зеркале, в туманном нимбе лицо, узкое к подбородку, длинный прямой нос, с видными профилями хрящиков, волнистые светло-русые волосы до плеч, разделённые посредине головы белым пробором), сделал серьёзными серо-зелёные глаза и погрозил своему отражению зажатой в кулаке щёткой: «В слове teeth звук долгий, потому старайся, – teeth», – пена вывалилась изо рта в розовую раковину, мятный сугроб смыл поток прозрачной воды.
Он вошёл в кухню, закладывая за уши загнутые металлические дужки круглых очков, снял крышку с круглой сковороды, где шипел и пузырился его завтрак. Гриша переложил белое, с выпученным глазом и узором потёкшего желтка солнце яичницы в тарелку, и стал искать глазами по столу банку с растворимым кофе. Он улыбнулся её стальному дну, с видимым удовольствием раскрыл дверцу шкафа светлого дерева и достал новую. Вошли шаги мамы, он спросил, не оглядываясь, приготовить ли ей, но она отказалась.
– А где отец?
– Пошёл за газетами, ему что-то нужно в «Известиях».
Мама подошла к мойке, Гриша сел за стол в противоположный от неё угол, у подоконника. Ущипнув тарелку, он подвинул к себе одноглазое лицо, правой рукой на подоконнике нащупал радиоприёмник, оранжевый, формой с футбольный мяч, с воронкой белой решётки. Он покрутил на себя белое колёсико на макушке, раздался мужской голос: «До первого января 1995 года департамент столицы выявит потребность пищевых предприятий в мясниках и пекарях и направит нужное их количество…» – Гриша прокрутил колёсико приёмника назад.
– Гриша, – сказала мама, ворочая локтём с красным пятнышком, движениями по кругу вымывая щёткой жир с тарелки, – отчего Ваня к нам не заходит, вы что, поссорились?
Длинный нос укоротился и потолстел морщинами, приподнял очки, глаза сузились, брови прижались к векам, вилка и нож легли на стол, и Гриша медленно, в такт паузам наклоняясь к столу, начал высоко, постепенно опуская интонацию вниз, как в английском повествовательном предложении:
– Мы не поссорились, мы видимся каждый день в институте, к тому же вчера ты первая сняла трубку, когда звонил Иван.
– Ах, так это был Ваня, – не меняя тона и не оглядываясь, уже ёршиком болтая в чашке, сказала его мама, – а мне голос показался знакомым, но не узнала. А как же Саша. Вы давно с ним не виделись.
– Я звонил ему вчера.
– Так это ты с ним допоздна говорил, а я думала, с кем это ты так долго болтаешь.
– Да, я говорил с Сашей. Наш разговор коснулся разных тем. Обсуждались институты, наша общая в прошлом школа, писатели – Достоевский и Бунин.
– Даже Достоевский и Бунин, – мама заворачивала двумя руками краны и покачивала головой, словно говорила сыну: «Вы только подумайте!»
– Желаете ли вы знать, какие ещё темы были затронуты в нашей беседе?
– Нет, зачем же. Ешь, и не забудь вымыть за собой посуду. – Она вытерла руки о цветное полотенце, с виноградом и яблоками на блюде, отдельной грушей и глиняным кувшином. – Кстати, кто это вчера звонил, с таким немного грубым голосом?
– Жора.
– Я спрашиваю только для того, чтоб в следующий раз передать, кто звонил.
Цветов сложил посуду, слушая бодрый голос сестры и неслышные ответы мамы: – А папа уже уехал? А Гриша спит? Ра-аньше меня-я вста-ал? Намного? Ого, что с ним? – Цветов улыбнулся, рассеянно посмотрел на руки, что резко повернули два крана, – палка тёплой воды воткнулась в тарелку из-под яичницы, брызги перелетели через ограду раковины, струя разбивалась о жирную тарелку, салютовала во все стороны горячими каплями, и размытая, бесформенными ручьями стекала по металлическим стенкам мойки, затопляя дно. Чувствуя тыльной стороной ладони приятно горячую воду, он стал щёткой быстро чистить тарелку. Затем взял ёршик, из круглой деревянной ручки, с середины взорванный пучками розовой щетины, ловко вывернул внутренность чашки, сполоснул её снаружи, поставил вверх дном на красную решётку сушилки.
В большой комнате стрелки на часах, не доставали двух трёх минут до восьми. Гриша не спеша прошёл в свою комнату. Квартира была четырёхкомнатная; просторная гостиная, поменьше спальня родителей, две маленьких комнаты для Гриши и сестры Лены, что сейчас с мамой собиралась в школу.
В комнате Гриши, справа вдоль стены, высоким изголовьем под подоконником стояла кровать, в холмах постельного белья. Напротив неё, углом в угол стоял чёрный письменный стол. Над столом тремя ступенями к окну поднимались полки, заполненные книгами и учебниками. Между столом и кроватью провалился узкий проход. У подножья кровати засох кузнечик старого кресла. Над ямой в сиденье повис череп туманного стекла, светящийся мозгом, пронзённый золотым прутом из золотой опухоли на стене бордовых обоев. Напротив, перед столом, стояла чёрная тумба-куб, с двумя половинками дверок. На квадратной площадке эбонитовая бомба магнитофона блестела отражённым светом. Перед тумбой и креслом, вдоль стен до двери, один напротив другого, стояли два шкафа. Один составили семь коричневых полок, до потолка заполнив стену книгами. Напротив светил бельмом абажура коричневый гардероб. Если бы дверцы гардероба распахнулись сами, как иногда с ними случалось от бессильной старости, то открылась бы полка, заполненная бельём и лёгкой одеждой; под ней висели, зацепившись пустыми головами вешалки с тощими телами свитеров, рубашек, и представительного тёмно-синего костюма.
Цветов прошёл семь шагов от двери до окна, снял с подоконника чёрный кожаный рюкзак, вздохнул, уложил тетради, английский словарь, в обложке британского флага, трудовой кодекс, роман Тургенева «Дворянское гнездо», чёрный зонт с окна. Он прощупал ручки в боковом кармане, склеил рюкзак радугой молнии. Ручка зонта не поместилась и скрючилась сбоку. На левом углу стола осталось плато больших тетрадей, справа стенка учебников. Гриша прошёл в гостиную, – кольнули стрелки часов, – он выдохнул недовольное «тпррр», вернулся к себе, нажал на кнопку магнитофона, заиграла с середины «Alive». Он повернул колёсико погромче. На стуле при столе валялись чёрные джинсы, тёмно-синий свитер. Он переоделся, кинул домашнюю одежду на кровать, вытащил правой рукой из кармана деньги, пересчитал, сказал вслух «шестнадцать тысяч», выключил звук и прошёл в прихожую. Расчесал перед зеркалом длинные волосы, одел блестящие как чернослив ботинки на высокой подошве, с круглыми носами, которые схватила лампа крабовыми клешнями, одел тёмно-синее полупальто до колен, и крикнул:
– Ма, я пошёл.
– Когда будешь?
– Вечером.
– До сиданья, Гришаа, – пропела Лена из кухни.
– Пока. – Через дверной проём он поморщился часам в гостиной и вышел.
Лифт с пятого этажа дома. В неярком свете каменные ступени, блестящие после влажной тряпки уборщицы; вереница жидких отпечатков поднимается наверх. Стены зелёной краски, что надулась пузырями, осыпалась голубыми ручьями и сытыми облаками. На штукатурке потолка глубокие царапины, чёрные надписи «love» «death», «Тюрин дурак», «Семён, мы тебя любим». Цветов, оттолкнув от себя одну за другой двери, вышел на улицу.
Он остановился на площадке над ступенями. За его спиной сильная пружина громко захлопнула дверь. Из чёрных обмоток шарфа вылез подбородок; взгляд побежал по песчаным кирпичам, запрыгал по окнам с белыми рамами и влетел в низкое пасмурное небо, ещё неясное в предрассветной мгле. Каблуки выбили скороговорку, обстучали большую лужу перед подъездом, и по мокрой асфальтовой дорожке ударили на весь двор.
Слева под стук шагов тянулась жёлтая стена пятиэтажного дома, с двумя выступами закопчённых стеклянных колонн до крыши, что плоским дном нависли над бордовыми створками в подъезды, освещённые пятнами света. Над узким проходом к первой двери сплелись ветви деревьев, – в тупике арки уютно светила лампочка в плоской каске. Между подъездами мокрые косые прутья кустов заштриховали окна первого этажа. Из тонких ветвей торчали в стороны чёрные стволы, обугленные шеи жирафов. Мелькали в движении кусты, за ними, освещёнными окнами ночного поезда, медленно проплывали зарешёченные стёкла первого этажа. В большом окне по белой занавеси, подсвеченной изнутри, тень проплыла из одной створки рамы в другую, третью, и исчезла за жёлтой стеной.
По стеклянной колонне, каплей нефти по закопчённой пробирке, стекла тень лифта.
Справа, низкие ромбы из зелёной проволоки сцепились углами, как вагоны состава. Они вздрагивали от гришиных шагов, медленно двигались назад между пластинам рельс. На верхней пластине, тёмно-зелёной, как созревший лист, свернулась шариками ртути вода.
За низкой оградой на чёрной земле идолами на славянском капище стояли жёлтые деревянные звери вокруг лужи. Из головы зайца лопастью весла торчало правое ухо, левое обломано острым уголком. За лужей, за фигурами истуканов, уходящих шагом, темнел проём в бревенчатую избушку под острой крышей.
Медленно шагала по глазам горка; деревянные ступени, площадка на четырёх столбах под горочкой крыши, длинный спуск из досок. Цветов проходил, поворачивая голову за плечо. Посредине жёлтых досок вздрагивал длинный шрам пустоты. Между дощатых стенок перил, на площадке медленно появилась тёмно-зелёная бутылка шампанского с серебряным бинтом на длинном горле.
Гриша очнулся, увидел горку, бутылку, подумал: «Могли бы убрать, – дети гуляют». Он повернул на узкую безлюдную улицу, освещённую слабым на рассвете светом шариков фонарей, похожих на катыши белого хлеба. Налетел встречный воздух, сдувая с лица длинные волосы. Руки глубже спрятались в квадратных карманах пальто, зашевелили монеты, бумажный мусор. Навстречу сильнее подул влажный холодный ветер, Цветов зарылся острым подбородком в шарф. Он смотрел, как под глазами то появляются, то исчезают чёрные блестящие ботинки. Поднял взгляд от мокрого асфальта и мелких лужиц; навстречу шёл мужчина в бежевом плаще и чёрной шляпе. В левой руке он нёс равнобедренный, тощий у ручки и широкий у дна коричневый портфель, правой сжимал воротник плаща, окровавившего горло подкладкой.
Цветов вошёл в короткую аллею. По сторонам дорожки стояло по две белых скамьи. Каждая зацепилась тремя чугунными ножками за твёрдый асфальт, задние погрузились в землю; в изогнутые сиденья завалишься, как в гамак. Между скамьями завязли белые кубы каменных урн. Справа круглым парком росли деревья, среди деревьев шли люди, пересекались у высокой сгнившей клумбы, огибали её тонзуру и расходились.
Гриша обошёл мешок асфальта, скопивший тёмную воду. Провёл пальцами по скамье. На руку скользнули холодные капли, он растёр их между ладонями, кивнул головой решению, прошёл до конца аллеи. Постоял, укладывая за уши сырые волосы, вздохнул, повернулся, медленно пошёл обратно. Его окликнули. Он повернулся, стал улыбаться и пожал руку.