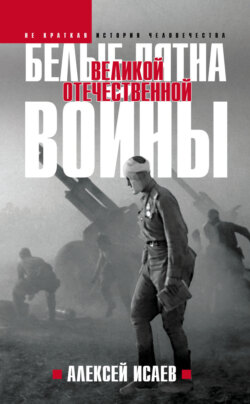Читать книгу Белые пятна Великой Отечественной войны - Алексей Исаев, Владислав Гончаров - Страница 3
К вопросу о готовности СССР к войне в военном и экономическом отношении и причинах поражений Красной Армии летом 1941 года
ОглавлениеФакт долгосрочной подготовки СССР к войне с Германией не вызывает сомнений. Одновременно фактом является то, что к войне летом 1941 г. мы оказались не готовы. Как разрешить это противоречие?
Во-первых, есть существенная разница между готовностью как таковой и приведением в состояние готовности к войне в конкретный день и час. Простой пример: утром 7 декабря 1941 г. в Перл-Харборе американские линкоры находились в степени готовности «Икс» («X», полная готовность обозначалась «Z»), не предусматривающей закрытых дверей и горловин водонепроницаемых переборок. Это имело неприятные последствия, когда при далеких от фатальных повреждениях корабли начинали тонуть. Технически линкоры могли выдержать попадания японских торпед? Безусловно. Они их выдержали? Нет. В случае с многочисленной и разбросанной на сотни километров сухопутной армией ситуация еще сложнее. Готовность страны к вооруженному конфликту следует рассматривать в нескольких плоскостях: политической, экономической и технической.
Первая страница Директивы № 21 «Барбаросса». Факсимиле документа.
Первым вопросом является все же политический, поскольку именно политическое руководство ориентировало высшее командование вооруженных сил относительно начала возможного конфликта с противником. В начале 1941 г. ориентации на скорое нападение Германии не прослеживается. Так, на январских (1941 г.) оперативно-стратегических играх на картах действующие оперативные планы не проверяются[1]. Более того, именно в начале 1941 г. был дан старт двум масштабным и долгосрочным программам военного строительства со сроком готовности, далеко выходящим за лето 1941 г. Это, во-первых, строительство укрепленных районов, а во-вторых, строительство бетонных взлетно-посадочных полос. Причем строительство укрепрайонов шло с перекосом в сторону Прибалтийского особого округа. Из выделенных на фортификационное строительство 1941 г. 1 млрд 181,4 млн рублей около 50 % предназначалось для ПрибОВО[2], 25 % – для ЗапОВО[3] и 9 % – для КОВО[4]. На практике это означало, что к лету 1941 г. не достигались ни готовность УРов в Прибалтике, ни завершение строительства в Белоруссии и на Украине. Из 458,9 млн рублей в ПрибОВО было освоено 126,8 млн рублей, ни одного боеготового ДОТа к началу войны завершено не было. Одновременно ДОТы на границе под Брестом и Сокалем оставались необсыпанными, незамаскированными и без всех подведенных коммуникаций.
Не менее показательна история с аэродромами. В период осенней и весенней распутицы обычные грунтовые аэродромы раскисали, и нормальная учеба пилотов становилась почти невозможной. В Киевском и Западном особых округах в период распутицы сохраняли работоспособность только 16 аэродромов из 61[5]. Первоначально Наркомат обороны осторожно предлагал оборудовать 70 новых бетонных ВПП: 52 в 1941 г. и 18 в 1942 г. Однако 24 марта 1941 г. СНК СССР и ЦК ВКП(б) утвердили уточненный план строительства взлетно-посадочных полос (ВПП) на 251 аэродроме. Этим постановлением строительство ВПП возлагалось на Народный комиссариат внутренних дел СССР. Из них в пространстве до 300 км от границы строительство развернули на 138 аэродромах. Это привело к резкому снижению боеспособности ВВС особых округов. В отчете штаба Западного фронта о действиях ВВС фронта за 1941 г. указывалось: «Несмотря на предупреждения о том, чтобы ВВП строить не сразу на всех аэродромах, все же 60 ВПП начали строиться сразу»[6]. Взлетные полосы перекопали, а из-за нехватки техники работы шли медленно[7]. На оставшихся неохваченными строительством аэродромах советские самолеты располагались скученно, что сделало их легкой целью для люфтваффе в первые дни войны. Строительство бетонных ВПП было свернуто после доклада маршала С. К. Тимошенко И. В. Сталину от 24 июня 1941 г., но последствия этой программы были поистине катастрофическими.
Все это говорит о том, что в начале 1941 г. угроза нападения Германии на СССР расценивалась советским руководством как маловероятное событие. В противном случае запуск проектов со сроками завершения не раньше осени 1941 г. выглядит нелогичным, тем более с перспективой снижения боеспособности существующих соединений. Вызвано это было в том числе ошибками разведки, когда количество дивизий вермахта на востоке осенью 1940 г. переоценили – и темпы наращивания группировки на границе с СССР в начале 1941 г. не выглядели как угрожающие[8].
Весной 1941 г. был запущен еще один долгосрочный проект: формирование сразу двадцати новых механизированных корпусов. Эта мера также имела определенный негативный эффект – помимо сомнительной боеспособности новых соединений к июню 1941 г., новые танковые и моторизованные дивизии весеннего формирования не были укомплектованы автотранспортом. Одновременно на формирование новых танковых дивизий обращались бригады Т-26, обеспечивавшие, по планам 1940 г., непосредственную поддержку пехоты, по бригаде на стрелковый корпус. Опыт войны показал, что части поддержки пехоты в Красной армии нужны и даже необходимы. Следует отметить, что, по имеющимся на сегодняшний день данным, решение о формировании двух десятков мехкорпусов было принято еще до того, как Г. К. Жуков стал начальником Генштаба.
Остановка в пути на восток. Весной 1941 г. на советско-германскую границу перемещались большие массы войск.
В том же духе развивались перед войной ВВС Красной армии. В 1939–1940 гг. было сформировано 124 авиаполка, а в первой половине 1941 г. началось формирование еще 106 авиаполков[9]. Причем в наибольшей степени этот процесс затрагивал истребительную авиацию: количество ее полков собирались увеличить с 96 до 149 (53 новых полка). Как отмечалось в майском докладе 1941 г. по ВВС ЗапОВО, формирование новых авиачастей за счет внутренних ресурсов округа «привело к разжижению кадров, выдвижению молодых, малоопытных и слабо подготовленных летчиков на командные должности»[10]. В соседнем КОВО картина была практически идентичной. При перевооружении на новые самолеты некоторые старые, хорошо сколоченные авиаполки к началу боевых действий не имели необходимого количества самолетов новых типов, на 22 июня 1941 г. летчиков было больше, чем самолетов, а старая матчасть уже была изъята для новых формирований. Эти боевые машины в новых полках попали в руки свежеиспеченных пилотов, выпускавшихся с конца 1940 г. в сержантском звании.
Перед лицом приближающегося германского вторжения нужны были меры, нацеленные, напротив, на быстрое повышение боеспособности уже имеющихся частей и соединений. Таковые предпринимаются буквально накануне войны, когда был отдан приказ на перевооружение мехкорпусов весеннего формирования 76-мм пушками. Однако по крайней мере на 13 июня в ЗапОВО это решение выполнено еще не было, будучи отданным только 28 мая 1941 г.[11] Свежесформированные моторизованные дивизии мехкорпусов РККА в июне 1941 г. не могли передвигаться на автомашинах, но одновременно и не имели лошадей, как обычные стрелковые дивизии.
Если уж говорить о «царице полей», то необходимо сказать следующее. По штату военного времени, введенному в апреле 1941 г., советская стрелковая дивизия должна была насчитывать 14 483 человека, по штату мирного времени основного состава (№ 4/100) она насчитывала 10 291 человека, а по штату мирного времени сокращенного состава (№ 4/120) – 5864 человека[12]. Фактическая укомплектованность стрелковых дивизий 5, 6, 26 и 12-й армий КОВО к началу войны колебалась от 7177 до 10 050 человек, в среднем составляла 9500–9900 человек[13]. Ни одна дивизия армий прикрытия не содержалась по штату военного времени. Может быть, ситуация изменилась в последние дни перед войной? Имеющиеся документы говорят, что учебные сборы мая – июня 1941 г. касались соединений в глубине построения войск округов, а не армий прикрытия[14]. Более того, встречающиеся в литературе утверждения о запуске весной 1941 г. механизма скрытой мобилизации, именуемого «большие учебные сборы» (БУС)[15], подтверждения документами также не находят. Также можно привлечь показания непосредственных участников событий. На допросе в немецком плену командующий 6-й армией И. М. Музыченко уверенно ответил: «6-я армия была к началу войны на штатах мирного времени»[16].
Таким образом, нельзя не согласиться с полковником Дэвидом Гланцем, прямо утверждавшим, что Красная армия к 22 июня 1941 г. была армией мирного времени[17]. К этому можно добавить: «находившейся в разгаре процесса реорганизации». Для перехода в статус армии военного времени требовалась мобилизация, которая была сорвана немецким нападением. Дивизии приграничных армий получить людей и технику по мобилизации в первые дни войны просто не успели. С отмобилизованными соединениями в близкой к штатной численности вермахт столкнулся уже в июле 1941 г., на рубеже Днепра, после разгрома войск особых округов.
Всего вышеописанного самого по себе было бы достаточно для серьезного поражения в столкновении с отмобилизованной армией, реорганизация которой завершилась еще в 1940 г. Однако главной причиной катастрофического развития событий летом 1941 г. все же было другое. Если в Перл-Харборе повышение боеготовности достигалось нажатием кнопок, закрывающих гермодвери и заслонки, создание группировки на границе, способной отразить нападение главных сил германской армии, требовало куда большего времени и усилий.
В мирное время в приграничных, именовавшихся «особыми» округах содержалось ограниченное количество стрелковых дивизий. Если их выстроить у границы, то каждой достался бы фронт около 30 км на всем протяжении от Карпат до Балтийского моря. Советские уставы рекомендовали для обороны фронт в 10–12 км на дивизию, т. е. вдвое-втрое меньший. Чтобы образовать такой заслон на границе, нужны были, во-первых, дивизии из глубины построения особых округов (их так и называли в переписке «глубинными»), а во-вторых, дивизии из внутренних округов, т. е. с Урала, Северного Кавказа, Сибири и Поволжья. Перевозка этих войск требовала в общем случае около 30 дней. Таким образом, чтобы Красной армии встретить врага во всеоружии, нужно было принять решение о формировании у границ крупной группировки войск минимум за три-четыре недели до нападения. Вскрытия планов противника и однозначной трактовки группировки войск у границы на рубеже мая и июня 1941 г. в Москве не было. Осознание опасности стало фактом 10 июня 1941 г., но за оставшиеся 12 дней выдвижение войск из глубины округов и внутренних округов не было закончено.
В итоге против 40 стрелковых дивизий на границе, растянутых на 30 км и более, немцы утром 22 июня 1941 г. выставили более 100 дивизий. На направлениях главных ударов превосходство было подавляющим. Все это предсказуемо привело к поражению армий особых округов и многочисленным прорывам фронта, причем не только на направлениях ударов танковых групп. Имея численное превосходство, немецкая пехота прорывала оборону на границе на львовском направлении, под Гродно и в Прибалтике.
Возникает закономерный вопрос: почему развертывание к границе не было начато ранее? Распространенный ответ – это опасение вызвать ответные меры со стороны Германии. Говорят даже о «маниакальной» боязни И. В. Сталина спровоцировать немцев[18]. С другой стороны, нельзя не признать, что перевозки крупных масс войск к границе действительно можно было интерпретировать по-разному. Это может быть оборонительный заслон, а может быть формирование ударных группировок. Независимо от реальных планов Германии вскрытие перевозки соединений из глубины страны может вызвать ответные меры и обернуться войной. В связи с этим следует сказать, что Г. К. Жукову ошибочно приписывается идея «превентивного удара», якобы отраженного в «Соображениях об основах стратегического развертывания» от 15 мая 1941 г.[19] Предложения Жукова носили достаточно осторожный характер, документ же не читают дальше первых абзацев. Фактически он предлагал лишь подтянуть войска внутренних округов «ближе к западной границе»[20] (в районы Вязьмы, Брянска, Минска, Шепетовки, Бердичева и т. д.), что сократило бы время их перевозки к границе в случае угрозы войны. Однако даже эта мера была принята только после 10 июня 1941 г.
Запуск процесса развертывания войск с высокой вероятностью означал войну. Такое развитие событий было нежелательно ни ввиду развернувшихся реорганизационных мероприятий, ни ввиду состояния экономики. Дело не только в налаживании массового производства танков новых типов КВ и Т-34. Проблемной точкой СССР были боеприпасы. Так, согласно справке, подготовленной в Главном артиллерийском управлении РККА на имя Г. И. Кулика 24 мая 1941 г., сдача Наркомату обороны комплектных выстрелов была «совершенно неудовлетворительна». Вместо 37 % по плану по выстрелам средних и крупных калибров сдача составила 16–18 %, т. е. отставала вдвое. Снаряды крупных калибров (210, 280 и 305 мм) вообще не сдавались[21]. По состоянию на апрель 1941 г. накопленных боеприпасов по некоторым позициям (37-мм и 85-мм зенитные пушки, 122-мм и 152-мм гаубицы новейших систем обр. 1938 г.) в Красной армии имелось меньше чем на месяц ведения боевых действий[22]. Достижение приемлемого уровня запасов ожидалось к 1942 г.[23] Призрак «снарядного голода» существовал еще до катастрофического развития событий в 1941 г.
Проблема возникла не в последние месяцы перед войной. Планы по боеприпасам средних и крупных калибров систематически недовыполнялись в 1937–1939 гг. В январе 1941 г. народному комиссару государственного контроля СССР Л. З. Мехлису докладывалось о «глубоких пороках» в системе обеспечения армии боеприпасами[24]. Помимо череды проблем общего характера (преждевременные разрывы, массовый брак по корпусам снарядов и т. п.) узким местом были пороха. Начатые строительством на рубеже 1920–1930 гг. пороховые комбинаты были завершены постройкой только к 1941 г. Ввод новых мощностей позволил выйти на отметку выполнения мобилизационного плана по порохам к 1941 г. в 75 % (118 200 тонн при плане 156 600 тонн)[25]. Тем не менее до 100 % было еще далеко. Более того, в докладе наркома боеприпасов И. П. Сергеева[26] в адрес К. Е. Ворошилова прямо признавалось: «Эти мощности надо считать недостаточными и немедленно приступить к созданию в СССР дополнительных мощностей по порохам, доведя общую мощность минимум до 500 000 тонн»[27]. Причем для реализации этого плана требовался переход на производство нитроглицериновых порохов, а производство основных в тот момент для СССР пироксилиновых порохов ограничивалось, например, мощностями страны по производству этилового спирта как растворителя.
Все эти факты были известны на самом верху, и предпринимались усилия по исправлению ситуации. В этих условиях принятие решения, с высокой вероятностью приводящего к вооруженному конфликту, представлялось не вполне обоснованным. Особенно ввиду отсутствия объективных и убедительных данных разведки. Группировка германских вооруженных сил на советской границе до июня 1941 г. вполне могла быть интерпретирована как оборонительная (нормативы плотностей на оборону – они универсальные и к вермахту применимы точно так же). Здесь необходимо также напомнить, что вопрос о возможности внезапного нападения в советской военной теории не был окончательно решен. Существовало мнение: «Мы не такая страна, как Польша», высказанное на совещании командного состава в декабре 1940 г. генерал-лейтенантом П. С. Кленовым[28]. То есть предполагалось, что намерения противника все же будут своевременно вскрыты разведкой. Это предположение, к сожалению, не оправдалось.
Реалии, возникшие в результате удара 100 немецких дивизий по 40 советским, являли собой маневренные сражения невиданных доселе масштабов. Такой характер боевых действий усугубил и вскрыл проблемы со средствами тяги артиллерии Красной армии. Основным тягачом артиллерии корпусного звена и артиллерии РГК в Красной армии были сельскохозяйственные тракторы С-60 и С-65, передвигавшиеся со скоростью пешехода. Не лучше обстояло дело в отношении дивизионных тягачей. Еще до войны комиссия ГШ КА констатировала: «Тракторы СТЗ-5, предусмотренные штатами для артиллерийских частей танковых и мотострелковых дивизий […] не обеспечивают их как по скорости движения, так и по мощности двигателя»[29]. В результате маневр артиллерии, как дивизионной, так и корпусной, систематически запаздывал. В последующем те же самые сельскохозяйственные тракторы дотянули артиллерию РККА до Берлина, но маневренные сражения лета 1941 г. обернулись катастрофой, в том числе ввиду малоподвижности артиллерии. В вермахте артиллерия подвижных соединений (танковых и моторизованных дивизий), а также артиллерия резерва Главного командования была полностью моторизована и оснащалась скоростными тягачами, обладавшими паспортной скоростью около 50 км/ч[30]. Также к лету 1941 г. артиллерия Германии существенно усилилась в отношении тяжелых орудий. Если на 1 мая 1940 г. вермахт располагал 163 сверхтяжелыми орудиями калибром 210–420-мм, то к 1 июня 1941 г. таковых насчитывалось уже 442 единицы[31]. Это позволяло вермахту прорывать укрепленные полосы, подходя к ним подвижными соединениями, не ожидая пехоты армейских корпусов.
С началом боевых действий проявили себя проблемы, неочевидные в мирное время. Актуальнейшей проблемой летом 1941 г. стала борьба с немецкими танками. Ситуация здесь была двойственной. С одной стороны, Красная армия в 1930-х годах избежала «гаубизации», т. е. перехода на легкие гаубицы вместо 75–76-мм пушек. Также в СССР массово выпускалась 45-мм противотанковая пушка. Однако на рубеже 1940–1941 гг. произошел качественный скачок в бронировании немецких танков и штурмовых орудий, переход на 50-мм монолитную броню, которая не пробивалась 45-мм пушками на дистанциях далее 50 м, практически самоубийственной для расчетов орудий. Теоретически их могли заменить 76-мм дивизионные и танковые орудия, но с 1936 г. до июня 1941 г. заказ по 76,2-мм бронебойным снарядам был выполнен всего на 20,7 %[32]. 76-мм бронебойные снаряды были в 1941 г. в остром дефиците. Именно вследствие этого пришлось массово использовать в качестве противотанковых 76-мм и 85-мм зенитные пушки. В свою очередь, штатным тягачом для последних были те самые СТЗ-5, динамическими качествами которых были недовольны еще до войны. Маневр противотанковой артиллерией, соответственно, оказывался затруднен. Действительно надежным противотанковым средством были танки Т-34 и КВ (при наличии бронебойных снарядов). Чтобы остановить врага, потребовалось с июля по декабрь 1941 г. сформировать и вооружить 206 стрелковых дивизий общей численностью около 2 млн человек плюс отправить на фронт 2,2 млн человек вооруженного и невооруженного маршевого пополнения[33].
Вышесказанное заставляет сделать следующие выводы. Несмотря на большие усилия, предпринятые в предвоенные годы для индустриализации страны и повышения боеспособности советских вооруженных сил, в СССР имелись серьезные системные проблемы, помешавшие встретить врага во всеоружии. Во-первых, это запоздалое осознание опасности нападения Германии, приведшее как к запуску затратных и скорее снижавших боеспособность Красной армии программ; во-вторых, недостаток времени от момента осознания опасности до непосредственно вторжения немецких войск. И форсированная индустриализация, невзирая на очевидные успехи, все же не ликвидировала полностью отставание СССР по ряду высокотехнологичных производств. Специфика маневренных боев лета 1941 г. лишь усугубила все эти проблемы. Потребовались титанические усилия, мобилизация всех сил и промышленных мощностей страны на отпор врагу, чтобы не проиграть.
1
Бобылев П. Н. Репетиция катастрофы // Военно-исторический журнал. 1993. № 8. С. 28–35.
2
Прибалтийский особый военный округ.
3
Западный особый военный округ
4
Киевский особый военный округ.
5
Центральный архив Министерства обороны РФ (далее – ЦАМО РФ). Ф. 35. Оп. 11285. Д. 60. Л. 45.
6
ЦАМО РФ. Ф. 208. Оп. 2589. Д. 92. Л. 10.
7
ЦАМО РФ. Ф. 35. Оп. 11285. Д. 60. Л. 158.
8
Мельтюхов М. И. Упущенный шанс Сталина. Советский Союз и борьба за Европу: 1939–1941. М.: Вече, 2000. С. 303–304.
9
Мельтюхов М. И. Упущенный шанс Сталина. Советский Союз и борьба за Европу: 1939–1941. М.: Вече, 2000. С. 357.
10
ЦАМО РФ. Ф. 127. Оп. 12915. Д. 364. Л. 1.
11
ЦАМО РФ. Ф. 127. Оп. 12915. Д. 75. Л. 74.
12
Хорьков А. Г. Грозовой июнь. Трагедия и подвиг войск приграничных военных округов в начальном периоде Великой Отечественной войны. М.: Воениздат, 1991. С. 15.
13
Гуров А. А. Боевые действия советских войск на юго-западном направлении в начальном периоде войны // Военно-исторический журнал. 1988. № 8. С. 33.
14
1941 г. Документы. В 2 кн. Кн. 2. М.: Международный фонд «Демократия», 1992. С. 244–248.
15
Горьков Ю. А. Кремль. Ставка. Генштаб. Тверь: Ред. – изд. фирма РИФ, 1995. С. 70; 1941 год – уроки и выводы. М.: Воениз дат, 1992. С. 73.
16
Национальное управление архивов и документации (США) – National Archives and Records Administration (далее – NARA). T. 311. R. 226, frame 279.
17
Glantz D. Barbarossa: Hitler's Invasion of Russia 1941. Tempus, 2001. P. 206.
18
Волкогонов Д. А. Сталин. Политический портрет. М.: Новости, 1992.
19
Безыменский Л. А. О плане Жукова от 15 мая 1941 г. // Новая и новейшая история. 2000. № 3. С. 58–67.
20
1941 г. Документы… С. 219.
21
ЦАМО РФ. Ф. 81. Оп. 12104. Д. 670. Л. 254.
22
ЦАМО РФ. Ф. 67. Оп. 12001. Д. 19. Л. 209.
23
Там же.
24
ЦАМО РФ. Ф. 81. Оп. 12104. Д. 670. Л. 1.
25
Вернидуб И. И. Боеприпасы Победы. М.: ЦНИИ НТИКПК, 1998. С. 37.
26
Расстрелянного в 1942 г.
27
Российский государственный архив экономики (далее – РГАЭ). Ф. 7516. Оп. 1. Д. 711. Л. 379.
28
Русский архив: Великая Отечественная. Т. 12 (1–2). Накануне войны. Материалы совещания высшего руководящего состава РККА 23–31 декабря 1940 г. М.: ТЕРРА, 1993. С. 153.
29
Механическая тяга артиллерии в Великой Отечественной войне. М.: Воениздат, 1957. С. 34.
30
Spielberger W. Die Halbkettenfahrzeuge des Deutschen Heeres 1909–1945. Motorbuch Verlag, 1993. S. 162, 164.
31
Germany and the Second World War. Volume IV. Deutsche verlagsanstalt. Stuttgart, 1983. P. 636.
32
ЦАМО РФ. Ф. 81. Оп. 12104. Д. 759. Л. 142.
33
ЦАМО РФ. Ф. 56. Оп. 12234. Д. 133В. Л. 1, 3, 97.