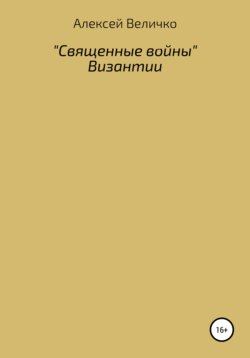Читать книгу «Священные войны» Византии - Алексей Михайлович Величко - Страница 3
Династия Юстиниана
I. Император Юстин I (518—527)
Глава 2. Восстановление общения с Римом и прекращение церковного раскола
ОглавлениеУже с первых своих шагов Юстин показал, что является приверженцем Халкидона и потому сразу вернул из ссылки нескольких человек из числа своих единоверцев, попавших в немилость при Анастасии. Он также солидаризовался с наиболее видными представителями царской семьи покойного государя, которые желали немедленного возобновления общения с Римским епископом. Зримое прекращение его общения с кафедрой, авторитет которой был огромен, наглядно демонстрировало раскол Кафолической Церкви, что православное сознание тех веков воспринимало крайне болезненно.
Как оказалось, подавляющая часть населения Константинополя разделяет эти взгляды. И не успел еще император отдать необходимые распоряжения, как уже 15 июля 518 г. огромная толпа жителей заполнила собой храм Св. Софии и потребовала от столичного патриарха Иоанна (518—520) анафематствовать евтихиан и манихеев, к которым халкидониты относили всех сочувствующих Несторию, а попутно Антиохийского архиерея Севира (512—518).
От Иоанна потребовали также публично признать Халкидонский Собор как IV Вселенский, восстановить в диптихах имена Македония, Евфимия, папы св. Льва Великого (440—461) и назначить на следующий день Собор для восстановления церковного единства. «Многая лета патриарху, многая лета государю, многая лето августе! – неслось из толпы. – Вон Севира! Ты вполне православен! Провозгласи анафему на севериан, провозгласи Собор Халкидонский! Чего тебе бояться? Юстин царствует».
Требования возникли не на пустом месте, и хотя при вступлении в патриаршество Иоанн отрекся от Халкидона, сейчас он дал публичную клятву, что выполнит все пожелания присутствующих. На следующий день, 16 июля 518 г., ситуация повторилась в еще более жесткой редакции – горожане кричали: «Вон манихеев, анафема Севиру! Послать общительную грамоту в Рим! Учредить празднество в честь Евфимия и Македония! Внеси в диптихи четыре Собора!»6 Это было настолько всеобщим мнением – имеется в виду восстановление единства Церкви и общения с Римом, что патриарх распорядился помянуть во время Литургии имена прежних вселенских архиереев и Римского папы.
Собор, на котором присутствовало более 40 епископов, открылся 20 июля и первым делом рассмотрел ходатайство монахов из тех обителей, которые в течение долгих лет отстаивали честь Халкидона. Их требования сводились к тому, чтобы Собор: 1) внес в диптихи имена патриархов Евтихия, Македония и папы св. Льва Великого наравне с именем св. Кирилла Александрийского, 2) восстановил права всех ранее осужденных лиц по делам патриархов, 3) восстановил почитание всех четырех Вселенских Соборов, 4) анафематствовал и низложил патриарха Антиохии Севира.
Заметим, что, за исключением восстановления чести патриархов Македония и Евтихия, все остальные пункты дословно повторяли инструкции папы Гормизда (514—523) своим легатам в переговорах с императором Анастасием. Константинопольский собор беспрекословно принял все требования монахов, а патриарх Иоанн с согласия Юстина утвердил его решения. Последовавший затем царский указ ко всем восточным церквам требовал принять соборные акты7.
Откровенно говоря, отношение в восточных патриархатах к этому Собору было различным. В Палестине его приняли с большим сочувствием, и сам св. Савва взялся отправить копии соборных актов в некоторые епархии. Но в Антиохии, где авторитет Севира был беспрекословен, и в Александрии его отвергли. Сам Севир до осени 519 г. сохранял за собой патриарший пост, нимало не беспокоясь о собственной судьбе, и убежал в Египет лишь тогда, когда комит Востока Ириней прибыл в Антиохию, чтобы его арестовать.
На Востоке начался настоящий ренессанс Православия. Все, кто еще вчера был гоним, вышли из убежищ и получили прощение, а их гонители были сосланы или казнены. Приговоренный к смерти за попытку государственного переворота Виталиан был возвращен из Скифии, и в храме Св. Софии он, император и св. Юстиниан дали друг другу клятвы в верности и дружбе. Его наградили титулом консула на 520 г. и саном магистра армии, он остался при дворе, принимал деятельное участие в делах государства и требовал суровых кар к монофизитам, предлагая не только лишить сана Севира, но и отрезать тому язык8.
Царское и патриаршее послания одновременно были отправлены с комитом Гратом в Рим к папе Гормизде, дабы сообщить о восстановлении имени понтифика в диптихах и о прекращении раскола. Первоиерарх Востока и император просили понтифика прислать своих легатов в Константинополь, чтобы те скрепили единство Церквей. Конечно, папа с радостью воспринял эту весть, посчитав, что при таких удачных обстоятельствах нужно добиваться полной победы. Но провинциализм и политическая слепота Рима привели к тому, что папа решил, будто весь Восток подпишет его послание, что называется «с закрытыми глазами». Увы, он глубоко заблуждался на этот счет.
Для проформы и в целях соблюдения собственного достоинства апостолик созвал в Риме свой Собор и после краткого обсуждения направил к Юстину пять послов – епископов Германа и Иоанна, пресвитера Блада, диаконов Диоскора (наиболее доверенного своего человека) и Феликса. С ними папа передал послание («Libellus»), в котором обязывал всех восточных архиереев подписаться под следующими словами: «Следуя во всем Апостольскому престолу и исповедуя все его постановления, я надеюсь заслужить пребывание в том же общении с тобой, которое исповедуется Апостольским престолом, ибо в нем пребывает всецелая и истинная сила христианской религии. Обещаю не поминать в богослужении имен тех, кто был отделен от общения с Кафолической Церковью, и кто, следовательно, не согласен с Апостольским престолом»9.
Приезд легатов был обставлен пышно: навстречу послам выехали два сановника, а за 10 км от Константинополя к послам вышли св. Юстиниан, Келер, возвращенный из небытия Виталиан и Помпей, которые при ликовании народа 25 марта 519 г. ввели клириков в столицу.
Впрочем, воссоединение церквей состоялось не без «шероховатостей». Папа непременно требовал анафематствования не только Евтихия и Нестория (они давно уже считались на Востоке еретиками), но целой плеяды патриархов: Диоскора, Тимофея Элура, Петра Монга и Петра Кнафея, Акакия, Фравиты, Македония и Евфимия, а также бесчисленного числа епископов, служивших при режиме «Энотикона». Кроме того, папа Гормизда желал видеть под актом подписи всех восточных епископов, что вызвало легкий ропот и дневную задержку для уговоров сомневающихся. Но силой императорской власти и это условие было принято.
Позднее, уже после отъезда легатов, Юстин, соглашаясь с отлучением Акакия, обращался к папе с личной просьбой снять анафемы с остальных восточных патриархов и других архиереев, но понтифик твердо стоял на своем. Как естественное следствие, фактически Восток пренебрег папскими требованиями и «не заметил» анафематствования своих архипастырей. Даже несчастный патриарх Акакий в агиографических сочинениях не только не рассматривается как еретик, но и именуется «блаженным» за свою защиту Халкидонского Собора.
Во многих епархиях местные Соборы открыто, в пику папскому посланию, приветствовали восстановление памяти Македония и Евфимия, а когда один из легатов, епископ Иоанн, в Фессалониках потребовал подписать Libellus, то едва не был сметен толпой. Отлученный папой от Церкви, Фессалоникийский епископ Дорофей был признан в сущем сане на Соборе в Гераклее и при поддержке императора Юстина восстановлен на своей кафедре10.
Пожалуй, в большей степени, чем богословские расхождения, преодолению раскола и окончательному отказу от «Энотикона» препятствовали формальное упорство Рима, его излишняя «угловатость» и жесткость во всем, что касалось обеспечения интересов и превосходства Апостольской кафедры. Такая позиция и ранее с трудом воспринималась на Востоке, и данный случай не стал исключением. Те епископы, которые принимали «Энотикон» с халкидонских позиций и не отвергли его, не рассматривались на Востоке как еретики. Не только Евфимий и Македоний, но и Флавиан Антиохийский и Илия Иерусалимский (494—516) вполне справедливо сохранили свою добрую репутацию11.
Наконец, папская грамота была подписана, и все указанные в ней лица анафематствованы. Примечательно, что патриарх Константинопольский Иоанн подписал послание, добавив к своей подписи следующие строки: «Я заявляю, что все церкви древнего и нового Рима суть единая Церковь». Возможно, этим он хотел показать, что в столице – не одни еретики, а, быть может, желал подчеркнуть, что Рим и Константинополь имеют по-прежнему равную честь в Кафолической Церкви.
Но напрасно Рим полагал, что Константинополь капитулировал – события в столице и Палестине еще в бытность Анастасия I показали, что «Энотикон» в монофизитском понимании едва ли имеет большинство, и заслуги тех патриархов и епископов, которых понтифик потребовал анафематствовать, не менее важны для Православия, чем бескомпромиссная позиция самого апостолика.
Последней точкой преодоления раскола стало исключение из диптихов (церковного поминовения) имен покойных императоров Зенона и Анастасия. Это было сверхъестественное событие, до сих пор никогда не виданное, тем более что ранее папы, отказывая многим восточным епископам в общении, не считали Зенона и Анастасия отлученными от Церкви. Однако для упрочения своей победы Рим заявил и это требование. Как ни странно, Юстин и св. Юстиниан удовлетворили его – видимо, у императора и его племянника были свои расчеты, чтобы пойти на столь непопулярный для идеи Римского самодержавия шаг. А потому оба правителя, имевшие свои виды на Римскую церковь, не хотели допускать, чтобы их планы провалились.
И вот, наконец, 27 марта 519 г., в день Святой Пасхи, в храме Св. Софии при общем ликовании народа совершилась общая Литургия. Но папские легаты еще на целый год оставались в Константинополе, решая отдельные вопросы веры, в том числе и формулу скифских монахов, выведенную ими как противовес «Распныйся за ны…» – «Один из Троицы плотью пострадав».
Рим не одобрил этой формулы – с одной стороны, папа Гормизд не был готов признать ее православность, с другой – чувствовал, что ее анафематствование приведет к новой волне раскола. Скифских монахов продержали в Риме почти 14 месяцев, до августа 520 г., а затем выслали в Константинополь. Надо сказать, волнения папы были совершенно напрасными. Противодействуя монахам, он лишь демонстрировал каменную твердость Запада и Рима в понимании тех проблем, которые волновали Восток после Халкидона. Нет ничего удивительного в том, что, вернувшись из Рима, монахи начали беспощадную критику апостолика, причем в публичных собраниях приняли участие многие сенаторы12.
С этого момента началась вторая часть многовекового признания Халкидонской формулы, где император и его молодой советник св. Юстиниан Великий продемонстрировали ту черту своего характера, что, ради мира в Церкви они готовы пойти на компромисс. Они охотно откликнулись на призыв «скифов» к дискуссии, а св. Юстиниан позднее переработал их формулу в свой знаменитый тропарь «Единородный Сыне и Слово Божий Бессмертный сый…», вошедший затем в состав Литургического богослужения. Примечательно, что папа в конце концов не принял этой формулы, ссылаясь на то, что она «новая» и потому ее можно истолковать так, будто Халкидон что-то упустил в своем оросе13. Эта история интересна еще и тем, что являлась первым большим самостоятельным поиском св. Юстиниана в области богословия.
В начале следующего года произошло два довольно значительных события: 25 февраля 520 г. умер патриарх Иоанн, и на его место был выбран халкидонит патриарх Епифаний (520—535). А чуть ранее, 19 января, при выходе из бани убит кинжалом Виталиан, смерть которого до сих пор осталась в числе загадок истории. Одни считали, что это было местью кого-то из горожан за те неприятности, которые Виталиан причинил при осаде Константинополя, другие полагали, будто эта расправа – дело рук монофизитов. Некоторые сплетничали о том, что за этим стоит тень царского племянника св. Юстиниана, что едва ли обоснованно14.
Однако желанный мир Церквей был далеко не столь безоблачен, как этого хотелось императору. Анафематствование многих восточных патриархов повсеместно вызвало ропот. Епископы, не признавшие Халкидон, а таких было 54 человека, оставили свои кафедры и убежали к сочувственным пустынножителям Сирии, опасаясь ссылки и наказаний. По всему Востоку начались гонения на монахов-монофизитов, тут же подавшихся в Сирию и образовавших 5 больших общин. Бывший патриарх Севир и из пустыни продолжал руководить своими сторонниками в Антиохии, а его преемник Павел Иудей (518—520) был обвинен в несторианстве и также снят с кафедры15. Гибель следующего патриарха Антиохии, Евфрасия (521—526), во время землетрясения в 526 г. монофизиты сочли Божьей карой за отступление от истинной веры.
Но наибольшие волнения происходили в Египте, где было полно монофизитов. Однако после «эмиграции» сюда Севира и епископа Юлиана Галикарнасского среди самих монофизитов возник раскол по вопросу о тленности или нетленности тела Иисуса Христа, причем в Александрии Юлиан приобрел массу сторонников, убежденных, как и он, в том, что тело Христа во время Его пребывания на земле являлось нетленным16.
Это привело к новому расколу – уже в лагере монофизитов, что не добавило Церкви мира. Однако, надо сказать, значение Египта как житницы Римской империи было столь велико, что имперские власти не решались применять жесткие меры. И потому, хотя патриарх Александрии Тимофей (520—535) так и не признал Халкидонский орос, никаких административных последствий со стороны императора к нему применено не было17. Правда, в отношении сирийцев власти не были столь разборчивы, что вылилось в формирование на Востоке нового национально-церковного движения.
Воссоединившись с Римом, императорский двор принялся за чистку Церкви и от других еретиков. В первую очередь кара пала на головы ариан, что вызвало гневную реакцию со стороны короля Остготской Италии Теодориха Великого (470—526). Как арианин, он не считал для себя возможным пройти безразлично мимо факта преследования единоверцев на Востоке и потребовал от Юстина прекратить гонения. В противном случае могущественный остгот пообещал устроить ответные гонения на православных в Италии. Неизвестно, насколько эта угроза могла быть приведена в исполнение с учетом специфического характера главы Остготского королевства, но Константинополь не принял ультиматум. И хотя ранее, не имея сил сражаться с остготами, Юстин назвал того «сыном по оружию» и назначил в 519 г. Эвтариха Вестготского, женатого на дочери Теодориха, консулом, но сейчас занял жесткую позицию18.
Зная, какой авторитет апостолик имеет в христианском мире, Теодорих направил в Константинополь своим послом самого Римского папу Иоанна (523—526), надеясь, что тот решит вопрос в его пользу. Но, как внезапно выяснилось, слухи о папских возможностях оказались сильно преувеличенными. Нет, внешне все выглядело очень благообразно. Сам император вышел встречать поезд папы за 10 км от столицы и с великой пышностью проводил того в Константинополь. Согласились даже, чтобы папа короновал Юстина императорской короной повторно (!). Ему легко уступали самое почетное место, отодвигая в сторону Константинопольского патриарха, который без спора удовлетворял требования папского окружения воздать понтифику должное. В день Святой Пасхи, 25 марта 525 г., папа с Константинопольским патриархом совместно служили Литургию и причащались из одной чаши Святых Даров. Во все время нахождения папы в столице и император оказывал тому высшие знаки внимания.
Но когда речь зашла о прекращении преследования ариан, податливость царя исчезла, и ходатайство Иоанна осталась без удовлетворения. Безусловно, такая «экспедиция» папы, совершенная под давлением Теодориха Великого, сильно подорвала авторитет апостолика на Востоке. Действительно, где же хваленая римская принципиальность, если понтифик решился заступиться за еретиков, которые к тому же в течение многих десятилетий германского засилья выступали традиционными врагами национальной партии в Константинополе и Италии? Кстати сказать, это обстоятельство – резкое понижение авторитета Римского епископа, не осталось без внимания св. Юстиниана, когда тот вступит в права правления Империей и начнет реализовывать свою политику на Западе. Дело об арианах было закрыто, и, к сожалению, его результат больно ударил по самому апостолику. По возвращении в Рим он был арестован по приказу Теодориха Великого и закончил свои земные дни в тюрьме19.
Надо сказать, это событие, происшедшее вскоре после казни в Риме, в 524 г., сенаторов Симмаха и Боэция, резко подорвало расположение итальянцев лично к Теодориху Великому и остготам в целом. Невольно они задавали себе вопрос: кто может чувствовать себя в безопасности, если самые благородные римляне пали жертвой готского произвола? На этом фоне провизантийская партия Рима устроила широкую пропаганду против остготов и имела большой успех. Авторитет Теодориха настолько упал в глазах православных христиан, что, когда 30 августа 526 г. он умер от дизентерии, возникло множество самых фантастичных легенд, объективно рисующих отношение населения Италии к Остготскому королю.
Одну из них привел в своих «Диалогах» папа св. Григорий Великий (590—604). По его рассказу, один римлянин отправился вместе с ним к некоему набожному отшельнику. В разговоре с ними тот заявил им, что Теодорих умер. «Наверное, это ошибка, – отвечали ему посетители. – Мы видели его совершенно здоровым три дня назад». Но Божий человек уверенно подтвердил, что Теодорих Великий умер вчера вечером – он сам видел, как король варваров шел со связанными руками между папой Иоанном и Симмахом по направлению к кратеру вулкана, куда они его и сбросили. Вернувшись в Италию, св. Григорий Великий и его товарищ по пути действительно узнали, что король скончался20.
Но среди многих нестроений случались и светлые минуты. В 523 г. в Африке после смерти короля вандалов Тразимунда (496—523) к власти пришел Гильдерих (523—530), сын Гунериха и Евдокии, дочери покойного Западного императора Валентиниана III. Чувствуя себя потомком Римских императоров, он еще ранее установил добрые отношения с Константинополем и даже обменивался со св. Юстинианом подарками. Теперь же король немедленно отменил все распоряжения своих предшественников против православных и вернул ранее изгнанных епископов из ссылки21.
Последовательную политику Римского императора по защите Православия вскоре почувствовали во всех краях Ойкумены. Так, Юстин принял живое участие в судьбе христиан, подвергшихся гонениям в земле химьяритов, что находилась в юго-западной части Аравийского полуострова. В 523 г. новый царь этого государства, Зу-навас, ревностный поклонник иудаизма, вознамерился истребить христиан в городе Негране. Он одномоментно предал казни всех римских купцов, проходивших через его владения в Индию, и устроил преследования своих соплеменников, принявших учение Христа. Когда в Константинополе узнали об этом, Юстин немедленно распорядился направить посольство к Аламундару, царю подвластных персам арабов, и к царю аксумитов, чтобы те воздействовали на гонителя. Царь Эла-Ашбех напал на Зу-наваса, победил его и, взяв в плен, казнил. На его место был поставлен царем христианин по имени Эсимфей, и хотя вскоре он был смещен с трона, новый царь химьяритов, Авраам, также был христианином и более не досаждал своим единоверцам22.