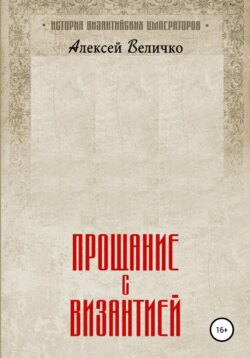Читать книгу Прощание с Византией - Алексей Михайлович Величко - Страница 6
Династия Ласкаридов
II. Император святой Иоанн III Дука Ватац (1222—1254)
Глава 2. Политические комбинации и возрождение Византийской империи. 6й Крестовый поход
ОглавлениеВсе же, объективно, положение Никейской империи оставалось очень ненадежным. Продолжалась война за Балканы, и в 1239 г. Асень вместе с франками и половцами начал осаду крепости Цурула. Правда, вскоре болгарин получил известие о смерти своей жены, сына и патриарха Иоакима от моровой язвы. Посчитав это Божьей карой за свои вероломства в отношении византийцев, Асень тут же сжег осадные машины, отвел войско обратно и заключил новый мирный договор с Ватацем148. Естественно, соглашение с французами было аннулировано, а дочь Болгарского царя вернулась в Никею, к своему юному супругу.
Увы, это была не последняя дипломатическая комбинация Асеня. Вскоре, испугавшись союза св. Иоанна III Ватаца с Германским королем и нарастающей мощи Никеи, Болгарский царь тайно пропустил через свои земли в Константинополь Балдуина II с армией из 700 рыцарей, набранных в Европе, и 20 тысячами вспомогательных сил. В 1240 г. Асень женился на дочери ослепленного им Феодора Ангела Комнина Дуки, освободил тестя и при его помощи взял Фессалоники, захватив в плен Мануила.
Для поддержания внешней преемственности Эпирский трон был передан сыну Феодора Ангела Комнина Дуки Иоанну (1237—1244). Свергнутый правитель Фессалоники Мануил добрался до Никеи, где принес клятву верности св. Иоанну III. При его помощи он соединился с братьями Константином и Феодором и покорил Фарсал, Лариссу и Платамот. Но тут же решил, что не имеет смысла выполнять слова присяги Никейскому царю, и отложился от св. Иоанна III, заключив мирный договор с латинянами в Пелопоннесе. Впрочем, вскоре он умер, горько раскаиваясь в своем клятвопреступлении149.
А тем временем Иоанн II Асень в очередной раз действовал посвоему: презрев договоренности с византийцами, он присоединился к латинянам Балдуина II, осадившим многострадальную крепость Цурула. Ее гарнизон возглавлял великий хартулларий Иоанн Петралифа – мужественный и опытный военачальник. Но силы были настолько неравными, что спустя короткое время никейцы сдали крепость. Пленных французы не пощадили, и вместе с великим хартулларием отправили в Константинополь, где продали в рабство соотечественникам.
В качестве ответной меры император св. Иоанн III Ватац во главе сильного войска взял города Лакивизе и Никиат, а затем, доверив свой флот неопытному, к сожалению, в морском деле армянину Исфре, направил корабли против латинян. Как и следовало ожидать, в морском сражении малоопытный византийский флотоводец был разгромлен меньшими силами врагов. На этом военные действия фактически прекратились, и Болгарский царь, исподволь ослабив своего могучего конкурента, поспешил направить к св. Иоанну III посольство с предложением мира, который, конечно, был заключен150.
Наверняка Болгарский царь на этом бы не успокоился и мог доставить еще много хлопот Никейской империи, но, по счастью для греков, в июне 1241 г. Иоанн II Асень скончался. Его престол достался малолетнему Коломану I Асеню (1241—1246)151.
Смерть великого Болгарского царя означала начало постепенного упадка Второго Болгарского царства, который заметно ускорился под мощным напором монголотатар. Подчинив своей власти близлежащие степные племена, Чингизхан в 1206 г. был провозглашен на курултае правителем монголов, Великим ханом, после чего принялся за завоевание Северного Китая. Вследствие этого во власти Чингизхана оказались не только обширнейшие территории от Афганистана до Черного моря, но и Великий шелковый путь.
Количество награбленного богатства у Чингизхана намного превышало самые фантастические запросы его подданных, а потому он решил заключить мирный договор с хорезмшахом Ала альДин Мухаммедом II (1200—1220), торговля с которым обещала еще бульшие перспективы. Летом 1217 г. в Хорезм хан отправил к нему трех послов с богатыми дарами и предложением коммерческого сотрудничества. С великой неохотой хорезмшах согласился. Но когда в 1218 г. прибыл первый караван в количестве 450 человек с товарами, некий правитель провинции Отрар, что находится на территории нынешнего Южного Казахстана, не смог побороть искушения и перебил их всех, захватив конечно же товар.
Чингизхан немедленно отправил к хорезмшаху послов с требованием наказать обидчика, но тот лишь казнил нескольких посланников, а остальным обезобразил лица, отослав обратно в ставку великого монгола. Как оказалось, эмир Отрара приходился родным братом матери султана, и та упросила сына пощадить дядю. Война была предрешена…
Весной 1219 г. Чингизхан неожиданным маршем через пустыню появился в тылу хорезмской армии и оказался у Бухары, где нашел союзника. По свидетельству некоторых летописцев, халиф Бухары Ахмад ан Насир (1180—1225) тоже вел борьбу с султаном молодого Хорезмшахского султаната, а потому прибег к помощи монголов. Как утверждают, он даже подарил Чингизхану отряд пленных крестоносцев, но тот, не нуждаясь в них, отпустил рыцарей на свободу. Вернувшись в Европу, те и принесли первые сведения об ужасных завоевателях, не знавших поражений.
Хотя против 150 тысяч монгольских воинов хорезмшах выставил почти 400тысячную армию своих тюрок, успех старательно избегал его. До конца этого и в следующие 4 года монголы покорили практически все города: Самарканд, Нису, Нишапур, Термез, Герат, Пешавар, Газни, Бамиян, Марагэ, Дербент, Астрахань, Хамадан и другие. Сам султан окончил свои дни на одном из маленьких островков Каспия, зато его мать и почти все родственники ответили за все. Султанша окончила свои дни в рабстве, а аристократов монголы, следуя своей традиции, перебили.
Любую попытку сопротивления захватчики топили в крови, на любую обиду отвечали стократно. Когда преемник Мухаммеда II его сын Джелад адДин (1220—1231) казнил 400 пленных монголов, привязав их к хвостам лошадей и протащив на утеху толпе, Чингизхан перебил всех пленных тюрок152.
Конечно же, завоевания Чингизхана не остались незамеченными для сирийских христиан. Они много слышали о том, что хотя сам владыка монголов является язычником, тем не менее любил советоваться с христианским и мусульманским духовенством, причем откровенно предпочитал первых. Более того, многие его сыновья и близкие родственники женились на христианках, а потому пронесся слух, будто бы Господь посылает гибнущему Леванту надежного союзника. По крайней мере, папа Гонорий III в одном из своих писем от 20 июня 1221 г. прямо говорил о войске, которое идет с Дальнего Востока для спасения Святой земли.
Впрочем, последующие события несколько пошатнули веру в столь счастливый итог. Получив отступное от атабека Азербайджана Узбека (1210—1225), монголы в феврале 1221 г. вторглись в Грузию, и при Хунане, чуть южнее Тифлиса, почти тотально уничтожили армию царя Георгия IV (1213—1223), сына царицы Тамары Великой (1177—1213). Как выяснилось, никакой разницы между христианами и лицами других вероисповеданий монголы не знают. Затем захватчики сокрушили Кавказ, прошли через Каспийские ворота, разгромили половцев, а 31 мая 1222 г. нанесли тяжелейшее поражение объединенному войску русских князей на реке Калка. Развернувшись, монголы прошли через Крым, и, возвращаясь на Восток, уничтожили войско волжскокамских булгар и разграбили их страну153.
Смерть Чингизхана в 1227 г. на 66м году жизни ничуть не остановила татарскую экспансию. Предвидя возможные конфликты между близкими ему людьми, великий завоеватель заранее разделил Империю между своими четырьмя сыновьями. Старший, Джучи (1182—1227), получил в удел степи Северного Приаралья и кипчакские степи западнее Волги. Второй сын, Чагатай (1185—1242), умерший в 1242 г., взял в правление всю степную зону каракитаев близ Или, ИссыкКуля, Верхней Чу и Таласа, а также Кашгарию и Трансоксиану. Третий сын, Угедей (1186—1241), наследовал земли восточнее и северовосточнее Балхаша, район Эмеля и Тарбагатая, Черного Иртыша и Урунгу. Наконец, четвертый, младший сын Тулуй (1186—1232), как наследник отцовского очага по монгольскому обычаю, взял себе владения в районе между Тулой, Верхним Ононом и Верхним Керуленом. Весной 1229 г. курултай, или общее собрание монгольской знати, на берегу Керулена подтвердил волю покойного Чингизхана, назначив Великим ханом Угедея (1229—1241)154.
Новый правитель, действительно самый умный из всех потомков великого монгола, вынужден был сразу же продемонстрировать свою силу. Он, по сути, заново завоевал Иран, где в последние годы находился самый опасный враг его отца ДжелаладДин, который за несколько лет, выпавших ему, сокрушил Кирман, Фрас, Персидский Иран и Азербайджан. Фактически ДжелаладДин частично восстановил Хорезмийскую империю, пользуясь тем, что основные силы монголов были заняты Китаем. Правда, его поступки далеко не всегда были логичны. Так, в скором времени ДжелаладДин рассорился с правителями Иконийского султаната и Дамаска, которые, соединившись, нанесли ему тяжелое поражение в 1230 г. при Эрзинджане. В этотто момент Угедей и начал свое вторжение в земли непокорного эмира.
Зимой 1230—1231 гг. 30тысячное монгольское войско под командованием полководца Чормакана вторглось в Хорасан и Рей. ДжелаладДин просто не успел собрать войско для отражения этой атаки и был вынужден бежать, как некогда его отец, от монголов. Местом его последнего пребывания стала Муганская долина, где 15 августа 1231 г. он был убит безвестным курдским крестьянином. А монголы прошлись через Азербайджан, а затем разместились на северозападе Персии, где Чормакан почти 10 лет оставался представителем своего хана155.
Это были далекие от спокойствия и мира годы. В Азербайджане монголы захватили Маргу, а затем подвергли страшному разорению Диярбакыр и Эрбиль. В Закавказье они разрушили Гянджу, после чего вновь вторглись в Грузию и заставили царицу Русудан (1223—1245) бежать из Тифлиса в Кутаис, район же Тифлиса стал монгольским протекторатом. В 1239 г. Чормакан захватил у Великой Армении некогда принадлежавшие Грузии города Ани и Карс. После этого грузинские аристократы, как вассалы, обязались служить в армии монголотатар.
Следует отметить, что и сам Чормакан, и его преемник Байнджунойон, занимавший свою должность с 1242 по 1256 г., также весьма лояльно относились к христианам. Более того, в 1233 г. Угедей отправил к Чормакану некоего сирийского христианинанесторианца по имени Симеон, прозванного сирийцами Раббаната, которого поставил главным эмиссаром по делам его единоверцев. Тот привез рескрипт Великого хана, согласно которому категорически запрещалось убивать и притеснять христиан, признавших власть монголов. Поскольку же полномочия СимеонаРаббанаты были чрезвычайно широки, то многие тысячи христиан были освобождены от рабства и иных невзгод. В мусульманских городах начали в скором времени возводить храмы, погребать умерших с чтением Евангелия, с крестами, свечами и песнопениями156.
Как и его предшественник, Байнджунойон не сидел без дела и уже в 1242 г. захватил Эрзерум, фактически начав войну с КейХосровом II (1237—1242). 26 июня 1243 г. он разгромил уже войско самого султана, после чего КейХосров II вымолил себе титул вассала Великого хана157.
В это же время другая часть монголов направилась через донские степи на Запад, где новые пришельцы нанесли страшное поражение половцам, стремительно убегающим от них, и переправились через Истр. Многие европейские правители посчитали за благо нанять остатки половцев на свою службу; не стал исключением и св. Иоанн III Ватац. Одну часть беглецов он расселил во Фригии, вторую – в Македонии и Фракии158.
Затем вектор нападения татар изменился на Северозапад. В 1236—1241 гг. были завоеваны Волжская Булгария и многие княжества Руси. В 1241 г. внук Чингизхана Батухан (1241—1256) или Батый вторгся в Польшу и Чехию, а его полководец Субудай – в Венгрию. По обыкновению, количество собранного европейцами войска компенсировалось теми разногласиями и сумятицей, которые возникали сразу же. Одни были преисполнены страхом, другие легкомысленно полагали, что при виде венгерского войска враги дрогнут и бросятся отступать, как будто вся предыдущая история монгольских походов была Венгрии совершенно неизвестна. Наконец на Пасху, 31 марта 1241 г., соперники впервые встретились друг с другом; начались военные действия.
Венгерский король Белла IV, командовавший армией, приказал начать атаку, и его рыцари рванулись вперед. Однако монголы, верные своей исконной тактике, забросали венгров стрелами и, избегая фронтального столкновения, ушли за реку Тиссу. Полагая, что победа уже у него в рука, король отдал приказ становиться лагерем перед рекой, чтобы завтра продолжить бой. Ночью к венграм из стана врагов перебежал русский воин, который поведал им, как монголы будут утром атаковать их. Белла IV срочно отрядил своих рыцарей к месту переправы, и когда враги начали ее, венгерские рыцари отбросили татар, многих умертвив. Празднуя победу, латиняне вернулись в своей лагерь, беззаботно проспав всю ночь.
Но утром, 11 апреля, их ждало жестокое кровавое похмелье – монголы установили напротив моста катапульты и их выстрелами смели стражу, должную охранять переправу. Затем, вскочив на коней, степняки напали на венгров. Надо отдать должное – едва проснувшись, рыцари схватились за оружие и попытались остановить атакующего врага. Однако сказался перевес в силах и общая дезорганизованность – контратака захлебнулась. В скором времени пал магистр тамплиеров, принявший участие в битве, а брат Венгерского короля едва не попал в плен.
Отступая, венгры поспешили в свой лагерь, однако монголы, окружив его, продолжали обстрел защитников из луков, нанеся рыцарям тяжелый урон. В отчаянии венгры попытались прорваться, и монголы предоставили им эту «возможность», продолжая истреблять врагов на всем протяжении их бегства, когда последние отряды утратили последнюю организацию и дисциплину. Наконец, беглецов прижали к какомуто болоту, где и погибли их последние остатки. Помимо прочих, смерть на поле боя приняли архиепископ Сплитский Хугрин, епископы Матфей Эстергомский и Григорий Дьерский, а также множество прелатов и монахов.
Сам король смог убежать к Австрийскому герцогу Фридриху II Бабенбергу (1230—1246), где надеялся при помощи половцев хана Котяна (?—1241) реваншироваться в новом сражении. Однако австрийцы не верили половцам и просто умертвили их хана, после чего последняя попытка сопротивления татарам была уничтожена их собственными руками. Правда, герцог не остался внакладе: за кров, который он предоставил Венгерскому королю, он обязал того выплатить ему 10 тысяч монет и занял три венгерские области.
А монголы растекались широкой бурной рекой, безжалостной и беспощадной, по Венгрии, захватывая пленных и умершвляя всех тех, кто не представлял ценности. Современники описывали, как их жены, ни в чем не уступая мужья, избивали мечами венгерских женщин и детей. А юные татары, беря пример с отцов и матерей, тренировались сносить головы своим жертвам одним ударом. Наконец, пресытившись жертвами и добычей, монголы сделали привал на задунайских землях, сложив неподалеку от своего лагеря страшный вал из тел убитых ими людей.
В мае 1241 г. король Белла IV вернулся на родину, но любые попытки организовать сопротивление монголам оставались тщетными; пришлось отступать все дальше и дальше на Запад. Венгрия осталась лежать разоренной и обезлюженной…159
Попутно пострадали Хорватия, Сербия, Болгария, также подвергнувшиеся страшному разорению от монголов, свернувших в сторону от Венгрии. В целом монголотатары захватили все территории вплоть до Нижнего Дуная. Сами болгары избежали поражения только благодаря инициативному предложению выплачивать татарам дань, которую они ежегодно вносили хану с 1242 по 1300 г. Монгольское влияние было достаточно сильным и долгим, чтобы Болгария навсегда потеряла лидирующее положение на Балканах, где теперь господство вновь перешло к византийцам160.
Здесь следует немного остановиться и отметить ту особенность создавшегося на руинах Руси Кипчакского ханства, что, в отличие от Персидского ханства и Китая, завоеванного монголами, местные завоеватели сумели какимто образом не ассимилироваться с местным населением. «Они, – как справедливо отмечают исследователи, – остались подданными “хана Кипчака”, т.е. наследниками, тюркской орды этого имени, простыми продолжателями дел этих тюрок“куманов”, или половцев, без прошлого и без памяти, чье пребывание в русской степи в конце концов осталось для истории как бы не бывшим».
Более того, принятие «кипчакскими» монголами в скором времени Ислама привело лишь к еще большей изоляции этой ветви монголов. Она не только не приобщила их к культуре Египта или Ирана, но, напротив, превратила в чужаков, которые живут временно и вскоре должны исчезнуть161.
На фоне этих событий св. Иоанна III не испугал ни отказ генуэзцев от союзнического договора, ни известия о приближающихся венграхкрестоносцах во главе с Латинским императором Балдуином II. Было совершенно ясно, что, даже получив некоторый успех, это наступление не могло быть продолжено стратегически. Как ни в чем не бывало он начал наступление из Никомидии и занял Харакс, Дакивизу и Никитиат. Переманив на свою сторону отдельные отряды наемников, сражавшихся у болгар, и присоединив к ним половцев, св. Иоанн III вступил во Фракию.
Против него располагались войска Эпирского царя Иоанна. Император без особого труда победил его, и тот добровольно сложил с себя царский титул, назвался «деспотом» и признал над собой власть Никейского императора. Без сомнения, этот поход 1242 г. мог стать вершиной царствования св. Иоанна III Ватаца, мечтавшего присоединить к Никее всю Македонию. Но в самый разгар кампании он получил сообщения от сына Феодора Ласкариса о том, что на соседние сельджукские государства напали неизвестные им татары162.
Потерпев поражение в 1243 г., султан КейХосров II втайне мечтал избавиться от этой щемящей его душу вассальной зависимости от монголов и срочно запросил помощи у Никеи. Желая разузнать все на месте, император направился в Триполис для переговоров с ним. Он пообещал в целом оказывать туркам содействие, но не сделал ничего конкретного – и весьма мудро, поскольку в противном случае участь Никейского царства оказалась бы незавидной. Зато теперь его тыл был защищен сельджуками, причем и монголы не могли вменить ему это соглашение в вину, поскольку оно не предусматривало совместных действий против них со стороны византийцев; это был исключительно мирный договор, а не военный союз163.
Интересно, но это был не единственный маневр, обезопасивший Никею от татарского нашествия. Опасаясь, что монголы вступят в соглашение с Римом, царь направил к папе послов, в очередной раз намекая на возможность заключения унии. И когда в Рим действительно прибыли послы монголотатар, предлагавшие апостолику начать совместные действия против св. Иоанна III Дуки, понтифик под благовидным предлогом отказал им. Кроме того, для обеспечения безопасности своей державы св. Иоанн III построил сеть крепостей в горах с хорошим запасом вооружения и снабдил их крепкими гарнизонами. Таким образом, восточная граница Никейской империи была обезопашена.
Теперь император получил возможность вновь обратить свой взор на Балканы, тем более что вследствие слабости прежних соперников перед ним открывались широкие и ясные перспективы. Благодаря своей выверенной дипломатической игре св. Иоанн III Ватац вскоре приобрел мощного и надежного союзника – Германского императора Фридриха II Гогенштауфена, самого активного, непримиримого врага Римского папы и папской политики. Впрочем, стратегия Фридриха не отличалась от той, которую демонстрировали его преемники. По тонкому замечанию одного исследователя, «в каком бы положении ни находилась Германская империя, для главы ее едва ли было возможно не вступить в войну с постоянно агрессивным папством, с его постоянно заявляемыми претензиями на территорию Италии и на церковную юрисдикцию над всем миром»164.
Разумеется, император германцев был далек от того, чтоб считать источником своей власти Римскую кафедру. И хотя традиционно для своих современников утверждал, что в законодательстве и судопроизводстве вдохновляется Божеством и является наместником Христа на земле, однако обоснование этого тезиса искал не в Священном Писании, а в своде законодательства императора св. Юстиниана Великого. В его сборнике актов «Liber augustalis» присутствуют следующие характерные строки: «После грехопадения природная Необходимость, так же как и божественное Провидение, создали царей и князей, которым поставлена задача быть властителями жизни и смерти для своих народов, устанавливать, какими должны быть состояние, удел и положение каждого человека, являясь как бы вершителями божественного Провидения».
И совершенно справедливо замечено, что эта традиционная для короля миссия была сформулирована не словами Писания или патристических текстов, но почти целиком и полностью заимствована у одного языческого Римского императора, который писал: «Разве я не был избран, чтобы действовать как наместник богов на земле? Я – властитель жизни и смерти для народов. Решение того, каковы будут удел и положение каждого человека, отдано в мои руки. И что Фортуна уготовила каждому смертному, она объявляет моими устами»165.
Нельзя, разумеется, на этом основании говорить об антиклерикализме Фридриха. А его неприятие папской политики вмешательства в дела европейских государств никак нельзя отождествлять с борьбой против Церкви. Как известно, эта протестная тенденция не обошла стороной практически ни одного из крупных государей Западного мира. Другое дело, что никогда ни до него, ни после Римское папство не сталкивалось с таким могущественным, умным и предприимчивым государем, как Фридрих II Гогенштауфен166.
Разумеется, эта цельная и сильная натура не пожелала оставлять ситуацию в том виде, в каком она сформировалась еще в годы его тревожного детства. Как повествуют летописцы, уже на своей коронации Фридрих, 21летний юноша, откровенно дал понять, что не намерен становиться слепым орудием в руках Рима. Именно он положил начало традиции независимости Германии от Апостольского престола167.
Не желая слыть послушным слугой Римской кафедры, король вступил в незримую борьбу с папой, и точкой приложения разновекторных сил стал Крестовый поход, к которому понтифик упорно на протяжении многих лет склонял Фридриха, а тот под любым предлогом отказывал в удовлетворении его желаний. Да, поскольку клятва императором на сей счет была дана, ее нужно выполнять. Но оставался неурегулированным вопрос времени начала похода короля.
В какойто момент понтифик сумел вырвать у Фридриха обещание, что тот выступит не позднее весны 1225 г. Однако в марте 1224 г. германец попросил перенести начало мероприятия в связи с волнениями мусульман на Сицилии. И действительно, в 1222—1223 гг. ему пришлось не раз вступать в схватку с сарацинами. С великим трудом удалось убедить перенести Гонория III крестоносное мероприятие на лето 1227 г. За это король обещал снабдить крестоносцев Востока средствами в размере 100 тысяч унций серебра, предоставить Великому магистру Тевтонского ордена Герману фон Зальцу (1209—1239) флот из 150 судов и набрать за свой счет 1 тысячу рыцарей, которых эти корабли и должны перевезти в Акру168.
В действительности даже теперь Фридрих II не собирался воевать, находя это занятие неумным и чрезвычайно затратным. За спиной у папы он одновременно вступил в тайную переписку с Иоанном де Бриенном и альКамилем. Султан Египта в то время был сильно озабочен столкновениями с братом – эмиром Дамаска альМуаззамом, установившим союз со свирепыми хорезмийцами, вытесненными из Средней Азии татарами. И вот сейчас египтянин предложил королю отдать Иерусалим и Палестину в обмен на помощь против брата. Конечно, представить себе еще во времена 3го Крестового похода такую ситуацию, когда призыв к крестоносному движению шел не от христиан Леванта, а от сарацин, было немыслимо. Тем не менее жизнь сложнее и многообразнее любых теорий. А потому альКамиль, опасавшийся брата пуще пилигримов, в конце 1227 г. передал предложение Фридриху II участвовать в войне против эмира Дамаска, которому фактически принадлежал Иерусалим, и его союзников из Хорезма.
Однако наступал срок начала Крестового похода, оговоренный с Римским епископом. К тому времени кафедру Святого Петра занимал человек с куда более завышенной самооценкой, чем покойный Гонорий III – тот скончался в марте 1227 г. Новый папа, Григорий IX, человек несгибаемого характера, ясного ума, имел четкие убеждения о роли папства во Вселенной, почерпнутые из общения с покойным дядей – понтификом Иннокентием III. Суровый и аскетичный, он никак не мог любить сибаритаимператора, а потому Фридриху нужно было поторопиться, чтобы не доводить дело до беды.
Не распространяясь о своих предварительных договоренностях с альКамилем, опасаясь быть отлученным от Церкви за несоблюдение крестоносной клятвы, но и не получив папского благословения на поход (!), 8 сентября 1227 г. Германский император отплыл из Бридзи вместе со своим товарищем ландграфом Людвигом VI Тюрингским (1217—1227), но через несколько дней оба заболели холерой. Пришлось срочно приставать к берегу, хотя несчастный Людвиг скончался еще в море. Фридрих срочно отправил письмо в Рим, в котором обещал, если Господь дарует ему выздоровление, выступить в Крестовый поход не позднее марта следующего года. Но папу Григория IX эта история не растрогала, и 29 сентября 1227 г. он торжественно анафематствовал Германского императора. А в ноябре того же года торжественно повторил отлучение в Соборе Святого Петра169.
Но лишь совершив этот неприятный для германца акт, папа понял, насколько ошибся. Идея Крестового похода все еще висела в воздухе, не находя конкретного организатора. А поскольку Фридрих был отлучен от Церкви, возглавить поход пилигримов ему было никак нельзя. Разумеется, на меньшее Гогенштауфен и не претендовал – он привык быть первым везде и всегда!
В полной противоположности импульсивному папе Фридрих II разослал по всем христианским землям свое письмо, в котором ясно, здраво и логично объяснил свое положение и причины неучастия в войне против неверных. Все – и тон письма, и его содержание пришлись по душе современникам. Дошло до того, что когда на Пасхальной службе 1228 г. папа Григорий IX начал проповедь с нападок на императора, жители Рима возмутились. Более того, апостолика изгнали из Рима (!), и он был вынужден искать спасения в Витербо, откуда продолжал свои обличения. Положение понтифика было незавидным: Крестовый поход он уже объявил, но прекрасно осознавал, что если Гогенштауфен не возглавит его и не вернется оттуда победителем, это будет означать моральную смерть папства170.
Если бы Фридрих играл эту партию пассивно, то вслед за «приобретением» анафемы он мог потерять и права на Сицилийскую корону – ведь остров попрежнему считался собственностью Римской кафедры. Но император был опытным игроком, а потому сделал еще более ловкий ход: невзирая ни на какие анафемы и гневные бормотания Римского епископа, 28 июня 1228 г. отплыл в Святую землю. Общественное мнение тут же склонилось в его сторону. По Европе пронеслась целая серия пророчеств, будто именно Фридриху даровано Богом вернуть Иерусалим христианам, и когда король прибьет свой щит к сухому дереву, проклятому Христом, оно немедленно расцветет. Явно не в пользу Григория IX императора сравнивали со Спасителем, гонимым первосвященником Каиафой171.
Однако ситуация за это время существенно изменилась. От приступа дизентерии скончался враг альКамиля альМуаззам, вследствие чего султан перестал нуждаться в военной помощи императора. Понятно, что условия договора, которые теперь обсуждались между Египтом и Гогенштауфеном, существенно изменились не в пользу германца172. Впрочем, отношения между двумя монархами все равно стали к тому времени столь тесными, что доверенное лицо султана ФахрадДин был произведен Фридрихом II в рыцари в знак дружбы173.
А в марте 1228 г., как уже говорилось ранее, при родах умерла королева Иоланта, даровав жизнь своему сыну Конраду IV (1228—1254), будущему королю Германии, Иерусалима и Сицилии. Теперь Фридрих Гогенштауфен автоматически из короля Иерусалима переходил в статус регента своего сына, по факту рождения ставшего наследственным монархом Святого города. Но эти обстоятельства не смутили Фридриха. 21 июня 1228 г. он прибыл на Кипр, сместил Иоанна д’Ибелина Старого (1179—1236), сына прославленного защитника Иерусалима Балиана II д’Ибелина (1142—1193), регента юного короля Генриха I (1218—1253), и подтвердил свои права на доходы от острова.
Как говорят, встреча двух правителей происходила крайне бурно. Д’Ибелин отличался смелым характером и не собирался уступать вместе с регентством еще и Бейрут, пожалованный ему в 1197 г. королем Иерусалима Амори II (1197—1205) и королевой Изабеллой I (1192—1205). Он открыто заявил, что подчинится лишь приговору Совета баронов Леванта, а до тех пор никакое решение императора не является для него легитимным174.
Разумеется, все эти комбинации носили временный характер. И когда Фридрих II прибыл в Акру, Иоанн д’Ибелин тут же отправился в Бейрут, чтобы убедиться в способности города противостоять в случае необходимсти штурму германцев. После этого Иоанн потребовал назначить заседание Высокого суда, чтобы оспорить действия Фридриха II на Кипре.
В это время в Левант пришли известия о том, что папа вновь отлучил императора от Церкви, после чего многие бароны, патриарх Иерусалима Герольд, магистры тамплиеров и госпитальеров высказали вслух сомнения в действенности клятвы, которую они принесли ранее Фридриху II. Лишь рыцари Тевтонского ордена сохранили ему верность. Даже с учетом того, что вскоре к императору прибыло небольшое подкрепление в количестве 500 рыцарей, эти соединенные силы были слишком малы для активных боевых действий. А потому Фридрих решил вести борьбу за Крест дипломатическими средствами. На его счастье, благоразумный альКамиль мыслил точно так же175.
В скором времени германец вернулся к тайным переговорам с альКамилем и ФахрадДином, подкрепляя свои письма маневрами крестоносной армии из Акры в Яффу по пути короля Ричарда Львиное Сердце. Поскольку в это время альКамиль вместе с братом альАшрафом, правителем Джазире, осаждал Дамаск, где скрывался их племянник анНасир Дауд, сын покойного альМуаззама, присутствие Гогенштауфена с небольшой, но профессиональной армией становилось серьезным фактором, который нельзя было не учитывать.
АнНасир Дауд уже обратился за помощью в Хорезм, и если бы Фридрих II решил стать его союзником, дела братьев могли обернуться совсем плохо. Пришлось срочно менять условия, на которых император согласился бы на нейтралитет. Незаменимый ФахрадДин пытался урезонить германца, пытаясь сохранить за своим господином Палестину, но король открыл ему, что без возврата христианам Святого города никакие договоренности не образуются. Послудругу он доверительно пояснил, что Иерусалим, как таковой, лично ему не нужен. Однако город имеет большое значение в его борьбе с Римским папой. И в скором времени альКамиль согласился на предложение Фридриха176.
18 февраля 1229 г. было подписано соглашение, согласно которому султан обещал 10 лет хранить военный нейтралитет, вернуть христианам Иерусалим, Вифлеем и Назарет в обмен на помощь в защите от внешних врагов, если таковые объявятся. Кроме того, к пилигримам отходил коридор, по которому можно было добраться до Яффы через Лидду и Западную Галилею вместе с городами Монфор и Торонто, а также оставшиеся мусульманские районы вокруг Сидона. Храм Гроба Господня, естественно, переходил в руки христиан, но Храмовая гора с «Куполом скалы» и мечеть альАкса – святыни Ислама оставались в руках турков. Султан даже разрешил восстановить стены Иерусалима, но эта уступка распространялась лично на Германского императора177.
Это была уникальная дипломатическая победа: впервые за 40 лет Иерусалим вновь стал христианским. Причем сделал это в одиночку дважды отлученный от Церкви король, не проливший ни капли крови! Хотя конечно же далекий от того, чтобы его называли «святым».
17 марта германская армия вошла в Святой город, уже полностью к тому времени очищенный от мусульман. А 19 марта 1229 г. Фридрих II собственноручно возложил на свою голову королевский венец Иерусалима в храме Гроба Господня, а затем обратился с манифестом ко всем жителям Земли. В нем Гогенштауфен сравнивал себя с Ангелами, которые занимают промежуточное положение между людьми и Богом, а также с Израильским царем святым Давидом (1005—965 до Р.Х.), который, как известно, считался предвестником Христа, священником и пророком.
Это известие, дошедшее в Рим, окончательно вывело папу из себя. В новой энциклике Великой курии говорилось, что, самолично короновав себя, Фридрих II дерзнул совершить процедуру, сходную с Литургией. В состоянии крайнего раздражения понтифик писал одному своему контрагенту, желая представить Гогенштауфена в самом невыгодном свете: «Этот царь пагубы, как мы можем доказать, открыто заявляет, что мир был обольщен тремя обманщиками: Иисусом Христом, Моисеем и Мухаммедом, и двое из них умерли в почете, третий – на кресте. Мало того, он утверждает, что только дураки могут верить, будто девственница могла родить от Бога, Творца Вселенной; он говорит, наконец, что человек должен верить только тому, что может быть доказано силой вещей или здравым смыслом»178.
Впрочем, недовольство высказал не только папа. Тамплиеры и госпитальеры были возмущены тем, что часть святынь по условиям договора осталась в руках неверных. А местные бароны, крайне озабоченные центристскими тенденциями Фридриха II, отказывались признать его своим господином: ведь он короновался Иерусалимским королем без консультаций с ними, будучи на тот момент всего лишь регентом своего малолетнего сына. «Насколько легитимна его коронация в этом случае?» – спрашивали они друг друга. Нет никаких сомнений, что для вопрошавших этот вопрос носил исключительно риторический характер. Разумеется, с учетом новых обстоятельств султан начал всерьез подумывать о расторжении договора и с большим трудом дал убедить себя сохранить его условия179.
Более того, пользуясь отсутствием императора, мстительный папа организовал военное вторжение в Южную Италию с целью захвата Сицилии, чем вызвал шок и осуждение всей Европы. Что ни говори, но Фридрих II являлся крестоносцем и совершил беспрецедентный подвиг. Ни для кого не было тайной, что понтификом двигали исключительно своекорыстные интересы и жажда наживы180. Даже враги не могли не признать, что Гогенштауфен был и остается верным католиком; мало найдется людей, настолько преданных Богу и Церкви, сделавшего много доброго и очень желавшего спасти свою душу181.
Тем не менее в понедельник, 19 марта, в Иерусалим прибыл архиепископ Кесарии, наложивший на город интердикт. Естественно, Фридрих II пришел в бешенство от такого оскорбления и, бросив восстановительные работы, со своими солдатами отправился в Акру, но и там его не ждали овации и цветы. Генуэзцы и венецианцы негодовали по поводу преференций, которые император предоставил своим союзникам пизанцам. А местные бароны окончательно уверились в том, что коронация германца была незаконной.
По этой причине император пошел на некоторый компромисс. Он созвал представителей местной элиты, чтобы отчитаться в своих успехах, а попутно объявил о скором отъезде. В качестве своих бальи он оставлял Балиана Сидонского и Вернера фон Эгисхайма по прозвищу «Гарнье Немец». Что, впрочем, не помешало горожанам забросать его эскорт навозом и грязью182.
Многим не понравилась и религиозная толерантность германца. Дошло до того, что одним из обвинений в его адрес (заочных, разумеется) являлось беглое знание арабского языка. Понимая, что в Иерусалиме его ничто более не держит, Фридрих II отправился домой, лишь чудом избежав засады, устроенной тамплиерами, и 10 июня 1229 г. оказался в Бриндизи183.
Там ему пришлось воевать с папскими войсками, гордо несшими на своих знаменах изображение ключей (герб Римского епископа), и применять против них сарацинские полки, специально нанятые для войны с понтификом. Сицилия и Южная Италия покрылись кострами военных сражений, и христиане с ужасом решали важнейший для себя вопрос: чью власть – папы или императора – признать над собой? Лишь в ноябре 1229 г. магистр Тевтонского ордена доставил Фридриху II радостные вести о том, что Римский епископ готов подписать с ненавидимым им императором мирное соглашение184.
В не лучшем положении оказался и султан, которого осудили собственные имамы. Никто не желал слушать его объяснений относительно того, почему и как Святой город перешел в руки Германского императора185.
Между тем этот прецедент мог иметь при бульшем желании остальных современников далеко идущие последствия, демонстрирующие религиозную толерантность народов и их правителей, демонстрировавших прекрасные примеры. Как рассказывают, осматривая храмы и мечети Иерусалима, Фридрих II зашел в мечеть альАкса, где обнаружил католического священника с Евангелием в руках. Реакция императора была мгновенной – он повернулся к сопровождающему его сарацину и произнес: «Если еще один франк войдет сюда без разрешения, я прикажу снести ему то место, к которому у него крепятся глаза. Ведь султан по милости отдал нам наши храмы. И никто не смеет переступать установленных границ»186.
Император отбыл к себе на родину, но едва его след остыл, как на Кипре началась междоусобная война. А осенью 1229 г. в Акру прибыла королева Алиса Кипрская и предъявила права уже на Иерусалимскую корону. Конрад, сын Фридриха II, заявила она, не имеет права считаться королем Святого города, поскольку до сих пор не прибыл в него, дабы принять присягу от подданных. А потому Высокий суд просто обязан признать законным правителем Иерусалима именно ее.
Увы, Суд отказал ей в этой чести, поскольку было совершенно немыслимо полагать, будто бы малолетний мальчик отважится на опасное и далекое путешествие, чтобы только соблюсти необходимые формальности. Но для успокоения совести судьи отправили посольство к Фридриху II, рекомендовав доставить Конрада сюда в течение года. Ответ императора был хладен и короток – он заявил, что поступит так, как сочтет нужным, и в свое время187.
Так закончился 6й Крестовый поход, не оправдавший замыслы Римской курии, зато вернувший христианам Иерусалим. Поняв, что взаимная борьба привела к обоюдному истощению и не принесла никаких дивидендов, вчерашние враги попытались найти повод для скорейшего примирения. В первую очередь Фридрих, желая избавиться от анафемы, пошел на многие уступки, но тем не менее примирение папы и императора шло долго и тяжело. Наконец, в июле 1230 г. оба противника встретились за обедом в Риме.
Как утверждают, вначале ситуация выглядела довольно напряженной, но постепенно император, гений коммуникабельности, разговорил папу, которому, конечно, льстило, что сам император явился к нему188. Апостолик смирил гнев на милость и вполне дружелюбно оповестил Фридриха II, что утверждает его договор с альКамилем. Так «ученик Мухаммеда» снова стал «любимым сыном Церкви»189.
Однако радость Гогенштауфена длилась недолго, и когда в 1235 г. папа Григорий IX объявит новый Крестовый поход, то публично заявит, что именно Фридрих II Гогенштауфен является самой серьезной помехой на пути крестоносцев190. В 1236 г. без всякого смущения папа Григорий IX вновь напомнил Фридриху II, что именно Апостольский престол передал ему власть меча и царство, и Рим вовсе не собирается отказываться от своих собственных верховных прав на Империю. Иными словами, Германскому императору недвусмысленно дали понять, что он – ленник понтифика. «В пику» королю апостолик установил даже особый обряд папской интронизации – новый понтифик отныне садился на трон с короной на голове в виде земного круга. В близких к Римскому епископу кругах эта корона называлась «императорским украшением»191.
В таких условиях Гогенштауфен вполне естественно для себя искал союзника, которого с ним объединяют не только враги, но и сходство убеждений. А им был не кто иной, как св. Иоанн III Ватац. Хотя Рим и французы негодовали на него, но в целом Фридрих II придерживался той же «грекофильской» политики, которую избрали еще Конрад III и Генрих IV, дружившие с Комнинами против норманнов и Рима192. Правда, теперь их место заняли уже греки.
Эта прямая политика не могла не провоцировать Римского епископа на ответные меры; и наоборот. В 1237 г. произошло неудачное восстание ломбардцев, которых Фридрих II безжалостно разгромил. Для понтифика это был очевидный сигнал тому, что может ожидать уже и его самого в случае неудачи. Следующим этапом стали приготовления к свадьбе Энцио, незаконнорожденного сына Фридриха II, с девушкой из аристократической семьи, и назначение юноши королем Сардинии, которая относилась к папским владениям. Как и следовало ожидать, апостолика такая перспектива никак не устраивала, и он предпринял контрмеры; все опять вернулось на круги своя.
Накал страстей дошел до того, что император уже публично называл Римского епископа не иначе, как «развратником, помазанным елеем скверны», а тот в ответ объявил Гогенштауфена «зверем Апокалипсиса». Папские агенты разъезжали по Германии и Италии, подталкивая к выступлению против короля. А Фридрих тем временем вел тайные переговоры с кардиналами, чтобы лишить Григория IX папского сана193.
В 1239 г. Фридрих II вновь был отлучен от Церкви и объявлен врагом всех христиан. В ответ он дошел до Рима и окружил город своими войсками. Не выдержав этого малопривлекательного зрелища, папа скончался. Новый папа, Иннокентий IV (1243—1254), 48летний энергичный и властолюбивый генуэзец, продолжил политику своего предшественника и потратил громадные суммы денег для того, чтобы свергнуть могучего Гогенштауфена. Перебрав все варианты, понтифик не нашел ничего лучшего, как в 1244 г. объявить Крестовый поход против Фридриха (!), что привело к открытым военным действиям, перманентно продолжавшимся до смерти короля в 1250 г.194
Для нас изложение этих событий интересно еще и тем, что позволяет иллюстрировать довольно очевидный факт: в лице Фридриха II и св. Иоанна III встретились два «империалиста», мыслящие христианскую цивилизацию только в форме Священной Римской империи, власть над которой, включая, разумеется, главенство в церковном управлении Кафолической Церкви, принадлежит исключительно Римскому императору.
Теоретически для этого нужно было «всегонавсего» вернуть настоящему хозяину – Византийскому императору Константинополь, урезонить Римского папу и соединить две половины в одно целое. Конечно, на заключительной стадии потенциально должен был возникнуть вопрос о том, кто именно вправе претендовать на титул Римского императора – Никейский царь или Германский король. И не случайно, обещая вернуть грекам Константинополь, он тут же выставлял условие – чтобы св. Иоанн III Ватац признал себя его вассалом. Но до этого было еще далеко, а пока никаких противоречий Фридрих II и св. Иоанн III Ватац между собой не замечали.
Зато отныне любая попытка Запада помочь Латинской империи в ущерб Никеи натыкалась на активное противодействие Германского короля. Отчаявшись в одиночку справиться с бедами, в 1238 г. Балдуин II явился во Францию и, заложив Терновый венец Христа Французскому королю Людовику IX Святому (1226—1270), а также заняв у того некоторую сумму денег, набрал значительное войско. Однако Фридрих II Гогенштауфен просто запретил армии Балдуина II проход через свои земли195.
Дезорганизующую политику Римской кафедры вскоре почувствовали на себе и пилигримы Леванта, положение которых стало отчаянным. Роберт, новый латинский патриарх Иерусалима, отчаянно взывал к западным государям. Но на его призыв, поддержанный папой, откликнулись лишь некоторые знатные персоны Европы. Граф Тибо IV Шампанский (1225—1253) и брат Английского короля Генриха III (1216—1272) принц Ричард Корнуолльский (1227—1272) в 1239 и 1241 гг. организовали две небольших экспедиции, объединив отряды своих баронов – так называемый «Крестовый поход баронов». Правда, они имели некоторый успех, но, скорее, тактический: захватили Галилею и укрепили Аскалон.
Но и это были уже последние победы крестоносного движения. Скооперировавшись с папой и латинянами Леванта, новые пилигримы вступили в конфронтацию с Германской империей – император Фридрих II был категорическим противником возобновления военных действий, полагая, что дипломатией можно добиться куда бульших успехов. Как следствие, государства Утремера остались без его могучей поддержки и теперь всецело зависели от рыцарских орденов, мощь которых также шла на убыль196.
Пока европейцы воевали друг с другом, на Востоке появились новые лидеры. После смерти в марте 1238 г. альКамиля, благородного, мудрого и миролюбивого владыки, первенство получил его старший сын, родившийся от суданской рабыни, альСалих Айюбид (1240—1249). Вначале он наложил свою руку на Дамаск, но его дядя асСалих Исмаил вскоре отобрал этот город, организовав в нем государственный переворот. Тогда при помощи анНасира Керакского сын альКамиля захватил власть в Египте, отблагодарив своего союзника постом военного губернатора в Палестине.
А в ноябре 1239 г. случилось новое крупное несчастье. Пилигримы из Бретони под командованием своего графа Пьера Бретонского (1187—1250) напали на караван, принадлежавший анНасиру. Действительно, добыча, захаченная ими, была сказочной, но этот эпизод автоматически сделал их врагами правителя Палестины. В отместку тот немедленно двинулся на Иерусалим, который захватил почти без потерь 7 декабря 1239 г. Разрушив укрепления, которые начал восстанавливать еще Фридрих II, палестинец вернулся к себе в Керак.
В начале 1240 г. пилигримы, заключив союз с эмиром Дамаска асСалих Исмаилом, всерьез опасавшимся султана Египта, попытались отомстить хорезмийцам. Но тут, как всегда, свою роль сыграла традиционная вражда между тамплиерами и госпитальерами. Забыв о том, что правитель Дамаска традиционно считался союзником крестоносцев, Великий магистр храмовиков подписал в Аскалоне мирный договор с альСалихом Айюбидом, который от радости, что сумел разрушить союз франков с Дамаском, предложил безвозмездно вернуть всех пленных крестоносцев и даже Аскалон. Так завершилась эпопея Тибо Шампанского, которого проклинали одновременно и мусульмане, воочию убедившиеся в вероломстве франков, и пилигримы, которым теперь предстояло разрешать новый узел противоречий.
Относительный мир продержался ровно до того момента, пока вслед за Тибо Шампанским Палестину в мае 1241 г. покинул и Ричард Корнуоллский. Тамплиеры тут же отказались соблюдать договор, заключенный с Айюбидом, и в мае 1242 г. совершили набег на мусульманский город в районе Хеврона. АнНасир Керакский в отместку перерезал дорогу, ведущую в Иерусалим, и начал взимать пошлину с купцов и паломников. Вторым актом возмездия стало нападение храмовников на Наблус, который разграбили, сожгли великую мечеть и перебили множество местных жителей, среди которых было немало и грековхристиан. Очевидно, вновь назревала большая война.
Но пока еще шли мирные переговоры. Тамплиеры попытались наладить отношения с Дамаском, что не на шутку встревожило султана Египта, противостоящего на тот момент и асСалих Исмаилу, и анНасиру. Поэтому, когда правитель Дамаска пообещал крестоносцам удалить с Храмовой горы в Иерусалиме всех мусульманских имамов, Айюб из Египта немедленно выступил с аналогичной инициативой. В конце 1243 г. тамплиеры подписали очередной мирный договор и после этого восторженно сообщили Европе о своих успехах. Увы, они не знали, какие беды ждут их впереди…
Как и следовало ожидать, весной 1244 г. разразилась война между альСалихом Айюбидом и асСалихом Исмаилом. Союзник Дамаска, молодой эмир Хомса альМансур Ибрагим, лично явился в Акру, чтобы заключить союз с франками против Египта. Он же предложил ордену громадные владения в Египте после неизбежного, как ему казалось, поражения Айюбида. Но и султан Египта нашел себе созников – хорезмийцев, которые после гибели своего правителя ДжелаладДина бродили в Джезире и по Северной Сирии. Ихто и нанял Айюбид, приказав начать рейд на Дамаск и Палестину.
В июне 1244 г. 10 тысяч хорезмийских всадников пронеслись по территории Дамаска, все сжигая на своем пути. Только сейчас пилигримы осознали грозящую им опасность. С великой поспешностью патриарх Иерусалима Роберт вместе с Великими магистрами госпитальеров и тамплиеров направился в Святой город, чтобы организовать его оборону. Но было уже поздно: 11 июля хорезмийцы ворвались в Иерусалим, сея повсюду смерть. Держалась лишь цитадель, откуда срочно направили гонца к анНасиру Керакскому с просьбой о помощи. И действительно, тот отправил небольшую армию, прибытие которой заставило хорезмийцев отменить штурм цитадели и согласиться на мирные переговоры. По их условиям остатки христианского гарнизона и мирные жители числом около 6 тысяч человек получили возможность уйти в Яффу. Правда, по пути на них напали арабские разбойники, и лишь около трех сотен христиан сумело спасти свои жизни.
Так Иерусалим оказался окончательно потерянным для христиан. После отступления гарнизона хорезмийцы сожгли все церкви в городе, выбросили из гробниц кости покойных королей Иерусалима, а попутно зарезали нескольких престарелах католических священников, которые совершали мессу в храме Гроба Господня197.
Пока хорезмийцы опустошали Иерусалим, пилигримами была собрана значительная армия, включавшая в себя более тысячи рыцарей и 6 тысяч тяжеловооруженной пехоты, а также 4 тысячи сирийских всадников анНасира. Возглавлял армию крестоносцев и их союзников граф Яффы и Аскалона Готье IV де Бриенн (1205—1246). В стане пилигримов присутствовали рыцаритамплиеры и госпитальеры, а также бойцы Тевтонского ордена. Сопровожал эту армию, самую крупную за последние 100 лет, Иерусалимский патриарх Роберт. Им противостояли 10 тысяч хорезмийских всадников и 6 тысяч мамелюков из Египта. Возглавлял эти ударные части Рукн адДин Бейбарс, командующий египетскими войсками, будущий султан Египта198.
17 октября 1244 г. на Гадарской равнине, у деревни ЛаФорби, состоялась историческая битва, которая закончилась очередным разгромом крестоносцев. Полегло несколько тысяч рыцарей из числа тамплиеров, иоаннитов, уроженцев Антиохии, Кипра и Германии. Достаточно сказать, что из 44 рыцарей Тевтонского ордена в живых осталось лишь трое199. Помимо прочего, погибли Великий магистр тамплиеров Арман де Перигор (1232—1244) и архиепископ Тира. В плен попал магистр ордена госпитальеров, коннетабль Триполи и 800 французских рыцарей, спаслось только 33 тамплиера и 26 госпитальеров. Это поражение практически уничтожило военные силы Леванта200.
Без всякого промедления победители тут же направили своих коней на Аскалон, но укрепления города были слишком неприступны для конных хорезмийцев. Ограничились тем, что при помощи подошедшего египетского флота взяли город в осаду. Следом была Яффа, которую также не удалось взять штурмом, но по иной причине. От неминуемой гибели пилигримов спасла лишь размолвка, произошедшая между Айюбидом и его союзниками. Хорезмийцы надеялись, что после победы султан поселит их на богатых египетских землях, но тот недвусмысленно указал им рукой на Сирию и даже поставил по периметру свои отряды, дабы не допустить проникновения союзников на другие территории. В ответ хорезмийцы повернули назад, разорили Палестину до самой Акры, а потом присоединились к египтянам, осаждавшим Дамаск. Впоследствии они стали жертвами кратковременных договоров между Айюбом и анНасиром и почти полностью погибли в одном из сражений, где их вчерашние враги неожиданно стали союзниками. Но в итоге Дамаск вновь отошел к султану Египта, а анНасир получил в утешение Баальбек201.
В данный момент еще раз возникла возможность использовать авторитет Гогенштауфена. Когда тамплиеры и госпитальеры предложили сарацинам выкуп за своих пленных братьев, султан ответил, что удовлетворит их просьбу исключительно в случае ходатайства Фридриха II. Более того, он даже обещал бесплатно вернуть несчастных их собратьям, если Гогенштауфен обратится к нему с соответствующим письмом. Недовольная таким оборотом событий, Римская курия попыталась навязать мусульманину свои услуги. Но когда папа Иннокентий IV обратился с предложением мира к султану, тот вежливо ответил, что одобряет стремления понтифика, однако согласно договору 1229 г. может заключать соглашения с христианами лишь при посредничестве императора Фридриха II.
Разумеется, такой ответ вызвал взрыв негодования у Римского епископа и новую волну ненависти к Гогенштауфену, который становился камнем преткновения во всех делах папы. Ситуацию усугубил отказ Фридриха II отправить продовольствие и войска в Сирию под тем предлогом, что, по словам императора, помощь Святой земле стала для папства лишь удобным аргументом, дабы вымогать из христиан деньги, которыми оно кичилось и жирело, утруждая себя лишь лицемерными проповедями об освобождении Иерусалима202.
Как уже говорилось ранее, в том же 1244 г. Гогенштауфен сосватал за овдовевшего св. Иоанна III свою побочную дочь юную Анну Гогенштауфен и активно поддерживал зятя, отступившись от Латинской империи в тот самый момент, когда помощь ей была крайне необходима. Своим союзом с Никейским императором Гогенштауфен не оставлял «Новой Франции» в Константинополе никаких шансов. Справедливо отмечают, что к моменту его смерти, наступившей в 1250 г., участь Латинской империи уже была предрешена203.
На Лионском соборе 1245 г. Германский король был отлучен (в четвертый раз!) от Римской церкви и попутно лишен своего престола. Опасаясь, что германские епископы не поддержат инициативу Римской курии, папа Иннокентий IV написал, что избрал соборную форму для придания акту отлучения атмосферы торжественности. Но и это нововведение было принято далеко не всеми – ведь отлучали от Церкви и признавали дезавуированной коронацию не «рядового» короля или кандидата в императоры, а действующего императора204.
Например, Генрих IV, вечный враг папы Григория Гильдебранда, не являлся на момент унижения в Каноссе императором, а лишь собирался им стать. И вот теперь понтифик решился на небывалый поступок. Впрочем, Фридриху II вменили в вину многое: нерадение о делах веры, нечестивый союз с мусульманами и «греческими раскольниками» (откровенный намек на императора св. Иоанна III Ватаца), личное аморальное поведение, несоблюдение клятв и обещаний. Ввиду необычности предмета обсуждения, вплоть до последнего заседания Собора, которое состоялось 17 июля 1245 г., многие его участники надеялись на мирный исход, чего, впрочем, не произошло205.
Фридрих II ничуть не смутился этим и написал св. Иоанну III Ватацу: «Так называемый папа за наши отношения и любовь к ним, христианнейшим и самым благочестивым образом расположенным к Христовой вере, возбудил против нас свой необузданный язык, называя благочестивейших греков, от которых христианская вера распространилась до крайних пределов Вселенной, нечестивейшими и православных еретиками».
Горячий поклонник византийского «цезаропапизма», безусловно убежденный в праве (или, вернее, обязанности) монарха выступать в качестве блюстителя веры и главы церковного управления, он высказывал в адрес Римского папы следующие слова: «Все мы, земные короли и князья, особенно ревнители православной (orthodoxe) религии и веры, питаем вражду к епископам и внутреннюю оппозицию к главным предстоятелям Церкви. О, счастливая Азия! О, счастливые государства Востока! Они не боятся оружия подданных и не страшатся вмешательства пап»206.
В письме другому государю – Английскому королю Генриху III (1216—1272) содержатся не менее резкие строки: «Римская церковь опять воспылала горячей алчностью и охвачена столь очевидной жадностью, что, не довольствуясь церковными владениями, не стесняется отбирать у императоров, королей и князей мира сего их наследственную собственность и обложить ее налогами. Я уже не говорю о симонии, о различных и с начала времен неслыханных вымогательствах, беспрерывно осуществляемых курией и папой против духовных особ, о явных и тайных ростовщиках, притесняющих весь мир. Словами слаще меда и глаже масла ненасытные кровопийцы постоянно толкуют, будто Римская курия – наша мать и кормилица, хотя она есть корень и начало всех зол»207.
Его ненависть к Риму была такова, что Фридрих II искренне обиделся, когда узнал о посольстве, направленном св. Иоанном III к папе. Сам факт общения с его заклятым врагом казался германцу оскорбительным для всякого честного государя. Впрочем, эта краткая размолвка никак не отразилась на взаимоотношениях двух венценосных правителей; они попрежнему откровенно помогали друг другу: никеец – деньгами, германец – вооруженными силами и дипломатией. Фридрих мечтал закрепиться в Италии и искренне радовался, когда узнал о том, что Никейский император захватил наконецто Родос208.
Надо сказать, в целом общественное мнение было не на стороне папы. Когда во Францию прибыло папское послание об отлучении императора и лишении его короны, Людовик IX Святой приказал передать посланникам понтифика следующее: «Обвинение, исходящее от его недругов, а папа является злейшим из них, нельзя принимать на веру. Для нас император все еще невиновен (выделено мной. – А.В.). До сего дня он был для нас добрым соседом, и мы не видели от него ничего, что бы противоречило верности и вере в миру или христианской религии. Напротив, мы знаем, что он отправился в поход во славу Господа нашего Иисуса Христа, а также мужественно подверг себя опасностям моря и войны. Но у папы до сих пор не нашли такого благочестия. Мы не хотим подвергать нас опасности борьбы против могущественного Фридриха, которому помогли бы в борьбе против нас многие короли, и который найдет поддержку своему правому делу. Разве римлян заботит то, что мы прольем нашу кровь, удовлетворим мы только их ненависть. Если с нашей помощью и с помощью других папа одолеет Фридриха, тогда станет папа всех князей мира попирать ногами, хвастливо поднимать свой кубок и будет расти его гордость, что погубил он великого императора Фридриха»209.
Тем не менее при посредстве и по инициативе папы Фридриха II лишили всех его владений в Леванте решением Совета баронов. А в 1247 г. король Кипра Генрих I де Лузиньян (1218—1253) был освобожден понтификом от клятвы верности Германскому императору и признан «сеньором Иерусалима»; все закрыли глаза на тот факт, что его мать Алиса сама являлась незаконнорожденным ребенком. Попутно государи и бароны Святой земли получили письменный приказ папы не подчиняться распоряжениям Гогенштауфена, которое исполнялось адресатами исходя из собственных мотивов210.
Очевидно, эти события не могли укрепить обороноспособность Леванта и владений пилигримов, зато существенно облегчали положение Никейского царства. В это же время на другом конце земли закончил свой земной путь деспот Фессалоники Иоанн, тихий и благочестивый человек, и его брат Димитрий направил к св. Иоанну III Ватацу послов с просьбой закрепить за ним вдовствующий трон. Он получил просимое, но недолго пользовался властью. Вскоре от своих тайных агентов император узнал, что тот вовсе не собирается выполнять условия договора с Никеей. Кроме того, своим беспутным образом жизни Димитрий создал внутри города мощную оппозицию, решившую организовать заговор. Фессалоникийский деспотат уже давно не играл никакой самостоятельной роли, и его судьба была фактически предрешена.
Ватац не стал мешать заговорщикам, о которых ему донесли, и даже немного не напрямую приободрил их, пообещав свою помощь и поддержку. Осенью 1246 г. со своей армией император двинулся на Фессалоники и без труда овладел городом, лишив Димитрия титула «деспот», но сохранив ему жизнь и не ослепив, как того просили некоторые придворные. Впрочем, вскоре Димитрий заболел, принял монашеский постриг и скончался.
Новым наместником (уже) Фессалоники был поставлен Андроник Палеолог Комнин – опытный управленец и мужественный воин. А в 1247 г. св. Иоанн III овладел Визией и Цурулом211. Фессалоникийское, а ранее Эпирское царства перестали существовать, и слепой Феодор Ангел Комнин Дука, бывший царь Эпира, теперь являлся лишь правителем областей Водины, Старидола и Стровос212.
Продвигаясь по западным областям с войском, император узнал о кончине Болгарского царя Коломана и воцарении сына Асеня от последнего брака с Эпирской царевной Михаила II (1246—1256), совсем еще маленького мальчика. В планы царя не входила война с Болгарией, с другой стороны – совершенно неправильно было бы не использовать внутренний кризис сильного противника себе на пользу. Разослав своих дипломатических агентов, св. Иоанн III вскоре получил того, чего хотел.
В ноябре 1246 г. вся Македония практически без потерь досталась никейцам, а многие области Болгарского царства в единодушном порыве пожелали признать над собой власть сильного правителя, сын которого Феодор Ласкарис, к тому же приходился родственником по жене царственной семье Асеней. Эти договоренности облекли в письменную форму, и границы Никейского царства расширились за счет Родопа, Стенимаха, Ценены, Стумпиона, Хотовоса, Велевудия, Скопиа и Просака. А Болгарское царство потеряло почти треть своей территории213.
В 1247 г. св. Иоанн III Ватац вернулся во Фракию и присоединил к Никейской империи несколько фракийских городов, принадлежавших Латинской империи. Теперь св. Иоанн Ватац стал во главе всего греческого мира. За исключением Константинополя, Средней Греции и Пелопоннеса, Византийская империя была практически восстановлена в прежних размерах214.
Силы св. Иоанна Ватаца были теперь таковы, что он без труда мог позволить себе войну на два фронта. Когда в 1248 г. генуэзцы захватили Родос, он тут же направил морскую экспедицию, вернувшую в 1250 г. остров под власть Никейского царя. Французских рыцарей, помогавших на Родосе генуэзцам, конечно, перебили, но благоразумный царь не стал портить отношения со своими традиционными союзниками, с которыми обошлись весьма снисходительно215.
Даже смерть Фридриха II 13 декабря 1250 г. на пороге его 56летия не нанесла ущерба Никее, находившейся на подъеме. Как говорят, император был погребен в рясе цистерианца, которая, по повериям того времени, должна защитить душу от огня «чистилища». Скорее всего, сказанное является надежным свидетельством того, что умер император как настоящий христианин. И не случайно его имя овеяно множеством германских народных легенд, в которых Фридрих II изображен героем, бежавшим от папских гонений за рубеж, где и готовится к возвращению на родину.
Поразительно, но с не меньшей героикой связано имя Фридриха II и у арабов, проживавших на Сицилии, для которых он являлся «Махди», спасителем, должным как халиф устанавливать царство мира. Лишь тогда, полагали сарацинские легенды, весь мир станет «одной овчарней Бога», утихнут все религиозные споры, и даже вражда между людьми и животными прекратится216.
Примечательно, что кончина Германского императора вызвала совершенно неадекватную с точки зрения морали реакцию Римского престола. Иннокентий IV, живший в те дни в изгнании в Лионе, обратился к пастве со следующими, почти пасхальными словами: «Да возрадуются Небеса! Да наполнится весельем земля, ибо с падением тирана Господь Всемогущий сменил бури и грозы, которые посылал на ваши головы, на ласковый ветерок и питающий влагой дождь»217. Едва ли эти строки способствовали укреплению авторитета Римской курии и близости отношений с другими европейскими монархами…