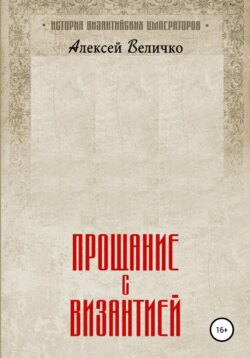Читать книгу Прощание с Византией - Алексей Михайлович Величко - Страница 7
Династия Ласкаридов
II. Император святой Иоанн III Дука Ватац (1222—1254)
Глава 3. 7-й Крестовый поход и смерть императора
ОглавлениеПосле поражения в 1244 г. положение дел латинян Леванта стало совершенно отчаянным. Они не только потеряли Иерусалим, но и понесли невосполнимые людские потери. Поэтому одна беда сменяла другую. 17 июня 1247 г. египетская армия захватила Тивериаду, а затем оккупировала Фавор и замок Бельвуар. На очереди оказался Аскалон, гарнизон которого мужественно защищался; тем не менее 15 октября того же года город все же пал. Почти всех крестоносцев перебили, и лишь их небольшая часть оказалась в плену. Правда, и силы Айюбида оказались небезразмерными. Разрушив Аскалон, он отправился в Иерусалим, где некоторое время руководил восстановительными работами, а потом в Дамаск, чтобы устроить там свой двор218.
Но тут на помощь погибающему Латинскому королевству пришел один из понастоящему великих государей Запада Французский король Людовик IX Святой, задумавший организовать 7й Крестовый поход. Светловолосый и худощавый, чрезвычайно обходительный человек, он часто болел, порой довольно опасно. В декабре 1244 г., находясь в Париже, король внезапно сильно занемог и, прося помощи у Бога, дал обет крестоносца, засвидетельствованный Парижским епископом Гийомом Овернским.
Получив внезапное исцеление, Людовик Святой не посмел нарушить своей клятвы и горячо взялся за дело, с точностью педанта начав организацию крестоносной экспедиции. Как говорят, общая сумма расходов на Крестовый поход составила около 250 тысяч ливров – гигантские по тем временам деньги. Четыре года шли приготовления, было учтено, казалось, все. Оставалось лишь пожать плоды грядущего успеха, в котором никто не сомневался.
Напрасно Фридрих II пытался предложить свои услуги и возглавить этот Крестовый поход, надеясь таким способом восстановить свою репутацию. Как отлученный от Римской церкви, император не имел права принять участие в данном предприятии. Вскоре выяснилось, что Английский король также не был намерен участвовать в Крестовом походе. Британское священство было крайне недовольно поборами Рима и тем, что епископские кафедры на острове занимают итальянцы, ставленники понтифика. Поэтому кандидатура главы похода была всем ясна219.
12 июня 1248 г. папский легат кардинал Тускулума Эд де Шатору вручил в СенДени королю посох и суму, а также Орифламму – священное знамя Франции. В Париже Людовик босиком прошел до НотрДам де Пари, отстоял мессу и простился с парижанами. И в августе того же года он отправился из ЭтМорта на Кипр с весьма внушительной армией, которую перевозили из Марселя венецианцы, весьма неодобрительно относившиеся к этому походу изза неизбежных потерь доходов в торговле.
С королем отправилась в поход его супруга королева Маргарита Прованская (1234—1270), братья – графы Роберт д’Артуа (1237—1249) и Карл Анжуйский (1227—1285), герцог Гюго IV Бургундский (1218—1272), Гюго X де Лузиньян (1219—1270), граф де Ла Марш, 25летний Жан де Жуанвиль (1223—1317), сенешаль Шампани и множество других аристократов. Прибыли добровольцы из Германии, Норвегии и Шотландии, а также из Англии. Их привел Уильям II, граф Солсбери (1209—1250) по прозвищу «Длинный меч». В сентябре все войска собрались на Кипре. В рядах пилигримов состояло 20 тысяч солдат, из них 2,5 тысячи рыцарей, 5 тысяч лучников и арбалетчиков220.
Туда и прибыла императрица Мария де Бриенн (1225—1275), прося помощи у короля для своего супруга Балдуина II. Несмотря на радушный прием и две сотни посланий, которые многие крестоносцы передали через нее в Константинополь для своих друзей и родственников, императрица получила лишь весьма расплывчатые заверения в том, что после завершения Крестового похода добровольцам будет разрешено отправиться на помощь Латинскому императору221.
Наступил сезон штормов, и потому пилигримам пришлось задержаться на Кипре. Пользуясь передышкой, вожди похода собрались, чтобы определить конкретную цель экспедиции. Тамплиеры надеялись, что король двинется в сторону Акры, чтобы оттуда идти на Иерусалим. Но тот все же решил плыть к Египту, повторив тем самым путь 5го Крестового похода. Разумеется, это вызвало охлаждение рыцарей орденов к королю; часть храмовиков после этого покинула армию222.
В целом 8месячное ожидание на Кипре сказалось на крестоносцах чрезвычайно негативно: армия проводила время в бездействии, разлагавшем ее. Кроме того, войско понемногу таяло: множество просителей, получивших у Людовика IX аудиенцию, уводили с собой небольшие отряды солдат, с помощью которых надеялись решить собственные военные проблемы. Целые полки отбыли в Антиохию, Константинополь и даже Киликию, куда их сманили хитрые армянские послы обещаниями невероятных богатств. В ставке короля побывали даже татарские посланники Великого хана Гуюка (1246—1248) из далекого Мосула, предлагавшего напасть на Багдадского халифа223.
Кроме того, закончились денежные средства, которые король собрал для похода224. Но хуже всего было то, что внезапная эпидемия сильно проредила ряды пилигримов. В короткое время умерло 260 рыцарей, не считая простых солдат. Болезнь настолько запечатлелась в памяти современников и потомков, что никогда более Кипр не будет использоваться в качестве плацдарма для новых операций на Востоке, лишь для краткой стоянки кораблей225.
Пора было срочно собираться к отплытию. И тогда Людовик Святой письменно уведомил о своем походе Египетского султана, который, впрочем, и так был осведомлен об этой опасности, и предложил тому креститься для разрешения всех конфликтов. Понятное дело, Айюбид отказался.
В мае 1249 г. крестоносцы высадились у города Дамьетта в устье Нила, а им навстречу выдвинулось войско султана, состоявшее в основном из воинственных бедуинов Бану кинан. Руководил мусульманами Фар адДин, друг императора Фридриха II. Первое столкновение было героическим: король в числе первых спрыгнул за борт корабля и, находясь по грудь в воде, под стрелами сарацин поспешил к берегу. Завязалась отчаянная схватка, в которой успех сопутствовал французам – они отбросили турок от берега; 6 июня 1249 г. крестоносцы вступили в город226.
Потеря Демьетты потрясла мусульманский мир. Умирающий султан приказал умертвить всех эмиров Бану кинан, не справившихся с обороной города, а Фахр адДин попал в опалу вместе с командирами мамелюков. Чтобы вернуть этот важнейший для обороны Египта город, султан предложил Людовику Святому обменять Демьетту на Иерусалим. Однако король категорично отказался вступать в какие бы то ни было переговоры с неверными. И, как казалось, судьба благоволила его начинаниям, поскольку буквально в эти дни, 23 ноября, Айюбид наконец скончался.
Если бы мусульмане узнали о смерти султана, Крестовый поход Людовика мог бы очень скоро завершиться грандиозной победой: армия египтян находилась на грани развала. Но в тот момент сарацин спасла вдова альСалиха этническая армянка Шаджар адДурр. Она подделала подпись покойного мужа и объявила Фарх адДина главнокомандующим всеми войсками, а наследником – своего сына Тураншаха (1249—1250), который в это время являлся наместником в далеком Джезире и уже стремглав мчался в Египет, получив тайное письмо матери. Таким способом дисциплина в войске была восстановлена227.
Вскоре вождя крестоносного воинства ждал первый неприятный сюрприз: наступил разлив Нила, делавший дальнейший поход на Каир совершенно невозможным. Пришлось оставаться в Демьетте, где бароны проводили время в пиршествах и поединках, а простые воины – в объятиях продажных женщин. Тем временем вокруг города кружили конные разъезды врага. Не ведающие дисциплины вожди крестоносцев совершали отдельные нападения на сарацин, заканчивающиеся, как правило, трагично. Зато египтяне каждую ночь убивали часовых и поджигали город. Надежда на пополнение, которое должен был привести брат короля граф Альфонс де Пуатье (1220—1271), оказалась тщетной. Нет, корабли с новыми крестоносцами прибыли, но налетевшая буря разметала их, и множество рыцарей утонуло в море, не успев сойти на берег228.
Поняв, что промедление окончательно разложит армию, король по совету брата и некоторых видных военачальников решил направить свое воинство на Вавилон и 28 ноября 1249 г. выступил из лагеря. Пока крестоносцы строили дамбу через Нил, чтобы двигаться дальше, стычки между ними и сарацинами не прекращались ни на один день. В открытых противостояниях успех, как правило, сопутствовал крестоносцам, впереди которых двигались отряды опытных тамплиеров. Но египтяне чрезвычайно успешно действовали через засады. Более того – они соорудили метательные орудия и снарядами с «греческим огнем» доставляли крестоносцам массу неприятностей. Каждый раз, когда начинался обстрел крестоносного лагеря из турецких орудий, король Людовик Святой поднимался из постели и молил Бога, чтобы Господь сохранил его людей от смерти229.
21 декабря 1249 г. армия короля добралась до речки Бахр асСагир, являвшейся притоком Нила, и разбила лагерь именно в том месте, где в 1221 г. останавливались крестоносцы под руководством кардинала Пелагия. Армия египтян под командованием другого полководца, ФакрадДина, расположилась на противоположном берегу, в 3 км от города альМансуры. Шесть недель противники стояли друг напротив друга, но в феврале какойто бедуин предал своих товарищей и за крупное денежное вознаграждение показал пилигримам брод на другой берег.
Эта операция, состоявшаяся 8 февраля 1250 г., принесла пилигримам успех, но стоила многих жертв. Уже с первых минут боя авангард крестоносцев подвергся яростной атаке турок, и очень скоро погибли граф д’Артуа, Рауль де Куси, Уильям, граф Солсбери и более 280 рыцарейтамплиеров. Еще несколько сотен воинов получили тяжелые ранения. Правда, и сарацины несли потери, более того, в самом начале сражения погиб ФакрадДин: он столкнулся с двумя рыцарямитамплиерами, и те зарубили его. Теперь командование на себя взял мамелюк Бейбарс230.
Войска христиан переправлялись на другой берег и тут же вступали в бой. Но турки сумели прорвать их центр и вклиниться между двумя частями крестоносного воинства. В скором времени в бой вступил уже сам король Людовик Святой со своими рыцарями. Наконец, сражение, длившееся весь день, завершилось. Город взять пилигримам не удалось, и они отошли в свой лагерь231.
Но едва наступила ночь, как сарацины внезапно напали на них. Первыми атакам подверглись воины графа Анжуйского, брата короля, к которому тот поспешил на помощь, едва услышав звон оружия. А вслед за тем сражение закипело уже по всему фронту. К утру египтяне отступили, и крестоносцы праздновали победу, потеряв, правда, вновь немало прекрасных воинов и военачальников. Через 9 дней на поверхность воды стали всплывать трупы убитых при переправе рыцарей и мусульман. Их было такое множество, что король, опасаясь эпидемии, нанял сотню бродяг, которые за деньги взялись захоронить покойников.
В пятницу, 11 февраля 1250 г., мамелюки снова нанесли смелый и неожиданный удар по лагерю крестоносцев. Эти бесстрашные воины, набираемые в основном из числа белых мальчиковрабов покоренных народов Кавказа (прообраз будущих янычар), наступали настолько дерзко и мощно, что многие пилигримы впоследствии говорили, будто никогда ранее не видели такой смелой атаки. Многие латиняне погибли в этом бою, Великий магистр тамплиеров Гильом де Соннак (1247—1250) потерял глаз и почти всех своих товарищей по Ордену. Однако и сарацины недосчитались 4 тысяч воинов232.
Восемь недель простоял Людовик со своим войском в лагере, проводя время в обороне от вездесущих мамелюков. Но когда 16 марта 80 французских кораблей, которые должны были доставить пилигримам продовольствие, показались на горизонте, как тут же на них напали легкие египетские суда и потопили сразу 32 корабля. Вслед за этим в лагерь крестоносцев проник голод – самое страшное оружие. Подвоз продовольствия из Дамьетты был крайне затруднен – повсюду разъезжали конные отряды сарацин, и в крестоносном лагере наступила страшная дороговизна.
Как рассказывают современники тех событий, один бык стоил не менее 80 ливров, а баран или свинья – по 30 ливров. Вскоре положение французов стало бедственным – многие воины были ранены, а поправить здоровье им мешало отсутствие пищи. Чтобы избежать гибели, Людовик Святой решил отвести свои войска к Дамьетте, где располагался лагерь герцога Бургундского233.
Для обеспечения своего отхода Людовик IX попытался договориться с султаном, но Тураншах, уже прибывший в Египет и принявший командование армией, прекрасно осведомленный об истинном положении дел пилигримов, наотрез отказался от какихлибо переговоров. От безысходности 5 апреля французы и их союзники двинулись в обратный путь в полном окружении врагов. На следующий день вновь произошло сражение, в котором погиб магистр тамплиеров, получивший множество ранений.
Король находился впереди армии во главе отряда телохранителей и являл пример стойкости и мужества, но, не отличавшийся крепким здоровьем, заболел дизентерией. Однако ни за что не желал оставлять войско. «Отвага и выдержка короля, – писал один исследователь, – были выше всяких похвал». Он едва держался в седле и под конец дня потерял сознание. В довершение всех бед в спешке по чьейто ошибке забыли уничтожить сооруженный ранее понтонный мост, и теперь сарацины беспрепятственно перешли реку и бросились в погоню за крестоносцами234.
Королю становилось все хуже, раздавались даже голоса, что он не доживет до рассвета следующего дня. И потому пришлось срочно отправлять его в близлежащую деревню, Мунтьян АбуАбдаллах. А остальная армия стеклась к деревне Шаримши, где ее взяли в кольцо мусульмане. Правда, пилигримы отбили все атаки сарацин, но тут некий гонец из числа французских сержантов по имени Марсель, подкупленный султаном, прибыл к латинянам и передал, будто король отдал приказ сложить оружие. Вслед за тем наступила очередь и короля – он оказался в плену вместе со своими товарищами! Капитуляцию подписал граф Филипп де Монфор, спасший короля и остатки армии ценой гибели всех раненых и больных пилигримов, которых оставили на верную смерть235.
Это была позорная, неслыханная ситуация – король Франции оказался в руках у турок. Помимо этого, сарацины захватили весь крестоносный флот, а также тысячи пленных. Не все из них имели счастливую судьбу: заболевших пилигримов египтяне безжалостно убивали на месте, а остальных пешком погнали в альМансуру. Там их партиями по 200—300 человек выводили на базарную площадь, принуждая принять Ислам; несогласных казнили тут же236.
Известия об этой катастрофе не сразу дошли до Европы, где все были убеждены в том, что Людовик IX захватил Египет. Когда первые гонцы прибыли в Париж со скорбными вестями, их сгоряча просто бросили в тюрьму, как распространителей ложных слухов. Но затем все подтвердилось. В отчаянии Римский епископ послал остальным монархам Европы и епископату письмо, в котором содержались следующие строки: «О, обманчивые страны Востока! О, Египет, царство мрака. Неужели ты сулил радостные новости в начале войны только для того, чтобы повергнуть нас в мрачную тьму и самому оставаться похороненным во тьме глубокой ночи?!»
Эффект от поражения крестоносцев был таков, что, по словам Матфея Парижского, в городах Италии многие разуверились (!). Но имела место и обратная реакция. Английское рыцарство возмутилось бездействием собственного короля, император Фридрих II отправил послов к султану с просьбой освободить Людовика IX, а король Кастилии Фернандо III Святой (1230—1252), несмотря на собственную войну с сарацинами, дал клятву отправиться на Восток для отмщения за погибших французских рыцарей237.
Ввиду бедственного положения супруга королеве Маргарите Прованской пришлось срочно приступать к переговорам о выкупе Людовика Святого, который тем временем находился под арестом в доме секретаря султана. За свое освобождение и выдачу пленных крестоносцев Людовик обещал сутану вернуть Дамьетту и внести помимо этого еще 500 тысяч ливров. Тот требовал помимо этого Иерусалим, но король отвечал, что Святой город принадлежит не ему, а Конраду, сыну Фридриха II. Моментально после этих слов мусульмане отозвали свое требование. Явно насмехаясь над Людовиком, султан пообещал вернуть ему 100 тысяч ливров, вполне удовлетворяясь оставшейся суммой.
Для вызволения короля из Иерусалима прибыл латинский патриарх, но его участие никак не ускорило процесс переговоров. Венценосного крестоносца и его спутников держали в безобразных условиях, кормили червивой пищей и лишь на Пасху разрешили употребить яйца, окрашенные в разные цвета. В один из моментов всем крестоносцам, находившимся рядом с королем, казалось, что их ждет скорая и страшная смерть. Но 7 мая 1250 г. король и его товарищи были уже освобождены238.
Правда, самого султана в этот момент уже не было в живых. Своим поведением он настолько разозлил всесильных мамелюков, что те, вступив в сговор с султаншей Шаджат адДурр, 2 мая, во время пира, умертвили правителя. Как говорят, сам Бейбарс лично прикончил несчастного Тураншаха, когда тот пытался спастись вплавь. Трое суток тело пролежало в воде, пока посол Багдадского халифа получил разрешение похоронить его по мусульманскому обряду. Ликующие заговорщики выбрали своим атабеком и регентом Египта Изз адДина Айбека (1250—1257), для летимности женив его на Шаджат адДурр239.
В июне 1250 г. Людовик Святой прибыл в Акру, где был принят как настоящий герой. Несмотря на страшные потери и разочарования, он не желал оставлять Крестовый поход, хотя отослал Карла Анжуйского на родину. Все время пребывания в Акре благородный монарх употреблял на то, чтобы выкупить из плена оставшихся крестоносцев. Вскоре к нему прибыли послы от Алеппского и Дамасского эмиров с предложением объединить усилия для войны с Египтом. Король отказался, ссылаясь на свой договор с султаном. Но тут же уведомил того о том, что в случае сохранения в сарацинском плену пленных рыцарей готов поддержать его врагов. Султан немедленно освободил 200 франков.
В своих мечтах Людовик Святой рисовал новый Крестовый поход, но им не суждено было сбыться по вполне объективным причинам. Испанский король скончался, а его преемник Альфонсо X (1252—1284) больше интересовался защитой собственной страны от африканских сарацин, чем далеким Египтом. Французский король активно агитировал на Кипре, Романии и Морее, но, несмотря на его титанические усилия, удалось собрать не более 700 рыцарей. Причем часть из них составляли те самые пилигримы, которых только что освободили из мусульманского плена. Нищие и раздетые, без средств к существованию, они не могли составить конкуренции сильным мамелюкам. Разумеется, с такой малочисленной и слабой армией не было никакой возможности начинать новую войну240.
Однако в это же время хрупкое единство мусульманского мира опять покрылось трещинами раздоров. Сирия отнюдь не горела желанием признавать над собой власть мамелюков – Айюбиды казались им гораздо ближе, а потому 9 июля 1250 г. Халебский эмир анНасир Юсуф оккупировал Дамаск, где его восторженно встретили как правнука прославленного Саладина. На этом фоне деятельность короля была далеко не безуспешной, хотя результаты носили, скорее, локальный характер. Еще в марте 1252 г. он, играя на противоречиях между Египтом и Дамаском, заключил союз с султаном Египта сроком на 15 лет, и в соответствии с его условиями сарацины освободили всех пленных пилигримов, включая и тех, кто попал в неволю еще раньше. К сожалению для Людовика IX, Багдадский халиф альМустасим (1242—1258) вскоре сумел примирить единоверцев. В результате сарацины, забыв о вражде, совместными усилиями овладели Сидоном, под рухнувшими стенами которого нашли свою гибель двенадцать сотен пилигримов.
Но вскоре Французский король нанес ответный удар. Введя строгую дисциплину, он вернул Сидон, захватил Баниас и чуть не овладел считавшейся неприступной крепостью Субейб. А на Пасху 12 апреля 1254 г. посвятил в рыцари Бальяна, сына Иоанна д’Ибелина, сеньора Арсуфа. Здесь же, проявляя благородство и деликатность, король подтвердил права внука уже покойного Фридриха II Гогенштауфена Конрада III (1254—1268) на титул Иерусалимского короля. Наконец, убедившись в бесполезности своих попыток освободить Святой город, король дал приказ готовить корабли к отплытию во Францию241. 7й Крестовый поход завершился…
Как справедливо полагают, своим предприятием Людовик Святой вовлек христианский Восток в чудовищную военную катастрофу. И хотя его 4летнее пребывание в Акре во многом загладило провал основной военной операции, потери в людской силе так и остались невосполненными. Если Дамаск и Каир не продолжили свои походы на остатки земель пилигримов, то лишь изза страха перед непобедимыми монголами, чье присутствие ощущалось все явственнее и ближе242.
А что же наш герой? Используя выпавшую ему передышку, Никейский император приложил немало усилий для увеличения благосостояния своих подданных. Оставив себе столько земли, сколько необходимо для обеспечения царского стола, а также для содержания немощных и больных из государственной казны – не более того, св. Иоанн III раздал остальные имения никейцам. Он приказал делать запасы из урожая каждого года, а также разводить лошадей, коров, овец и свиней. Вскоре эти мероприятия обеспечили хороший достаток для всего населения. И когда у турок случился неурожай и его естественное следствие – голод, византийцы по высоким ценам продавали сельджукам продукты питания. Казна государства и частных лиц быстро наполнилась деньгами. Рассказывают, что, продав все яйца, которые понесли его курицы, царь на вырученные деньги купил императрице корону с драгоценными камнями. Ее так и называли – «яичной короной».
Кроме того, заботясь о благосостоянии подданных, император категорически, под угрозой лишения звания и состояния, запретил никейцам приобретать дорогие иностранные ткани, на покупку которых уходили, как правило, большие деньги. Это больно ударило по венецианцам, формально сохранившим торговые привилегии, но, с другой стороны, лишенным рынка сбыта дорогих изделий в Никейской империи. Купцы Республики терпели громадные убытки, напротив, «пышность у римлян вошла в границы, и богатство потекло из дома в дом же»243.
Но достаток и новые завоевания во Фракии и Македонии являлись не главным; впереди у императора св. Иоанна III была высшая цель – Константинополь, ради достижения которой он мог пожертвовать многим. Хотя его дипломатические маневры вызывали законное недовольство Фридриха II Гогенштауфена, Никейский царь регулярно отправлял посольства в Рим. Поразительно, но царь сумелтаки убедить папу Иннокентия IV в том, что помехой воссоединения Западной и Восточной церквей является не Никейское царство, а Латинская империя (!). Правда, потом понтифик разуверился в этих умозаключениях, но было поздно – в 1251 г. византийцы уже подступили к стенам Константинополя и начали осаду. В ответ Римский епископ направил осажденным латинянам послание, в котором обещал денежную помощь, если те выдержат осаду в течение 1 года.
К этому времени дипломатическая линия Германия – Никея несколько ослабла. Дела Конрада II (1250—1254), сына покойного Фридриха II Гогенштауфена, шли не очень хорошо, к тому же в апреле 1254 г. он скончался. А регент Манфред (1232—1266) при малолетнем короле Конраде III уже не имел возможности так стойко противостоять Риму, да и сам относился к грекам с нескрываемым подозрением244.
Ситуацию усугубил понтифик, направивший посланников в Венецию для организации нового Крестового похода. Однако Ватац тут же внес необходимые коррективы, чтобы отвести опасность от Никеи. Дипломатия царя, который «играл с Римской курией не хуже болгар», была понятна и близка византийскому священноначалию, поддержавшему своего царя. В 1253 г. патриарх Мануил (1244—1255) направил папе послание, согласованное с царем. В нем он соглашался признать главенство понтифика в Кафолической Церкви, включить его имя в диптихи, присягнуть апостолику, подтвердить за папой право председательствовать на Вселенских Соборах и единолично высказываться по догматическим вопросам, если только такие суждения не будут противоречить древним канонам и общеустановленным догматам. Нет сомнений в том, что патриарх и император хорошо поняли друг друга: пусть понтифик вернет ромеям Константинополь, а уж потом будет видно, на какие уступки можно пойти, а на какие – нет.
В 1254 г. царь направил пышное посольство во главе с Арсением Авторианом, будущим Константинопольским патриархом, митрополитами Кизикским и Сардикским, в Рим. Выступая от имени всей Восточной церкви, св. Иоанн III соглашался признать примат Римского папы в Кафолической Церкви при условии немедленного удаления Латинского императора из Константинополя и передачи ему, Ватацу, древней византийской столицы. А также выдворения всех латинских священников из греческих земель245.
Конечно, Иннокентию IV не могли не понравиться подобные инициативы. Он ответил в том духе, что готов выступить в качестве посредника между св. Иоанном III и Балдуином II, а также обеспечить права Никейского императора по мере того, как тот начнет выполнять свои обещания. Это была большая дипломатическая победа – Римский папа добровольно и публично отказался от звания защитника Латинской империи246.
Как полагают, был даже подготовлен проект договора на этот счет. А примиряющая политика Ватаца привела к тому, что стал возможен новый Вселенский Собор, на котором мог бы быть решен вопрос о примирении Церквей. К сожалению, ранняя смерть Иннокентия IV оборвала эту перспективу. А затем вмешались иные, трагичные обстоятельства247.
Согласно преданию, окончив дела в Македонии и Фракии, царь распустил войско по домам и возвращался в любимую им Никею. По дороге ему сделалось дурно – очень болела голова; некоторые даже думали, будто у св. Иоанна III открылась эпилепсия. Три дня он был недвижим, и только искусство врачей вернуло его к жизни. Почти год болезнь медленно одолевала закаленное тело царявоина, причиняя ему нестерпимые боли. Наконец, 3 ноября 1254 г. св. Иоанн III Дука Ватац скончался. Похоронили императора в монастыре Спасителя в Созандрах, который они возвели с царицей Ириной близ Нимфеи, где находится резиденция дома Ласкарисов248.
Результаты многолетнего царствования св. Иоанна III Дуки Ватаца очевидны. Прекрасно ориентируясь в тонкостях дипломатических игр, чувствуя нюансы отношений между своими противниками и замечательно используя их, св. Иоанн III уберег Никейскую империю от многих неприятностей. Более того, император разгромил Фессалоникийское царство, смирил болгар, собрал под свое знамя большинство греческих земель – причем наиболее богатых и густонаселенных. Ватац полностью обессилил Латинскую империю, и как справедливо говорят, просто случайность, что он не овладел Константинополем.
Внутри государства василевс усмирил аристократию, навел порядок в финансах, причем без возложения на рядовых обывателей дополнительных тягот и налогов. Действительно, царь был несколько подозрителен – объяснимая черта характера для человека, в отношении которого дважды как минимум устраивали заговоры со стороны самых близких товарищей и даже родственников. Но при всем этом св. Иоанн III никого не отправил на эшафот ради подозрений, всегда считая необходимым устроить публичное судебное разбирательство и дать возможность подсудимому оправдаться.
Это был настоящий самодержец, «народный царь», воля которого являлась безусловной по всем вопросам. Он имел непререкаемый авторитет среди всех слоев населения, но никогда не злоупотреблял своим правом императора творить суд и закон249.
Как говорили, «мировой столп, который поднял власть ромеев на поднебесную высоту и сделал ее известной всем, покачнулся и разрушился. Упало высокое дерево с широкой кроной, которым осенялись все земли во вселенной. Погасло славное и светлое солнце, благодаря которому мы избежали камней преткновения, благодаря которому нам был приятен свет и при котором мы достойно совершали путь как днем»250.
Память о нем долго жила в Византии, а с его личностью в устных преданиях связывались многие чудотворения. Как рассказывают, спустя 50 лет, в 1307 г., когда турки начали наступление на границы воссозданной Византийской империи, местный правитель Атталиоты приказал перенести мощи св. Иоанна III в Магнезию. И, действительно, туркам не удалось взять штурмом этот город, что отнесли к заступничеству и помощи святого императора. «Призрак Ватаца» вносил сумятицу и страх в ряды турок, и позднее, когда город был все же взят, мстительные мусульмане сбросили мощи св. Иоанна III Дуки в овраг251.