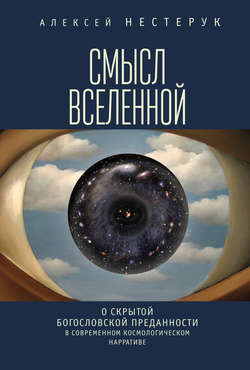Читать книгу Смысл вселенной. О скрытой богословской преданности в современном космологическом нарративе - Алексей Нестерук - Страница 7
Введение
Богословская преданность в феноменологическом модусе
ОглавлениеВ своей внутренне присущей конструктивной и критической функции по отношению ко всем спонтанным проявлениям социальности, включая вопрошание о вселенной, богословие являет себя в феноменологическом модусе познания, то есть в модусе, который изучает, анализирует и квалифицирует состояния человеческого сознания, соотнося их с присутствием божественного в самом человеке. Богословие имеет дело с неопосредованным божественным присутствием в мире, открытым человеку и переживаемым им в самом факте жизни. Однако, в этой своей критической функции богословие, в отличие от классической феноменологии, (которая, по сути дела, была отрицанием любой возможности трансцендирования вовне человеческой субъективности), предполагает «прорыв» к божественному, как основанию фактичности любого акта познания и осознания божественного. Нетрудно видеть, что феноменология в таком понимании подвергается некой модификации самой богословской преданностью. Это не есть прежняя классическая феноменология Гуссерля и его последователей, для которых религиозные феномены и богословие вообще представляли серьезную проблему73. Это также не есть та феноменология, в которой «Бог» должен быть вынесен за скобки феноменологической редукцией74. Следование богословской преданности в феноменологии приводит к тому, что было названо французским философом Д. Жанико (D. Janicaud, 1937–2002) «богословским поворотом» в феноменологии75. С точки зрения последнего, такой поворот глубоко проблематичен, ибо он отклоняется от исходных задач феноменологии. Это породило во Франции и за ее пределами оживленную дискуссию о возможности использования феноменологии для экспликации богословского опыта и наоборот. В частности, обсуждался вопрос о возможности трансцендирования: позволяют ли феномены, связываемые с присутствием божественного, действительно удержать в них нечто такое, что не исчерпывает их и не позволяет осуществлять их присвоение сознанием. Для того, чтобы прояснить то, о чем здесь идет речь, уместно процитировать Т. Торранса, ссылающегося на вопрос, поставленный Карлом Бартом: « “Как нам удается мыслить то, о чем мы не можем мыслить вообще, используя средства этого мышления? Как нам удается говорить о том, что мы не можем высказать вообще, используя языковые средства?” В реальном познании Бога всегда остается несоответствие между Богом, как познаваемым, и человеком, как познающим. Однако, если исходить из того, что познание Бога все же осуществимо, то оно должно исходить из реальности и благодатности познаваемого Объекта (то есть из того, что происходит при любом действительном познании, в котором реальность вещей при нашем благоволении являет себя нам и действует на нас даже в том случае, когда связь между нашим познанием и языком с реальностью вещей несводима к исключительно внутренним отношениям мышления и речи). Итак, мы поставлены перед жесткой альтернативой: либо погрузиться в полное безмолвие, то есть не задавать даже вопросов скептического толка и не вопрошать о разумности природы или законах мышления…; либо же задавать вопросы только изнутри круга познания для того, чтобы подвергнуть испытанию природу и возможности структур разума»76. Резюмируя, можно сказать, что по сути здесь затрагивается проблема, присущая философской теологии постмодерна, а именно, как можно говорить о том, что трансцендентно? Или, более формально, как можно говорить о том, что несоизмеримо с языком и порядками концептуального мышления? Как можно концептуализировать то, что принципиально не-концептуально или до-концептуально, до-теоретично? Не будет ли речь о явлениях, не допускающих концептуализации, неким насилием над этими явлениями, cводящими их явленность к кругу имманентного сознания, таким образом, лишая их инаковости, то есть того, что остается в них за пределами феноменализации в сознании?77
Явления, о которых идет речь, изменяют установку трансцендентальной философии на априорный характер познавательных способностей и возможность конституирования феноменов как феноменов сознания. Богословие в данном случает получает большую выгоду от происходящей философской дискуссии, ибо позволяет выразить преданность, основанную на вере с помощью современного языка. Но это означает также и то, что Православное богословие, имея обязательства по отношению к разуму, может быть теоретически продвинуто к тому, чтобы его диалог с наукой стал еще более артикулированным в современных языковых и смысловых формулах78.
Однако, богословская преданность подразумевает не только новое освоение материала и языка, присущего современной науке и философии. То есть речь идет не только о богословии как языковом выражении веры, а о вере как таковой. Имеется ввиду вера в контексте Церкви как созданной Богом среде и человеческом пространстве, для того, чтобы человечество выполнило свою спасительную функцию. И поэтому богословская преданность как движение «за пределы секулярного разума» предполагает укрепление веры и стяжание нового церковного опыта Бога, ибо без этого опыта «истинное богословие» невозможно. Если этот опыт отсутствует, богословие вырождается в академические спекуляции о том, что не наблюдается и плохо понимается. Оно становится разновидностью секулярного мышления, привязанного к той или иной культурной традиции. Легко понять, что диалог подобного секуляризованного богословия с наукой не имеет экзистенциального смысла, ибо наука не подвергается испытанию жизненной верой, то есть верой в предопределение человеческого существования. Без этой веры наука, как мы уже отмечали выше, рискует стать демоническим средством, способным превзойти границу человеческого, незамеченную моральным, то есть богословски преданным разумом.
73
Исследователи Гуссерля, указывали на то, что он никогда явно не высказывался о религии, Боге или мистике в его опубликованных работах. Среди тех, в которых он касался вопросов религии, можно привести «Кризис Европейских наук и трансцендентальная феноменология», «Первая Философия» (Erste Philosophie), «Феноменология Интерсубъективности» (Zur Phänomenologie der Intersubjektivität) Тем не менее Гуссерль обсуждает религиозные вопросы в его неопубликованных манускриптах. (См. детали в статье R. A. Mall, “The God of Phenomenology in Comparative Contrast to that of Philosophy and Theology”, Husserl Studies 8 (1991), pp. 1–15. См. также книгу E. Housset, Pesonne et sujet selon Husserl (Paris: Presses Universitaires de France, 1997), pp. 265–290, в которой можно найти библиографические ссылки на аспекты философии Гуссерля в отношении религии. См. также книгу A. Bello, The Divine in Husserl and Other Explorations, Analecta Husserliana XCVIII (Dordrecht: Springer, 2009). Исследуя напряжение в отношении Гуссерля к проблеме Бога, Р. Молл пишет: «пропасть между Богом феноменологии и Богом богословия остается до тех пор, пока она не преодолевается, либо когда интендируемое содержание концепции Бога заполняется, либо реальность Бога входит в человеческое сознание в мистическом опыте, откровении, вере или благодати. Для феноменологии законна только первая возможность, но не вторая. Гуссерль может быть и был способен примирить их внутри своей личности. Но это уже другая история…» (Mall, “The God of Phenomenology…”, p. 13).
74
Э. Гуссерль, Идеи к чистой феноменологии и феноменологической философии, Том 1. Общее введение в чистую феноменологию. М.: Дом интеллектуальной книги, 1999, с. 128.
75
D. Janicaud, Le tournant théologique de la phénoménologie française.
76
Т. Торранс, Пространство, время и воплощение. М.: Изд-во ББИ, 2010, с. 119.
77
См., например, J.-L. Marion, De Sucroît; J. K. Smith, Speech and Theology. Language and the Logic of Incarnation (London: Routledge, 2002).
78
Ср.: «Богословы Христианской древности находились в постоянном диалоге с современной им философией. Обращаясь к Отцам, мы должны учиться у них этому диалогу. Это необходимо для того, чтобы нынешние богословы смогли вступить в подобный диалог с современным философским мышлением. Возможно, следует говорить о выработке нового богословского языка, что, разумеется, не означает измены догматическому учению Церкви, но, наоборот, должно способствовать такому выражению этого учения, которое позволит диалогу состояться» (Митрополит Филарет, Путь жизнеутверждающей любви, с. 44–45).