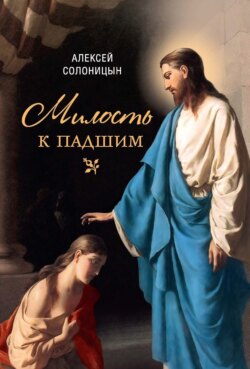Читать книгу Милость к падшим - Алексей Солоницын - Страница 4
Глава 1
Смертное утро
ОглавлениеСолнце показалось над спокойно дышащим морем. Оно осветило своим краешком подножие громады маяка.
Подножие являло собой четырехгранную призму шестидесятиметровой высоты с квадратным основанием, облицованным белым мрамором.
Не торопясь, солнце стало потихоньку скользить по могучему телу маяка, который поднялся на сто тридцать пять метров, туда, на вершину, где неусыпно горел костер, освещая пространство утреннего моря через гладкие шлифованные линзы из камня и зеркал.
Лучи маяка сейчас светили ярче солнечных, освещая могучую фигуру Посейдона, венчавшую это чудо света.
Вот солнце осветило и великолепный, со стройными колоннами и греческим портиком храм Святого Аркадия. Когда-то он был храмом Сераписа – бога плодородия, царствие которого простирается на земле и под землей, бога, так почитаемого египтянами. Сначала римляне, а потом греки попытались объединить египетского бога со своими, но из этого ничего хорошего не вышло.
Распри, чаще кровавые, то затихали, то возобновлялись, даже и сейчас, когда вера Христова стала главенствующей во всей Византийской империи, в том числе и здесь, в Александрии.
Вот солнце добралось до всего греческого квартала, лежащего за храмом, где дома из камня и крытые черепицей, с внутренними двориками и садами, маленькими фонтанами, постепенно переходили в соседство с домиками из кирпичей глиняных, с плоскими крышами, в большинстве своем из тростника.
Солнце осветило и египетскую часть великого города с кварталами, идущими параллельно морскому берегу, в центре своем с садами и площадями, с Дворцовой его частью, самой торжественной и величавой.
Здесь царские сооружения занимали около трети города и назывались Брухейон. Сюда входили театр, усыпальница Александра и Мусейон – с когда-то знаменитой на весь мир Библиотекой. Ныне от Библиотеки почти ничего не осталось; Мусейон, прибежище муз, был перестроен и не имел того величавого вида, как при династии Птолемеев.
Но и сейчас, при византийском владычестве, Дворцовая площадь и многочисленные постройки вокруг него с садами и роскошными улицами не могли оставить равнодушными ни надменных римлян, ни ученых греков, ни прибывающих сюда торговцев из Иерусалима, Персии и далекой Индии.
В это ранее утро из дома, на вид вполне приличного, даже претендующего на некую изысканность, с довольно искусно сделанным греческим портиком с двумя колоннами, небольшой лестницей, обложенной мрамором, торопливо вышел человек.
На нем была надета черная милоть[17] поверх такой же черной не то камизии[18], не то туники, подпоясанной веревкой. Голова его была прикрыта надвинутым почти до глаз куколем[19], скрывающим лицо. Человек смотрел не перед собой, а в землю, лишь иногда вскидывая глаза и осматриваясь по сторонам.
Казалось странным, что этот человек не любуется прекрасным, свежим утром, не радуется легкому ветерку, беззаботно бегущему с моря, а куда-то торопится, словно опасаясь, как бы кто-нибудь его не заметил.
Свернув от дома, из которого вышел, в боковой переулок, человек внезапно остановился, чуть не натолкнувшись на незнакомца, преградившего ему путь.
– Попался! – торжествуя, с плохо скрываемой злобой выкрикнул незнакомец.
Человек в милоти хотел было юркнуть в сторону, но незнакомец, крепко ухватив его за грудь, рывком приблизил его к себе.
– Нет, от меня так просто не уйдешь!
– Пусти! – Человек попытался вырваться, но его старенькая милоть лишь затрещала в крепкой руке незнакомца.
– Посмотри на меня лучше, ну? Узнаешь? – Он еще ближе придвинул к себе жертву, и милоть снова затрещала.
– Отпусти!
Чуть отодвинув человека в милоти от себя, незнакомец со всего размаха треснул его по уху, бросив на глухую стену дома, около которого произошла эта встреча.
Рывком подняв человека с земли, он встряхнул его и опять спросил:
– Ну, теперь узнал меня, монах Виталий? – Тот, кого назвали монахом, всё еще не мог прийти в себя – голова гудела, соображение возвращалось медленно. – Не понравилось? А если я теперь двину тебе в другое ухо, как думаешь, лучше начнешь соображать? Тут есть закон гармонии, или нет? Ты ведь ученый монах, не так ли?
– Не бей меня. Скажи лучше, что тебе надо.
– Хочу выяснить кое-что.
– Что именно?
– Сейчас узнаешь. Первое. Как ты, дрянной человечишко, смеешь называться монахом? Дожив до седых волос, таскаешься к блудницам! Неужели не понимаешь, что порочишь святое имя монаха?
– Позволь и тебя спросить, – ответил Виталий. – Прежде всего, почему я должен держать ответ перед тобой?
– Тебе и в самом деле непонятно, почему я поймал тебя? Я Наклетос, дискобол, дрянная твоя душонка. Ты врачевал в доме моего отца Леонидаса. И проповедовал. Все тогда восхищались твоим красноречием! И я восхищался! А отец мой тебе сказал, что я победил на весенних играх. И ты ответил, что пришел бы посмотреть на Гептастадион, как я метаю диск, да только тебе нельзя. Вспомнил?
Голова Виталия продолжала гудеть от удара, распухшее ухо болело, но все же он вспомнил, хотя и смутно, что был в доме грека Леонидаса, блюстителя порядка на Агоре[1], агоранома, просившего посмотреть его больную жену, которую никак не могут вылечить. И он пришел, и лечил женщину, истощенную болезнью, и молился, а потом о чем-то еще говорили.
– Да, я знаю тебя, Наклетос. Но не потому, что был в твоем доме.
– А почему?
– Видел и слышал тебя на суде.
– Вот! – обрадовался дискобол. – Климена, сестра, сказала, что ты, Виталий, негодный монах! И что зря тебя пригласили в дом! Нечего восхищаться твоим красноречием, потому что все это сплошное лицемерие! А на самом деле ты сластолюбец, распутник! И теперь я убедился, что это правда!
Открытое, незамутненное раздумьями лицо Наклетоса покрылось красными пятнами от праведного гнева, а светлые голубые глаза, казалось, метали искры, когда он говорил, пристально глядя на монаха. Он опять взял Виталия за грудки и сильно встряхнул его.
– Ты понимаешь ли, что наделал?! Понимаешь? Ты подрываешь не только мою веру во Христа Спасителя! О Котором так прекрасно говорил! И язычники торжествуют! И опять призывают резать нас, христиан! Мерзкая, ничтожная тварь, вот ты кто! Это ты совратил мою Алоли!
Он снова ударил Виталия по уху. Да так сильно, что монах потерял сознание.
Наклетос понял это, как только отпустил милоть Виталия.
Тело монаха как будто лишили костей, оно обмякло и, словно тряпичное, повалилось на землю.
Наклетос сверху смотрел на жертву.
«Убил?»
Минуту-другую он стоял над Виталием, потом наклонился к нему.
Монах приоткрыл правый глаз, не заплывший от удара.
– К тебе… Наклетос… вернется… твой удар…
– Что? Что ты бормочешь?
– Удар… вернется к тебе… – Монах собрал силы и закончил фразу: – …Ты закричишь… громко…
– Я? Закричу?
– …Вся Александрия услышит…
– Безумец! Что выдумал! Это ты закричишь, если сможешь!
Приподняв, он ударил Виталия о стену дома, да так сильно, что монах рухнул, замер на земле, распластавшись.
Наклетос отряхнул пыль и кусочки сухой штукатурки, попавшие на его белоснежную тунику. Отряхнул пыль и с кожаных сандалий. Только после этого пошел прочь из переулка, где остался лежать поверженный монах.
Когда Наклетос миновал египетскую часть города, которая называлась Ракотис, на улицах уже появились прохожие. Но он не замечал их, находясь в том состоянии, когда продолжаешь переживать случившееся. Неподалеку находился Гептастадион, и Наклетос подумал, а не зайти ли туда, чтобы поупражняться, тем успокоив себя. Но странно – ноги как будто сами несли его в противоположную часть города. Наконец он вышел на улицу Канопик, а потом и Сома, которые отличались от остальных величавыми колоннами и вели к мавзолею Александра Македонского. Он не понимал, почему шел сюда.
И вот оказался на Дворцовой площади, окруженной торговыми рядами, в Брухейоне.
Странный ветер трепал его кудри на голове крепкой лепки. Пальмы, росшие вдоль площади, слева и справа, стояли неподвижно. Их роскошные кроны, похожие на головные уборы восточных красавиц, тоже были неподвижны.
А между тем Наклетос явно ощущал ветер, налетевший на него. В мыслях, мелькавших в голове, он снова увидел красавицу Алоли, танцовщицу. Пальмовая крона как раз и напомнила ее танцевальный головной убор.
Алоли он посещал в доме блудниц, и мысль о том, что она отдавалась монаху, была для него особенно ненавистна. Но ведь Виталий был у нее, в этом не осталось никаких сомнений! Теперь понятно, что именно из-за речей монаха она не согласилась быть с ним!
Пальмы не качали кронами из стороны в сторону, а между тем ветер так усилил свой порыв, что Наклетос остановился, закрыв лицо руками.
Как будто песок, принесенный из пустыни, полоснул по глазам.
Как будто кудри его начали отрываться от головы и встали дыбом.
И будто кто-то скользкий, мерзкий проник сквозь тунику и вцепился в грудь.
Чтобы отодрать от себя мерзкое существо, он стал рвать на себе тунику. Но мерзость еще сильнее вцепилась в него.
Пролезла сквозь грудную клетку и стала пожирать внутренности.
И даже сладострастно чавкала.
Наклетос дико заорал.
Решил, что если с разбега удариться о ствол пальмы, то убьет мерзость.
Так и сделал, быстро побежав к деревьям.
От сильного удара ему стало еще хуже, и он закричал громче.
Тогда он стал кататься по булыжникам, которыми вымощена улица, ударяясь о колоннады и подбираясь ближе к торговым рядам, уже вопя безостановочно.
К нему сбегался народ.
Один из окруживших беснующегося Наклетоса узнал его. Крепко обхватив, попытался привести в чувство.
Тщетно.
Нашли товарища Наклетоса, который шел от дворца, где располагалась префектура.
– Наклетос! Наклетос! – прокричал человек, знакомый ему, прямо в лицо. – Что с тобой? Очнись!
И тряс его, и дергал за кудри, качая голову из стороны в сторону.
Глаза дискобола на минуту стали осмысленными.
Пена перестала течь изо рта.
– А? Где я?
– Тебя кто-то преследовал? Кто, скажи!
В глазах, только что выражавших растерянность, появилась решимость узнать, что же произошло.
– Нет… Как болит ухо… Алоли…
– Тебя кто-то ударил? Скажи, кто?
Народ всё прибывал, спрашивая друг у друга, что произошло.
– Повалил мою лавку! – громко сказал один.
– Бросался моими рыбами! – крикнул другой.
– И камнями!
Сознание Наклетоса исчезло так же внезапно, как и появилось.
Он снова дико закричал.
Потом завыл.
Его связали, уложили на носилки и понесли.
Толпа, потрясенная помешательством знаменитого дискобола, сына известного всему городу агоранома, шла следом.
Было немало любопытствующих – пытались понять причину помешательства.
– Он назвал имя Алоли.
– Танцовщицы?
– Из дома блуда!
– Тише! Я точно знаю, что она бежала оттуда.
– Да перестаньте, женщины!
– Перестать? Избил его кто-то из любовников Алоли!
– Хватит врать! Сам видел, как он в пальму врезался!
– Ну да!
– Господь наказал!
– Господь никого не наказывает. Это мы сами себя наказываем.
– А, Философ! Ты-то как здесь?
– Шел мимо.
– А чего с нами?
– А ты чего?
– А ничего. Это же Агора.
Между тем пришли в дом Леонидаса.
Наклетос то переставал выть, как бы набираясь сил, то вновь начинал истошно орать.
Уцепившись за имя Алоли, вскоре выяснили, что у дома блудниц, в переулке, нашли монаха.
Люди пытались связать одно событие с другим.
Глаза Наклетоса прояснились, и он перестал выть.
Приподнявшись на ложе, он вдруг сказал:
– Это я… Хотел его проучить! А убил…
Наступила тишина. Она казалась странной после изнуряющих воплей Наклетоса.
– Нет, монах Виталий не убит, – сказала Климена, сестра Наклетоса. – Мне его почитательница рассказала. Его принесли в дом, правда, сильно избитого.
Опять наступила тишина.
И послышался внятный голос Наклетоса:
– Он сказал, что я буду кричать так, что услышит вся Александрия.
И после этих слов снова впал в беспамятство.
17
Ми́лоть – мантия, плащ.
18
Ками́зия – длинная рубаха с рукавами.
19
Куку́ль, или куколь – монашеский головной покров.
1
Агара – торговая площадь с храмовыми и административными застройками в городах Древней Греции и в Александрии. Здесь собирались для обсуждения бытовых гражданских и философских вопросов. Агорано́мы – смотрители рынков.