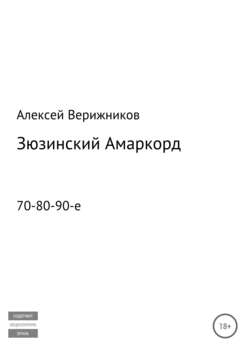Читать книгу Зюзинский Амаркорд - Алексей Валерьевич Верижников - Страница 4
Глава 1. Гиганты первобытного леса
Флора
ОглавлениеСейчас районы, застроенные пятиэтажками, представляют собой, по сути, сплошную парковую зону. Деревья там, в прямом смысле, «выше крыши». А в ранние годы этих районов там еще был целый «подлесок» из кустарников. Летом во дворах стояло плотное благоухание цветущего шиповника, в цветах которого с бодрым гудением возились толстенькие разноцветные шмели. Периметры разгораживали посадки декоративного кустарника, который мы в детстве называли «гибридом крыжовника и смородины». Во время цветения он давал ярко желтые цветочки, в основании «попки» которых таился сладчайший нектар – откусываешь попку и высасываешь аки шмель. А во второй половине лета кустарник «выстреливал» салютом разноцветных и разнокалиберных сладких ягод – черных, желтых, красных, которые сохранялись на ветках почти не скукоживаясь до ранней осени. А еще был гастрономически бесполезный, но востребованный детством кустарник, который давал по осени белые горькие плотные ягодки, которые, если бросаешь на асфальт и резко наступаешь на них ногой, давали бодрый веселый хлопок. Так до первого снега ими и хлопали.
Помимо декоративных растений, в качестве индивидуального почина, обильно высаживали и сугубо утилитарные культуры – яблони, сливы, черную и красную смородину, малину, крыжовник. Среди заселивших пятиэтажки обитателей было немало вчерашних деревенских – как жителей, поглощенных новыми московскими районами примыкавших к Москве деревень (Черемушек, Зюзино, Чертаново, и т.п.), так и вчерашних колхозников из более отдаленных весей, вытащивших свой «счастливый билет» и мытьем/катаньем перебравшихся в столицу из колхоза на завод, прописавшись в призаводских бараках, которые в результате первой московской «реновации» потом зареплейсили «хрущевками». Среди тех, кто сейчас себя с гордостью называет «коренными москвичами», преобладают именно их потомки.
Деревенские хотели на новом месте сохранить деревенский быт и самостийно нарезали себе под окнами хрущевок никак не узаконенные «две сотки» (предтечу сегодняшнего формата ситихауса), засадив их плодово-ягодными и имея твердую интенцию «из своих слив, а не каких-то там гнилых покупных, на зиму компот в банки закатывать». В социалистическом же сознании прочих новоселов данный агрикультурный самосад воспринимался как общественная, а не как частная собственность, поэтому визиты в соседские смородиново-яблоневые кущи по принципу help yourself считались вполне нормативным поведением. Иногда, как это принято в биологическом мире, пищеварение следовало на месте прямо вслед за насыщением. Кусты, как говорится, располагали.
Нелегитимные же владельцы наделов, как могли, защищали урожай от набегов строителей коммунизма – громкой бранью из окон и выскакиванием «на разборку» с садовым инвентарем в руках. До сих пор помню деда, бегущего с лопатой наперевес, как красноармеец в последнюю отчаянную штыковую атаку, вслед за улюлюкающими парубками.
Любопытно, что несмотря на то, что мы имели свой собственный подобный двухсоточный «надел» и снимали с него ежегодно по тридцать-сорок килограмм слив, конвертировавшихся затем в бесконечные ряды запыленных компотных банок под всеми кроватями, я сотоварищи совершал точно такие же набеги с целью раскулачивания «куркулей», раскинувших свое подсобное микрохозяйство под окнами других пятиэтажек. Чужие яблоки и сливы они, понятно, слаще. Плюс незабываемое адреналиновое чувство ухода от погони с отягощенными добычей карманами.
Конец 60-х – начало 70-х не были годами голодной бедности. Это был расцвет умеренной брежневской сытости и вполне добротного мещанского благополучия. Но парадигма «питаться своим» прочно засела в головах людей, переживших войну и послевоенную разруху, кормясь по большей части со своего огорода. Все прилегающие к Битцевскому лесопарку открытые пространства, а также лесные поляны были распаханы под самозахватные картофельные парцеллы (и у нас была такая деляночка, схоронившаяся под линией ЛЭП, рассекавшей лесопарк пополам). И поскольку права на них были «птичьими», в случае более чем предсказуемой потравы полудикорастущей картошки, оставалось только гадать, кого винить – птиц ли небесных или же тварей земных (о четырех и о двух ногах).