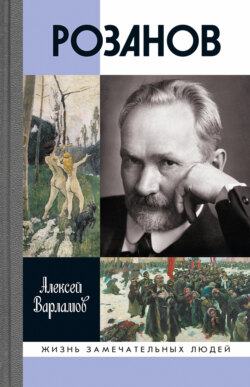Читать книгу Розанов - Алексей Варламов - Страница 22
Русская партия
ОглавлениеНет сомнения, что Розанов весьма сочувственно читал эти строки, но все же к полному переходу на творческую работу был не готов. Журналистская деятельность не приносила достаточного дохода, и если бы его уволили со службы с «волчьим билетом», трудно сказать, как бы он стал выживать. Тем более что в эти же годы произошло еще одно очень важное событие в жизни бельского педагога, о чем он доложил своему литературному опекуну: «Из своих новостей скажу серьезную и смешную: первая – у нас дочь Надя, кой 1/2 года и коя оживляет и радует всю нашу семью. Никогда не мог понять, как можно мысли о людях или мечты о них предпочитать настоящим людям? иначе как можно ценить, уважать и любить искусство и публицистику <больше>, чем свою семью. Мне кажется это преступлением. Еще недавно, нося Надю, закинув через плечо, я думал: до какой же отдаленности от жизни нужно было дойти гг. литераторам, чтобы измену идее считать преступлением, а измену семье, о ней беззаботность – считать обыкновенным. А по-моему, можно изменять всяким идеям, но не изменяй живым людям. Вот я без должности, грозит голод жене и малютке дочери, которые, знаю, любят меня иначе, чем франко-германо-английские публицисты. У меня – “легкое перо”; мне предлагают участие в журнале, кой я презираю, идеи его считаю вздором. Чему изменить: своей прежней деятельности или семье: о, без всякого сомнения – печатному хламу. Ведь очень честный муж должен же пойти с шарманкой, положим, без всякого сознания ее пользы и служения через нее чему-нибудь; и если в литературе он ее вертел налево – отчего ему вдруг не начать вертеть направо, с мыслью, что вся эта дребедень через 10 лет забудется; а голод малютки и жены – да каких! это никак не забудется. – Кто знал нужду и любит конкретного человека – иначе рассуждать не может. Это я когда-нибудь разовью печатно: подлецы, сколько издевались над мольбой “жена – дети; не гоните со службы”. А ведь это самый человеческий крик; ведь разным Акакиям Акакиевичам только это из человеческого и оставалось, вернее – оставлено было; и вот надо же вырвать это последнее: пускай гусиное перо только скребет, и больше ничего – это нужно нам, а его там отеческие потроха – это нам не нужно. Нужно быть очень тупым, чтобы не питать некоторой доли сильнейшего неуважения к литературе. Нет, это слишком резиновые мозги. Хорошо делал Дост., что почти всегда описывал литераторов жуликами и проходимцами; они таковы и есть – в значительной степени».
В эти строках, адресованных опять же сурьезному, до мозга костей преданному литературе Страхову, весь будущий Розанов, которого станут упрекать за беспринципность, безыдейность, аморализм, продажность, сотрудничество с изданиями разных политических направлений. Здесь все его еще не написанные «опавшие листья» с их подчеркнутым презрением к литературе и литераторам и декларацией первенства частной жизни перед общественной, и, похоже, это произвело впечатление даже на получателя письма. Николай Николаевич пожурил в ответ своего подопечного очень ласково и даже как-то растерянно, не зная, что возразить.
Впрочем, из Белого все равно нужно было под любым предлогом бежать, но тут Розанов получил письмо от «лучшего литературного критика 90-х годов», как он сам позднее его аттестовал, Юрия Николаевича Говорухи-Отрока. «Что касается до Вашего желания променять учительство на журналистику, то заклинаю Вас всеми святыми, не предпринимайте в этом направлении никакого решительного шага, не повидавшись со мной и не посоветовавшись с H. Н. Страховым. Вы можете совершенно и на всю жизнь погубить себя. Нужна чрезмерная нравственная и умственная выносливость, кошачья живучесть, чтобы, сделавшись журналистом, не обратиться в журнального смерда, не погубить окончательно своего дарования. И вот что я Вам скажу: я зарабатываю журналистикой от 5 до 6 тысяч в год, но если бы мне предложили место учителя в уездном городе на 2 тысячи жалованья, – я сейчас же и охотно бросил бы журналистику. Я не перестал бы писать, конечно, но бросил бы, чтобы избавиться от обязательного писания. А Вы, сколько я могу судить, человек далеко невыносливый и поэтому для Вас журналистика была бы чистою гибелью».
Розанов, однако, этим увещеваниям не внял. «Непременно нынешний же год брошу Белый: помилуйте – в здешней аптеке хина не горька и капли Иноземцева – производят расстройство желудка. Это важнее, чем отказ “Моск. Вед.” печатать мои фельетоны», – писал он Страхову, и вот, кстати, еще один подступ к знаменитой вольной розановской эссеистике.
Но все же работу в гимназии он бросил не наобум. Василию Васильевичу помогла в его дальнейшем трудоустройстве «русская партия». То есть, конечно, она так не называлась и не была вообще никоим образом ни оформлена, ни зарегистрирована, да и сам Розанов позднее против этого названия выступал, ссылаясь на «Дневник писателя» Достоевского[22]. И тем не менее были в Российской империи влиятельные консервативные круги, наследники славянофилов, поздние славянофилы, ревнители традиционных ценностей, которые вошли в силу в царствование Александра Третьего и принимали нашего учителя за своего. А неформальным местным представителем и предводителем этой партии в Смоленской губернии был Сергей Александрович Рачинский, который и сообщил Розанову об интересе Победоносцева к его статье, а самому Константину Петровичу написал: «Еще забота – у меня завелось новое дите. Это В. В. Розанов, статьи коего в “Русском вестнике” Вам, конечно, известны, и толстую книгу коего (“О понимании”) вы, конечно, не читали. Человек он прекрасный, искренне благочестивый и церковный, и притом писатель положительно талантливый. Учительствует он в Бельской прогимназии и учительством тяготится».
Ставший фактически вторым – ну или, если считать Суслову, – третьим розановским опекуном (тут стоит заметить, что роль Страхова как наставника в жизни Розанова стала постепенно угасать, да и сам Николай Николаевич не мог либо не хотел своему ученику помогать в делах житейских или же – чего нельзя исключить – обиделся на то, что Розанов не воспользовался его помощью при переводе из Ельца), Рачинский был личностью воистину замечательной. Есть огромная несправедливость в том, что имя этого человека, профессора Московского университета, вышедшего в отставку и уехавшего в середине семидесятых годов XIX века в Смоленскую губернию заниматься народным образованием, сумевшего создать там несколько образцовых сельских школ, переводчика Дарвина, корреспондента и оппонента Льва Толстого, просветителя и благотворителя (он потратил в 1889–1897 годах на строительство школ в Бельском уезде 100 тысяч рублей собственных средств, и было это в 13 раз больше, чем израсходовало на них земство, и в 32 раза больше – чем Министерство народного просвещения), мало кому сегодня известно, а если и упоминается, то чаще всего в связи с личностью его протеже. Именно он с его обширнейшими столичными знакомствами, известный благодаря своему подвижничеству даже в царском дворце и отмеченный монаршими наградами, стал проводником В. В. в «высший свет», а точнее – в чиновничий Петербург. И это, конечно, факт поразительный, как в смоленской глуши, среди непроходимых лесов и болот, наш герой встретил столь влиятельного человека и нащупал дорожку, по которой ему было суждено прийти к литературной победе.
Перед учителем двухэтажной прогимназии лежало два пути наверх – прямой и нет. Первый – связанный с Победоносцевым и возможной службой в Синоде. «Характер Розанова представляется симпатичным, и мне хотелось бы пристроить его к себе», – писал обер-прокурор С. А. Рачинскому, но что-то не сложилось, в том числе из-за расхождений стилистических. «Какая жалость: слог невозможный», – отозвался о будущем лучшем стилисте Серебряного века Победоносцев. И тогда Розанову пришлось пойти вторым путем. Его покровителем в Петербурге сделался другой, чуть менее крупный столичный чиновник, но тоже церковник и даже православный богослов, один из инициаторов создания Императорского Палестинского и Географического обществ, почетный член Петербургской академии наук, поклонник хорового пения, игры в городки и страстный собиратель фольклора, а также молодых российских талантов.
«Вашею литературною деятельностью сильно заинтересован Тертий Иванович Филиппов, – сообщал Розанову Рачинский. – Он хотел бы перетащить вас в Петербург, дать вам более или менее фиктивную, но хорошо оплаченную должность в своем ведомстве, и притом сделать из вас своего литературного сотрудника по вопросам церковно-государственным. Мне поручено на счет этого плана зондировать почву, т. е. вас… Скажу вам прямо, что этого благополучия я для вас не желаю. Тертий Иванович действует путями не всегда прямыми. Самолюбия он безмерного. Самостоятельной мысли в подчиненных он не терпит…»
При этом в оригинале (неотредактированном при публикации) фраза про пути звучала так: «Тертий Иванович действует путями кривыми и темными, его тайный орган – “Гражданин”». Последнее было намеком на одну из самых консервативных русских газет, презираемую даже консерваторами, и на ее издателя – князя Мещерского, известного своими нетрадиционными сексуальными предпочтениями.
Однако Розанову выбирать не приходилось, ему не терпелось вырваться из педагогического плена, а к содомии он всегда относился снисходительно, и так, после одиннадцати лет рабства учительского началось шестилетнее рабство чиновничье. Но зато в Петербурге. И, конечно, не для того, чтобы сделать бюрократическую карьеру, а чтобы – как писал Розанов впоследствии: «я этих петербуржцев научу, научу, научу, переучу…».
22
Так, в статье «Два съезда», опубликованной в 1907 году, он писал: «Глубокое вырождение и упадок русских чувств констатировал уже четверть века тому назад Достоевский в “Дневнике писателя”. В ту пору, в разгар русско-турецкой войны, в противовес почти поголовному и уже старому, даже очень старому увлечению нашего общества исключительно европейскими воззрениями, теориями и вкусами, образовалась какая-то “русская партия”, кажется ничем ярко себя не выразившая. Кое-где были “коллективные постановления” бойкотировать английские товары и английские магазины в Петербурге и Москве, да несколько русских женщин нерешительно надели сарафаны и кокошники. И вот, когда это нерешительное движение вылилось в сформирование русской партии, то Достоевский с глубокою тоскою и недоумением написал в “Дневнике” своем: “Боже! У нас есть русская партия! ” Он недоумевал: каким образом в стране, именуемой Россиею и населенной русским народом, может возникнуть как что-то новое, обособленное и очевидно протестующее русская партия? Ибо ведь это знаменует собою, что вся Россия – уже не русская; т. е. что вся Россия шарахнулась куда-то в сторону от России же, т. е. от самой себя! Что же это такое?! И Достоевский развел руками при виде этого буквально кошмара: представим себе Древнюю Грецию и в ней “греческую партию” или современную Англию и в ней “английскую партию”. Представим себе Францию с “французскою партиею”. Невозможно представить! Не было никогда и, очевидно, не будет! Но в России это случилось».