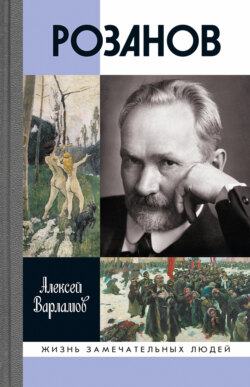Читать книгу Розанов - Алексей Варламов - Страница 23
Чужой среди своих
Оглавление«В приемной кабинета Т. И. Ф-ва я ходил взад и вперед с час, – и как сейчас помню (“всегда мысль не о том, что к сейчас относится”) пытливо и страстно размышлял, отчего тело погребенного фараона клалось приблизительно на высоте 7 [1/]3 – считая снизу – пирамиды (общей высоты ее), и так как камера с телом была собственно “вписана в треугольник”, – если представлять пирамиду в разрезе, – то из каких именно египетских идей все это могло вытечь? из каких тенденций мысли? из каких вкусов? Как вдруг высокая дверь отворилась, – и ко мне медленно и маленькими, усталыми шажками стал подходить человек невероятно большого объема. Подняв глаза, я уже знал, что это Филиппов. Вид его был благ, мягок, добр; и седые волосы по-русски были расчесаны на две стороны, – пробором по средине, по-крестьянски. Я все смотрел. Когда, подойдя ко мне и ничего не сказав, он нагнулся и, трижды поцеловав, сказал: “Еще отдания Пасхи не было” (т. е. ”христосуются”). Я ничего не сказал. Он вздохнул. И что-то сказал. Что – я не помню. В “сию неизъяснимую минуту” и возникла та антипатия между нами, отчета в которой я никогда не мог себе отдать, но которая заключалась в “терпеть не могу” с обеих сторон. Жизнь – в шутках, улыбках, остроумии; жизнь во всяком случае – в движении; здесь же – в тихой приемной (никого не было) и особенно в тихо склонившейся ко мне фигуре я увидел или почувствовал такое отрицание движения, такое до преисподней доходящее запрещение шутить, говорить и двигаться, что почувствовал, что я умираю, и точно сделал движение – выскочил из могилы. “Выскочить из могилы”, должно быть, он и прочел на моем лице; и, очевидно, в душе его шевельнулось: “А, так вот как…” И с тех пор началось мое закапывание…»
Так писал В. В. позднее, когда его мучителя давно не было в живых, в «Опавших листьях». Розанову, как уже говорилось, трудно верить и еще труднее не верить, так одновременно он субъективен и убедителен. Однако, во-первых, ничего предосудительного Тертий Иванович не сделал – хотел лишь похристосоваться с человеком, которого считал своим единомышленником, и не был виноват, что простодушно ошибся. А во-вторых, если взглянуть на Т. И. Филиппова другими глазами, если прочитать его переписку с Достоевским, Леонтьевым, Майковым, да даже с Победоносцевым (с которым они, правда, друг друга терпеть не могли), если вспомнить его роль в судьбе Аполлона Григорьева, которого он пригласил в редакцию «Москвитянина», помощь Мусоргскому, если вникнуть в суть его разногласий с Аксаковым и Катковым, в его позицию по болгарскому вопросу, отношение к старообрядчеству, то перед нами возникнет совсем другой образ. Даже Татьяна Васильевна Розанова признавала в мемуарах, что ее отец «часто был несправедлив к Тертию Ивановичу, которого многие хвалили за его широкие литературные интересы и за его доброжелательное отношение к подчиненным».
Конечно, он не был идеальным государственным мужем. Этого человека сегодня опять же мало кто кроме специалистов по истории помнит, а Розанов его, можно сказать, навсегда изничтожил, сделав своего рода историческим изгнанником, но между тем именно Тертий Иванович написал год спустя после кончины розановского кумира Константина Леонтьева: «Зато он не лишен был истинных и трогательных перед кончиною утешений в любви и глубоком уважении своих юных последователей, в восторженной оценке В. В. Розанова…»
Помимо этого о Филиппове в письмах к В. В. очень высоко отзывался и сам Константин Николаевич: «Вы не знаете, что значил для меня этот человек в течение 10 и более лет. Только у Филиппова я уже с начала 70-х годов видел и ясное понимание моих целей, и горячее, твердое, деятельное участие».
«Если Т. И. Филиппов читал Ваши статьи и очень хорошего о них мнения, то вот Вам покровитель, который может Вас совершенно устроить. Он великий любитель литературы и постоянно благотворит писателям», – сообщал своему подопечному Страхов.
Наконец и сам Розанов в марте 1893 года, накануне отъезда из Белого, отправил Тертию Ивановичу письмо, в котором выражал «искреннее и глубокое уважение» к мыслям своего будущего покровителя и фактически изливал ему душу: «…Не буду неискренен и скажу прямо, что той верности собственного душевного строя исторически-установившейся Церкви, какой желал бы я очень, очень глубоко – у меня еще нет, она не достигнута. Через воспитание, в течение долгих годов учения – мы отходим от Церкви; но когда в зрелом возрасте пытаемся возвратиться к ней – путь слишком длинен, чтобы его быстро пройти; однако дойти до желанной цели я не теряю надежды, ибо “стучащим отверзется”. Пока же, на этом длинном возвратном пути, сколько есть во мне сил и уменья, стараюсь будить во всем нашем обществе, столь совершенно атеистическом, это течение к закрытой для него двери; сколько Бог даст мне выполнить – это будет видно в будущем.
С какою благодарностью читал я в письме Вашем одобрение моих трудов – не буду говорить, Вы это поймете без слов. А я-то трудился, ожидая и для себя со временем участи Константина Николаевича, с простою радостью выразить то, что занимало мой ум и тяготило сердце. Есть великая отрада в этом труде, незаменимая, ни с чем не сравнимая; но видеть, что и там, вдали, этот труд признается, что мысли, вот здесь зародившиеся, проходят через чью-то далекую мысль и тревожат чужое сердце, – это награда, которая могла быть заслужена лишь гораздо более продолжительным трудом, чем мой. Слова же Ваши “о времени, когда божественный дар слова ценился как святыня” – я приму как завет, и предостережение, и указание. Думаю, что если не несчастье какое-нибудь в жизни, сумею и смогу сохранить его.
С истинным и глубоким уважением
остаюсь В. Розанов»[23].
Ну и как было Тертию с таким почтительным и деликатным человеком не похристосоваться?
Письмо это любопытно еще и потому, что в нем Розанов презрительно отозвался о двух издателях, один из которых впоследствии станет его настоящим, безо всяких скидок спасителем и благодетелем, а второй – с ним у него, правда, никаких отношений не сложится – известен в истории русской литературы тем, что именно он основал в 1890 году серию «Жизнь замечательных людей». «…эта настойчивость и умелость как-то досталась в удел людям, во всех отношениях ничтожным, Суворину, Павленкову и пр., которые засыпают Россию своими изданиями».
Так что все вышесказанное про розановское «красное словцо» не только к Филиппову относится, но и ко многим, кого острый на язык, раздражительный В. В. навсегда сразил, срезал, припечатал в переписке ли, в «Опавших листьях», в критике, публицистике. Однако если Карамзину, Грибоедову, Гоголю, Салтыкову-Щедрину, Чехову, да даже и Герцену с Белинским, Добролюбовым, Писаревым и Чернышевским от розановских резких оценок и высказываний не убудет, как не убудет от них Владимиру Соловьеву или Гиппиус с Мережковским, то с деятелями «меньшего калибра» (с тем же Рачинским, например) ситуация более сложная. А что касается Тертия Ивановича, то он к своему подчиненному оказался чересчур строг как раз потому, что быстро прозрел: не того приютил, не тому помог. Не стал новый петербургский чиновник правоверным членом консервативной русской ложи, не сделался «объединяющим центром и надежным руководителем и вдохновителем нашей осиротевшей после смерти Леонтьева молодой семьи», чего от него ожидали, а – сбежал, переметнулся на сторону противоположную, и на то у В. В. были свои личные причины…
23
Подробнее об этом в статье О. Л. Фетисенко «Из предыстории переезда В. В. Розанова в Петербург: Письмо Розанова к Т. И. Филиппову».