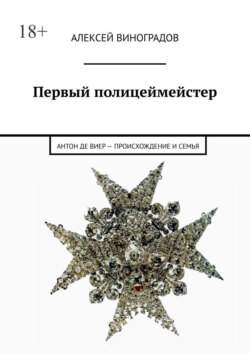Читать книгу Первый полицеймейстер. Антон Де Виер – происхождение и семья - Алексей Виноградов - Страница 6
1.Де Виер и евреи
2
ОглавлениеВпрочем, нельзя относить указы ко всем представителям иудаизма. В Польше был возможен переход в шляхетское сословие татарского и еврейского населения. Жидами в России именовали иудеев, подданных Речи Посполитой, к остальным этот термин не относился. Они могли быть «жидовствующими», «караимами», «евреями» и в таком виде в их число попадала часть мордвы и староверов. Современник событий проф. Мартинер в 1731 при перечислении течений православных старообрядцев указывает на одно – субботников: «13) Subatniki, befestigen nach Jüdischer Art am Sabbat-Tage, also noch alte Überbteibsel sind von einer Keşerey zu Novogrod. Nichtlange ist ist auch noch eine andere Sekte.
13) Субатники, празднующие по-еврейски Субботу, так что все еще есть старые выжившие из одного Кешерея в Новогроде. Другой секты давно нет». (Nachricht aus Rußland)
субботники Воронежской области
В начале 20 века субботники-«православные жиды» насчитывали 1,5 млн. чел. в черноземной России. Другая секта «Великий Израиль», по исследованиям начала века, насчитывала до 1 миллиона человек в Черноземных губерниях, доходя до Кеми в Карелии. И хотя ее члены, судя по описанию, были иудеями, они сами считали себя истинно православными и говорили, естественно, по-русски. И таких сект в России было 26. (Бонч-Бруевич В. Д.) Еще в 1770 годах русские языческие верования официально именовались «жидовскими».
Сенная площадь
«Дома на Сенной в старину исключительно населялись евреями. Утром, при закупке припасов, они толпами расхаживали на площади. В это время они не приписывались ни к одному из торговых сословий и не были обложены никакими податями. При таком выгодном положении своем в столице евреи богатели в короткое время и стали заниматься ростовщичеством. Когда состоялось положение об евреях, им пришлось приписываться в городские сословия. Большая часть еврейских семейств оставила столицу, следовательно, и Сенную площадь. В счастливые дни пребывания евреев на Сенной на них приходили смотреть столичные жители во время их праздников Кущей. В эти дни сенновские евреи имели обыкновение строить внутри двора временные деревянные шалаши при домах, в которых жили. Снаружи шалаш сходствовал с четырехсторонними башнями и примыкал к дому с нижнего яруса до крыши; одна сторона шалаша сообщалась с внутренними покоями, а три, составленные из стеклянных рам, выходили на двор; шалаш разделялся на столько отделений, сколько дом заключал в себе ярусов, и каждое отделение состояло из одного покоя. Вечером шалаши освещались множеством свечек, евреи с величайшим волнением, шумно располагались на лавках лицом к той стороне стены, которая присоединялась к дому; еврейки обносили мужей разными яствами и вином; евреи, предаваясь торжеству, кричали оглушительно, и под конец веселье переходило в шумную оргию. Тысячи зрителей толпились по дворам, любуясь странными празднествами евреев». (М. И. Пыляев. Старый Петербург)
Переписывание из столичных евреев (которые жили в районе Сенной площади еще до постройки города?) в петербургские мещане или купцы, и обложение налогами, все же нельзя назвать высылкою за границу.
Если из России выселяли польских жидов, то в Польше вообще всех москалей считали жидами. После победы польской армии над русской в войне за Украину были сочинены торжественные гимны.
«В той же Лирики, песнь первая или победа над Шереметевым:
Слава Богу! Москаль жидоголовый
Тяжкими бряцает на ногах оковы.
А что недавно Польше путами грозили,
Самиж себя в неволю тяжку посадили:
Слили кровью своею Чюдновское поле». Издание 1670. (Н. Г. Устрялов. Т. 1)
боярин Шереметьев
«Между Ингерманландскими крестьянами есть особый род, не Русские и не Ингры, которые говорят смешанным языком, держатся особых верований и многих обычаев, имеющих сходство с Иудейскими. Хотя у них и есть евангелические священники, но крестьяне эти, помимо воли священников своих, уходят в разные времена года в кустарник, освящают там по своему деревья, за тем рубят их, варят себе на этих дровах известное количество пива и до тех пор не выбираются из кустарника, пока не выпьют всё; под конец складывают из тех же деревьев костер, сажают на него живого петуха и сожигают его вместе с костром». (Записки Вебера)
У россиян в 18 веке была традиция: «Тогда им показывают Святых с великим почтением, и вошедший кланяется с большим уважением, воздыхая и крестя свою грудь и лицо. Голову преклоняют три раза и произносят каждый раз, ударяя ладонью по самой груди: „Господи, помилуй!“. После сего, с теми, кто в доме здороваются, говоря: „Schalom!“ (Еврейское слово: „Мир вам!“) и затем уже приступают к исполнению своих дел». (Генрих Седерберг)
«Своеобразным историческим источником является народная эпическая поэзия Киевской Руси – былины, «старины». Былины, разумеется, не могут дать ни последовательности исторических событий, ни строгого достоверного описания фактов – поэзия есть поэзия. И, тем не менее, былины вполне историчны. Историзм былин проявляется в отборе воспеваемых событий, в выборе прославляемых или порицаемых исторических деятелей, в народной оценке событий и лиц…
Былинный эпос – устная поэзия, воспевающая сохраняемые в народной памяти героические события или отдельные эпизоды, возведенные в разряд примеров, заслуживающих подражания…
На протяжении целого тысячелетия народ разрабатывал и бережно хранил эпическую поэзию, служившую своего рода «устным учебником родной истории», передаваемым из поколения в поколение. Этнографами XIX в. зафиксированы случаи обязательного исполнения былин в деревнях во время новогодних празднеств, когда не только производились обряды заклинания будущего, но и подводились итоги прошедшего. Пелись былины и на пирах, «сидючи в беседе смиренныя, испиваючи мед, зелена-вина…».
В «Слове о полку Игореве» впервые в русской литературе появилось слово «былина», переводимое специалистами в данном случае как «действительное событие». Когда творчество новых былин прекратилось, когда былины стали по существу только рассказами о прошлом, появилось иное название для них – «старины», но для нас важно отметить, что первое упоминание слова «былина» связано с представлением о только что происшедшем событии.
…Еще Орест Миллер писал: «Не прославляя князя, ставя его совершенно в тень, былины столь же мало прославляют и его дружину, которая должна разуметься в былинах под окружающими его и также совершенно безличными и ничтожными „князьями-боярами“, иной раз даже прямо осмеиваемыми». (Б. А. Рыбаков. Киевская Русь)
Упоминаемый в былинах Садко – он же Садко Сытинич, поставил церковь Бориса и Глеба Новгороде в 1167. Новгородский гусляр и именитый гость Садко носит имя Садока (Цадок, Zadok), первосвященника царя Соломона.
Главный русский богатырь, Илья Муромец, главнокомандующий русских войск так же носит еврейское имя. В печорской былине «Илья Муромец» о его происхождении говорится:
«Во селе было во Кракове.
У Ивана сына Тимофеева
Был сын Илья Муромец».
В былине «Илья Муромец и Калин царь» Илья Муромец кладет здравицу крестному отцу:
«А здравствуёшь ты, крёстный ты мой батюшко,
А й Самсон сын Самойлович!»
Самсон Самойлович (Самуилович), так же не совсем славянское имя русского богатыря.
Помимо них героями русских былин были иудейские цари Саул и Соломон. Страна где правит Соломон, названа «Руськая земля Светорусьскоая», «земля Русьская», «Сьвятая Русь». Соломон говорит в отношении своей страны: «Со сьвятой у мня Руси, сь Ерусалима, славна города».
Сравнительный анализ собранных вариантов (около 30) былины о Соломоне и Василии Окуловиче показал, что она жила и передавалась в народе в течение нескольких веков, начиная, по крайней мере, с 16 столетия. При этом все исследователи отмечают превосходство народных былин о Соломане над их предполагаемыми источниками. (Архангельские былины и исторические песни, собранные А. Д. Григорьевым, Беломорские старины и духовные стихи: Собрание А. В. Маркова, Былины: В 25 т., Былины, Былины Печоры и Зимнего Берега: (Новые записи), Былины: Сборник)
«Среди наиболее распространенных произведений русской старинной письменности, близких к устному народному творчеству, особое место занимают повести о царе Соломоне, мотивы которых отразились в самых различных жанрах фольклора: в былинах, побывальщинах, духовных стихах, сказках, легендах, заговорах, загадках», пишет С. Ф. Елеонский. (Повесть о царе Соломоне в фольклорной переработке XVIII в.)
Реальные проявления «антисемитизма» в русской среде сводятся к описанному в романе поведению:
«-А это Сарочка и Иосиф – мои кузены, – указала она на следующую фотографию. – Мы из старинного русского рода. А это коллега моего покойного супруга, Валентин Александрович Попов – махровый еврей. Не люблю евреев! – фыркнула дама.
На мой взгляд, у Валентина Александровича была более славянская внешность, нежели у Иосифа и Сары, да и имя… Хотя, не мне судить». (С. Конанцева. Пальцы покойника)
Требования на ограничения в отношении вообще всех евреев выдвигали не природные россияне, а переселенцы с Украины. Дело в их финансовых интересах и тлетворном влиянии польско-малороссийских униатов, потомственных антисемитов, врагов русской веры и народных традиций. «Ректор киевского духовного коллегиума Иоанникий Галятовский, посвятив свою книгу «Мессия праведный» царю, призывал уничтожить евреев, он писал: «Мы, христиане, должны ниспровергать и сожигать еврейские божницы, отнимать синагоги и обращать их в церкви, изгонять из городов, убивать мечом, топить в реках».
Репрессии в отношении того же Шафирова, были связаны с наличием у него капиталов.
«Петр Шафиров был родом еврей. Мы, собственно, не знаем его родины; но, вероятно, он был из Голландии, где его встретил Петр и привез в Россию». (Готтгейнер Ф.)
«Дочь вице-канцлера Шафирова, крещенного еврея, отказалась от чарки водки; он закричал ей: „скверное еврейское отродье, я научу тебя слушаться!“ И подтвердил свое восклицание двумя увесистыми пощечинами». (К. Валишевский. Петр Великий)
«Барон Шафиров, по общему мнению, был самым способным государственным министром из тех, что были у Петра I; человеком, лучше всех в России знавшим и внешние, и внутренние дела. Монарх ценил его не меньше, чем любил князя Меншикова. Шафиров, однако, был одним из тех, кто долго и совершенно открыто добивался падения фаворита, но из-за этого сам потерпел крах. В 1723 году, когда его величество был на Каспийском море, между Шафировым и Меншиковым на глазах у многих произошло такое ожесточенное столкновение, что монарх по своем возвращении не мог оставить это без внимания, как поступал прежде при их разногласиях. Барон в лицо обвинил князя Меншикова перед монархом в самых вопиющих и общеизвестных вымогательствах к собственной выгоде. Представленные бароном доказательства этих вымогательств и жалобы потерпевших лиц оказались столь очевидными, что монарх собственноручно дал князю кнута. Но, учтя необычайные таланты последнего по части извлечения из богатых подданных денег, потребных для осуществления грандиозных планов и проектов, царь не лишил его своего расположения. Князь столь жалобно уверял его величество, что, мол, не только в любое время предоставит в распоряжение и к услугам его величества все полученное от них (подданных), но и отдаст вообще все, ибо знает, что решительно всем обязан его величеству, что монарх обнял его, поцеловал и почти просил прощения. Князь, намереваясь отомстить и взять верх над бароном, который был очень богат, в особенности наличными деньгами (тогда это было его главным преступлением), в свою очередь обвинил последнего в казнокрадстве. Петр I поверил этому или сделал вид, что поверил. Он приговорил барона к лишению не только всего состояния, но и головы. В соответствии с указанием, Шафирова привели на эшафот, и палач уже готов был отрубить ему голову, но его величество милостиво заменил казнь ссылкой ввиду великих услуг, оказанных ему бароном на берегах реки Прут (Барон Шафиров поднялся, благодаря своим достоинствам, из низкого звания простого писца в одном из московских судов до поста канцлера. Исключительно его стараниям, а не мнимым подаркам царицы, царь обязан своей свободой на Пруте. Как я уже говорил в другом месте и повторяю это, я получил очень точные сведения обо всех сделанных визирю после заключения мира подарках не только от паши, с которым я тогда находился, но и от других турок, даже врагов этого визиря. Все, что сделала царица, которую уже называли так, хотя она еще не была обвенчана с царем, – это ходила к нему в шатер, где он не желал видеться ни с кем помимо нее, представляя ему на одобрение планы и суждения о средствах для ведения переговоров и убеждая предоставить Шафирову все полномочия.) и в Оттоманской Порте. Поскольку его величество не знал никого, кто бы больше графа Толстого подходил на пост канцлера, он отдал ему этот пост, хотя граф и был не более другом князю Меншикову.
Императрица Екатерина по причинам, о которых толкуют разное, вернула Шафирова из ссылки вскоре после своего восшествия на трон. Говорили даже, будто император, предвидевший, что ей как чужеземке скорее понадобится, чтобы ее любили, нежели боялись, и что для поддержки ей понадобятся друзья и способные министры, за несколько дней до своей кончины советовал ей вернуть на службу барона. Князь Меншиков, потерявший покровителя, защищавшего его от врагов, своего и их дорогого повелителя (хотя он имел не менее причин рассчитывать на благосклонность императрицы, любимцем которой некогда был), не воспротивился этому. Добавляли даже, что он попытался представить это собственной заслугой перед изгнанником, но тот, не простив ему потерю всего, что имел, ответил на это презрением и даже сказал ему по поводу случившегося несколько крепких слов.
Императрица нашла нужным удалить Шафирова (ни в малой мере не выказывая ему своего недовольства) и назначила губернатором в Архангельск. Петр II намеревался восстановить барона на прежнем посту канцлера, но смерть унесла этого юного монарха». (Обри де ла Мотрэ)