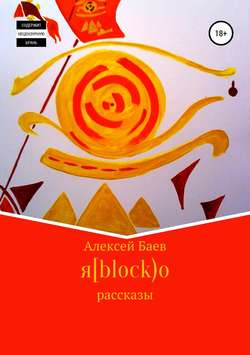Читать книгу я[block)o - Алексей Владимирович Баев - Страница 1
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Затмение
ОглавлениеНоябрь вовсе не располагает к хорошему настроению.
Солнце не показывалось уже неделю, когда случилось его полное затмение. Впрочем, этот факт остался горожанами незамеченным. Ничего удивительного. Желания зевак, извините за каламбур, тучи не колышут.
Аскаров, который о предстоящем затмении вообще ничего не слышал по причине обитания в полном информационном вакууме, проснулся с больной головой. Кофе кончился. Цитрамон тоже. Да и чуток дрянного мутного коньяка, оставленного на утро в открытой бутылке, и, естественно, выдохшегося, не вызвал в душе никакого подъёма. Лишь рвотный позыв.
Хорошо, что с вечера ушёл в сон, не раздеваясь. Даже шкеры не снял. Предусмотрительно.
Аскаров принял сидячее положение и тут же провалился в глубокую диванную яму, продавленную прошлогодним приступом ноябрьской же депрессии. Чёрт! Нынче было еще хуже.
Холст, аккуратно растянутый на квадратном – тридцать на тридцать – подрамнике, тщательно прогрунтованный и готовый стать очередным кадавром, стоял в углу на грубой самодельной треноге, отдаленно напоминающей пропитый мольберт.
Деградант…
Да и хрен на вас. Считайте кем угодно.
Аскаров глянул на часы. Без десяти семь. До открытия магазина больше часа…
Авиационный гул старенького холодильника, впустую транжирящего электричество, успокаивал. Жёлтый, словно лихорадка, эмалированный чайник, побитый временем и ударами судьбы до черных бланшей, закипел на электроплитке минут через десять. Пара пакетиков самой дешёвой «принцессы», закинутых в треснутую чашку, дали цвет и крепость практически сразу.
До открытия сорок пять минут. Академический час. А-ка-де-ми-чес-кий… Тьфу, сука.
Голова по-прежнему трещала, но, удивительное дело – тремор прекратился. Смахнув ладонью хлебные крошки с фанерной разделочной доски, Аскаров выдавил на нее из всех тюбиков остатки темперы. Размял о подоконник замоченные с позавчерашнего дня кисти и, выбрав взглядом странным образом сохранившуюся до утра натуру будущего натюрморта, стеснительно возлежащую перед тусклым, обсиженным мухами зеркалом, кинул первый, размашистый мазок…
В восемь ноль две, если верить старенькой наручной «Ракете» в облупленном, когда-то позолоченном корпусе, дверь магазинчика широко открылась изнутри, очертив неестественным и чересчур ярким энергосберегающим светом знакомую полную фигуру.
– Доброе утро, Зина, – поздоровался Аскаров с продавщицей.
«Какое оно, к чёрту, доброе… Кто придумал утро, тому лом в глотку… Господи, помоги, а?»
– Привет, Женечка! – весело звякнула женщина своим неподражаемым и совершенно не меняющимся с годами дискантом. – Ты, гляжу, привычек не меняешь.
– Куда мне, Зин? – потупился Аскаров.
«Куда мне, Зин? Какие привычки? Молчала б ты. Просто дай малька, и отвали».
– Да хоть бы в супермаркет на Дзержинского, там на десятку дешевле, – ответила продавщица совершенно искренне и до того буквально, что Аскарову захотелось голову вжать в плечи.
Кого здесь стыдиться? Зину? Я вас умоляю!
«Чёртовы супермаркеты! На кассах бездушные твари сканерами пикают… Извините, мелочи нет. Пятьдесят копеек за мной… За тобой, зараза, за тобой… Хрен ты отдашь мой полтинничек. Глаза круглыми сделаешь и спросишь искренне: «Какие пятьдесят копеек?»… Нет, Зин, супермаркеты не для нас. Для долбаного среднего класса. А мы? Мы – не средний, не класс. Люди. Просто люди…»
– Мне в супермаркете кредита не дадут, – уже натурально сходя с ума и уставившись на крохотную выбоину в бетонном полу, произнес Аскаров.
Очень тихо произнес. Даже не вполголоса, много тише. Но продавщица услышала.
– Опять денег нет? – в голосе её почувствовалось искреннее сострадание. – Точно… Зима ж на носу.
– Зима, – кивнул Аскаров и перевел взгляд на стеллаж с бутылками.
«Да, зима… С её приходом денег никогда нет. Новый год, мля. Борода из ваты. Бухие снегурки в подъездах блюют, дедморозы обоссанные спят в сугробах… Праздник, твою мать. Весёлый семейный праздник».
– Так плохо?
«Так? Да ты, мать, даже не представляешь, как плохо».
– Угу.
– Маленькой хватит? – Зина уже тянулась под прилавок. – Слышь, Жень! Давай я тебе хоть батон дам, кефиру, колбасы ливерной? Всё равно списывать, срок годности кончился. Возьмёшь?
«Хватит с меня и топлива, дорогая моя… Маленькой хватит. А и не хватит, так скоро в переходе туристы появятся. Десяток штрихов на куске ватмана, и сделаем на большую… Зина, Зина, чувств моих корзина».
– Не, Зин, больше ничего не надо, – Аскаров взял с прилавка чекушку и тут же отвернул пробку. – Ты запиши в тетрадочку, ладно? Я отдам через недельку. У меня тут заказец хороший наклёвывается, аванс получу…
«Отдам, отдам, точно отдам! На этот раз отдам! А нет – разве беда? Ты ж меня всё равно простишь… Знаю я тебя… Зиночка моя дорогая… Зинулечка…»
Не наклёвывался у Аскарова никакой заказ – ни плохой, ни, тем более, «хороший». Зина это прекрасно знала. Как знала и то, что пиши в тетрадочку Женины кредиты, не пиши, всё равно не оплатит он их. Никогда. Однако всем своим истинным бабьим нутром чувствовала, что человек Аскаров, в общем-то, неплохой, а потому не отказывала. Впрочем, Аскаров часто и не просил. Так, два-три раза в год. В конце ноября. В остальные ж месяцы деньги у него водились, пусть и в крайне ограниченных количествах…
Аскаров прикончил чекушку и, спрятав опустевший бутылёк в карман, улыбнулся продавщице.
– Спасибо, Зин, выручила. Я из депрессухи выползу, твой портрет напишу. Маслом. Хочешь?
– Сливочным? Бог с тобой, Женька, – смутившись, покраснела продавщица. – Мож, продукты-то всё ж заберёшь?
«Ой, Зин, какие, к чёрту, продукты? Спасибо тебе и так. И тебе, Господи, спасибо. За Зину. И за милость её. Искренне, Господи. От души».
– Не, Зин, не возьму, – застенчиво отмахнулся повеселевший Аскаров и шатко развернулся к выходу.
Остановившись у порога, обернулся и ещё раз, пристально, словно пытаясь запомнить все черточки и родинки её лица для будущего портрета маслом, глянул на Зинаиду. Будто сфотографировал. На память. Потом, бросив лёгкое, словно салфетка, «пока!», широко распахнул дверь и шагнул на улицу. В ту же секунду снаружи раздался сумасшедший скрип тормозов, глухой удар, и калёного стекла витрина магазинчика под напором нахальной автоморды разлетелась на десятки тысяч блестящих осколков, осыпающихся на влетевшее обратно тело Жени Аскарова…
Евгений Александрович должность главного инженера кирпичного завода получил к тридцати годам.
Какой-нибудь скептик скажет: «Эка невидаль! Гайдар в шестнадцать полком командовал, Абрамович в тридцатник уж миллиардером стал, а тут – инженеришка на кирзаводе, пусть и главный».
Так-то оно конечно, так. И завод тот ещё, прямо скажем – не монстр индустрии, да и должность не директорская. С другой стороны, кирпичи – такой товар, который спросом пользуется неизменным. В середине ж девяностых, когда встали практически все промышленные гиганты, деньги людям задерживались годами, наш кирпичный заводик работал себе, пыхтел пыльными горячими трубами и продукцию выпускал, не снижая темпов. Две сотни работяг трудились в поте лица, получая вполне приличные зарплаты. На кирпичников молились родственники и друзья, живущие благодаря своим добытчикам. Сами ж работяги благословляли старика-директора, взявшего на работу «выдумщика Женечку».
Аскаров, попав на кирпичный по вузовскому распределению в самом конце Перестройки, некоторое время работал в конструкторском бюро, кропотливо и не без интереса «изобретая» продукты «побочного» заводского промысла – в основном керамическую посуду. Так, для расширения ассортимента. Получая за внедрение небольшие доплаты, в свободное время, будучи по зафиксированной в дипломе специальности архитектором, вычерчивал на ватмане проекты «зданий и сооружений». Всё больше – домов и коттеджей индивидуального характера, которые тогда ещё не были столь обыкновенными, как в нынешние времена.
С приходом же рыночной экономики, когда спрос на керамическую посуду отечественного производства резко упал – большинству людей просто нечего из неё стало есть, а на кирпич снизился – массовое строительство резко сократилось, Аскаров со своими прожектами отправился к директору. Года три назад шеф выгнал бы наглеца взашей, сейчас же заинтересовался. Ага! От государства и трестов заказов нет – мы повернёмся лицом к частнику. Это ж одни обнищали, другие – совсем наоборот. Последних, этих «других», пусть не много, но и у нас мощности не резиновые.
В общем, нашлись заказчики. В достаточном количестве. С наличными в твёрдой валюте. Пришлось при заводе даже строительную фирму организовать, чтоб грядущую прибыль в чужие руки не отдавать.
Аскарову ж лет через десять такое существование наскучило. Да, безбедное и вполне материально-безоблачное. Да, с перспективами на повышение – старик со дня на день собирался на пенсию. Да, уважаемое – даже в горадминистрации при Женином появлении все былые и потенциальные заказчики ему улыбались и здоровались за руку, растаскивая парня по кабинетам «на рюмочку кофию». Чего б ещё желать? Семьи? Есть уже. Жена прелестная, дочка Маша – колокольчик весенний. Народного избранничества? Можно было и этот вопрос при желании порешать…
Но Женя ничего этого уже не жаждал. Он хотел одного. Рисовать. Писать картины. Маслом, пастелью, акрилом, темперой, акварелью – не важно. Главное – творчество.
Кто-то из знакомых, должно быть сам воплощенный Дьявол, случайно увидев у Аскаровых дома Женины любительские рисунки, однажды сказал:
– Да ты, парень, талантище! Тебе выставляться надо.
И понеслось…
Сначала с завода уволился. Потом, устав от скандалов, развёлся, оставив недовольной мужниными карьерными переменами жене с тогда ещё малолетней дочерью загородный коттедж, дорогой автомобиль и все свои сбережения за исключением ничтожной суммы на покупку комнаты в коммуналке. Много ль истинному художнику надо?
Нет, первые годы – пять или шесть, словно кто-то затаскивал его глубже и глубже, – складывалось всё не так уж и плохо. Были и персональные выставки, вернисажи, и критические отзывы – чаще хвалебные. Картины с рисунками продавались вполне бойко, уходили порой в столицу и даже за бугор. Друзей поприбавилось. Правда, каких-то непонятных, странных и тёмных.
Женя, человек от природы не жадный и добрый, кормил и поил всех приживал за свой счёт. Хотел вместо комнаты в коммуналке и студию в новой высотке прикупить. Что – студию?! Как Гоген, на Таити рвануть! Развернуться на Тихоокеанщине!.. Но как-то не заладилось, да и накопления таяли, как весенний снег… А новых работ не появлялось. За гулянками и попойками ушла Божья искра, не стало вдохновения. И руки всё чаще дрожали.
Ладно, когда несколько недель в забытье-мареве. Ну, месяц-другой. Даже год можно вытерпеть без творчества и его сомнительно-сладких плодов… Аскаров очнулся через три. В ноябре. В полном одиночестве. Высосанный и опустошенный. Без копейки денег, без идей, без всяких мыслимых перспектив.
Поначалу ему по старой памяти ещё давали заказы на оформление всяких кафе и небедных жилищ, но и на этом фронте Аскаров долго не продержался. Ушёл в депрессию, а с нею и в первый сольный запой. Занимал у соседей по коммуналке какие-то деньги, рисовал, торговал немудрящими пейзажиками и натюрмортами на блошинке, задёшево, на материалы и пузырь… Жена бывшая, увидавшая его однажды на рынке, с трудом узнала в опустившемся пропойце близкого когда-то человека. Посмотрела искоса, презрительно. И произнесла одно лишь слово-приговор:
– Деградант.
А вечером позвонила и запретила видеться с дочерью, тогда уже старшеклассницей…
На Женины похороны пришли лишь соседи по коммуналке, Зина, продавщица из продуктового, да дочь Маша, студентка-первокурсница. Марина, бывшая жена, на кладбище поехать не смогла, слегла в больничку с инфарктом. А когда выписалась через пару недель, дочь не пустила её за город, домой, а, чтоб быть постоянно рядом, привезла к себе на съёмную квартиру.
Марина сидела на диване и смотрела телевизор, какую-то передачу про солнечные циклы, когда Маша вошла в комнату, неся чай с печеньем.
– Слышь, дочь, – вполголоса произнесла Марина, не отрывая взгляда от экрана.
– Да, мам? – Маша поставила поднос на журнальный столик и сняла с него чашки с блюдечками.
– Оказывается в день, когда отец погиб, было полное солнечное затмение, – спокойно сказала Марина.
– Я в курсе, – кивнула Маша и села в кресло. – Самое опасное время. Вот и отец…
Девушка взяла салфетку и промокнула выкатившуюся из глаза слезинку.
– Вот и отец… – эхом отозвалась Марина. Потом, через паузу зачем-то добавила: – А мне тогда, накануне яблоки снились… Думала, к добру.
Марина повернулась к дочери, но взгляд её устремился куда-то мимо, через Машино плечо, туда, где в стену вжался обшарпанный комодик с резными ящичками, сделанный Женей своими руками ещё в бытность работы на кирзаводе.
– Ма-аш, а дай мне вон то яблоко, – тихо произнесла она.
– Какое, мам? – Маша посмотрела на Марину и, проследив за её взглядом, обернулась.
На комоде перед небольшим тусклым зеркалом квадратной формы, отражая в нём жёлтую, в розовых штрихах покатую спину, лежал изумительный, совсем не по-зимнему сочный плод. Живой и настоящий, словно только что сорванный…
Но не сорванный. Не живой и не настоящий…
Нарисованный неуютным ноябрьским утром остатками темперы в грязной комнате старенькой коммуналки за четверть часа до невидимого из-за туч затмения.
Нарисованный, чтобы скоротать время до открытия магазина за четверть часа до собственной гибели опустившимся и насмерть уставшим от жизни человеком, в которого больше никто не верил.
Нарисованный деградантом.
Художником…
Да… Ноябрь не располагает к хорошему настроению.