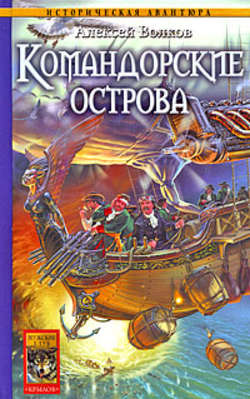Читать книгу Командорские острова - Алексей Волков - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Часть первая
Возвращение утраченного
7. Командор. Последние приготовления
Оглавление…Я здорово волновался в предчувствии своего первого боя. Именно волновался, а не боялся. Хотя страх тоже присутствовал в той мешанине чувств. Но не страх быть убитым или раненым. По молодости я не верил в возможную смерть. Страх повести себя недостойно, не справиться, растеряться. Я был молод тогда, неопытен, ведь не считать же опытом учебу и учения. Пусть тяжело в учении, но и в первом бою нелегко. Просто потому, что еще сам не познал на собственной шкуре, что это такое – бой. Своего рода жестокий экзамен на знание выбранной профессии. А кто же не волновался перед первым экзаменом?
Никогда не вспоминал тех ощущений, а теперь вдруг вспомнилось. Наверно, ситуация в чем-то похожа.
Тогда тоже было долгое ожидание. Без малого две недели я находился в войсках и в то же время ни разу не побывал на боевых. Лишь видел возвращение других подразделений. Чаще – удачное, но было и с двухсотым грузом.
Нет, один раз, не то на пятый, не то на шестой день, подняли по тревоге, и рота на броне устремилась к месту диверсии.
Я трясся вместе со всеми, переживая про себя грядущее столкновение, прикидывая различные варианты, но действительность оказалась намного прозаичнее.
Никакой диверсии не было. Может, в штабе напутали, а может, сам штаб ввели в заблуждение. Нам не объясняли. Да и не такая структура армия, чтобы ждать объяснений. В общем, переживал, а выяснилось – зря.
Боевое крещение состоялось для меня чуть позднее. Мы вышли на операцию, и я опять волновался. Недолго. Пешая ходьба по горам не располагает к душевным терзаниям. Помимо собственного груза мы несли ленты к АГСу и пулемету, мины для минометчиков, «мухи»… При такой нагрузке посторонние чувства куда-то уходят на втором километре. У особо крепких – на третьем.
Идешь да идешь. Работа такая.
А потом началась стрельба. В горах порою сразу не сообразишь, откуда она ведется. Я инстинктивно пополз прочь, стремясь укрыться, и уж потом…
Испугался ли я? Не знаю. Вроде бы нет. Вот что растерялся малость – это было. Молодой же был, неопытный…
Самое смешное, что полз я к противнику. А ребята решили, что отчаянно храбрый. На войне бывает и так.
К чему я это вспомнил? Наверно, к тому, что вновь оказался в той же ситуации. Уже не очень молодой, прошедший все огни и воды, но впервые выступающий если не в роли главнокомандующего, то где-то на уровне начальника штаба.
Мне доводилось командовать флотилиями, вот только на суше все операции, по существу, являлись партизанскими набегами. А так, армия против армии, не доводилось.
По нынешним временам силы с обеих сторон были немалыми. Это позднее появятся линии фронта, всевозможные оборонительные и наступательные операции. Сейчас судьба войны зачастую решается в одном большом сражении. Вернее, предопределяется.
Формально армией командовал Головин. На самом деле – Петр. Первый отнюдь не был злосчастным герцогом де Круа. Сдаваться в плен или предавать боярин не станет. Но, выдающийся государственный деятель, дипломат, один из старших сподвижников Петра, военным в исконном значении слова не был. Исполнитель – да, а вот вершитель – увы.
Русский самодержец, несомненно, обладал всеми талантами стратега. Петр видел войну целиком. Постоянно помнил ее задачи, подчинял им прочие дела. Помнил о снабжении, о возможных передвижениях противника, о подготовке резервов и о многом другом, без чего не выиграть войну. И лишь как тактик он уступал шведскому монарху. В моей истории – так точно. Противника нельзя недооценивать. Карла не зря станет восхвалять вся Европа. Если мы не сумеем сразу дать ему от ворот поворот.
Выходило, что полностью надеяться мне не на кого. Так, чтобы самому решать лишь полученные задачи, а общее руководство чтобы принадлежало другому.
Номинально – да, принадлежит. На деле я чувствовал себя ответственным за все, что произойдет при столкновении армий. Молодые курсанты мечтают стать генералами. Они еще не ведают, какая это тяжелая ноша. В твоих руках – судьбы тысяч людей. Пожалуй, даже больше, чем соберется их на поле сражения. Ведь от исхода зависит жизнь тех, кто пойдет в армию в случае неудачи. Возможно – мирных жителей. И уж наверняка – родных и близких всех, кому суждено пасть.
Вот я и волновался. В те минуты, когда оставалось свободное время. Главным образом – по ночам.
Узнав, что помимо шведской эскадры на нас идут англичане, Петр в первый момент откровенно растерялся и едва не впал в панику. Островная нация для него была образцом для подражания. Хорошо хоть, не во внутренней политике, а лишь в технике. И главным образом до нашего появления. Но отношение к ним как к первым учителям самодержец сохранил. И некоторый страх перед ними – тоже.
Все ему казалось, будто британцы – некие могучие и непобедимые существа. Но моя-то компания их бивала не раз…
Пришлось напомнить царю о нашем прошлом. И о том, что в политике друзей не бывает.
Но официально никакой войны Англия нам пока не объявляла. И это давало некоторый простор для маневра. Петр это тоже осознал и несколько успокоился.
Я уже заметил за ним такую склонность – при возникновении чрезвычайных обстоятельств легко впадать в панику, напрочь теряя способность здраво мыслить. Но если его вовремя поддержать, подсказать выход, то через некоторое время перед всеми вновь выступал неограниченный властелин довольно большого участка суши. Да и воли Петру было не занимать. Главное – переждать первые мгновения.
Наследство детских лет, блин!
Гораздо больше меня беспокоила Мэри. Как она отнесется к тому, что противником оказалась ее родина? Британский патриотизм – не пустые слова. В чем отдаю моим былым противникам должное – почти все они чувствуют ответственность перед своим государством. Мэри доставила нам столько хлопот…
Оказаться с ней еще раз в разных лагерях я не хотел. Принять ее сторону – не мог. Не люблю я Англию. Раз уж именно эта страна на протяжении всей истории вредила моей Родине.
Но – обошлось. По крайней мере пока. Мэри даже выразила удивление свершившемуся и предложила выступить в качестве посредницы. Но это уже явно было излишним.
Зато в борьбе со шведами предложил свою помощь Август. В обмен на захваченные нами земли. Словно вся моя отчаянная авантюра предпринималась во имя того, чтобы одному красавцу королю усидеть на колеблющемся троне, а полякам – хапануть территории в добавление к уже имеющимся. Пусть на последних царит форменный бардак, но почему бы не распространить его на большую часть Европы, а в перспективе – на весь мир? Гонору у панства было хоть отбавляй. Лишь бы самим при том ничего не делать.
Сейчас Август предлагал не польские войска. Их попросту не было. Только шляхетское ополчение, которое можно будет собирать лишь с разрешения сейма в зависимости от исхода сражения.
Нет, польский король был еще курфюрстом саксонским и предлагал нам в помощь саксонскую армию. Полностью европейскую армию, организованную, вроде бы даже боеспособную.
Называется, хотел удружить. Никаких громких побед за саксонцами я не припомню. Если бы и припоминал, подойти они не успеют. Если бы и успели, шиш им с маслом, а не Рига. Вывод?
Петр был такого же мнения. После успеха воздушных налетов самодержец был настроен весьма оптимистично. Я даже несколько заколебался. Характер позднего Петра закалился в долгой и упорной борьбе, где победы чередовались с поражениями. А что случится, если успехи будут сыпаться непрерывно? Не вообразит ли он себя баловнем Фортуны, чтобы при первой же неудаче впасть в отчаяние?
Вряд ли. «Невзятие» Азова во время первого похода тому пример. Основа характера сформирована давно. Да и за всеми своими забавами Петр не забывает об Отечестве, ему врученном.
Некоторое время я думал: не применить ли охотничью команду по прямому назначению? Устранение высшего командования противника в мои годы превратилось в одну из целей войсковых операций всех стран. Но это – в мои. Сейчас все кому не лень обвинят нас в сознательном убийстве. Может, не слишком большая беда. Поговорят и перестанут. Да и смерть всегда можно списать за счет непредвиденных случайностей. Вот пуля пролетела – и ага. Она же дура. Не разбирает, король перед ней или солдат-простолюдин. Свинцу наши иерархии до лампочки.
Остановило меня совсем другое. Если уж не только после Полтавской виктории, но и после смерти Карла шведы продолжали сопротивляться в том времени, почему они должны сдаться в этом? Свято место пусто не бывает. Найдут другого претендента на трон. Зато смогут говорить в случае любого жестокого поражения, что виновата в том лишь гибель короля и по совместительству – военачальника. Иначе бы наломали из нас дров.
Нет. На первый раз нам нужна лишь чистая победа. Чтоб никаких сомнений. А что до технического превосходства, так, милые, кто вам мешал развивать промышленность и воинскую науку, вместо того чтобы по старинке переть напролом?
Великими полководцы становятся не только в силу таланта и удачи, но и благодаря введенным ими приемам. Дальнобойные штуцера, многозарядное оружие, ракеты, усовершенствованная артиллерия – это ведь тоже прием. Ничем не коварнее, чем аркебузы конкистадоров и их лошади против индейцев, не ведавших ни пороха, ни скакунов.
Собственно, обеспечение превосходства в вооружении и силах – одна из аксиом военной науки.
Да и так ли велико нынешнее превосходство?
Сверх того, не хотелось вводить террор в ранг государственной практики. Убрать Карла нетрудно, а если подобное возьмут на вооружение остальные государства? Пока убийства нежелательных монархов – редкие исключения. Но содействовать череде бесконечных покушений на правителей самых разных стран…
Нет уж. Хватит девятнадцатого века с его непрерывным террором. И тем более – двадцатого и двадцать первого. Пусть война остается войной. В ней и так хватает уголовщины, возведенной в правила. Не считая той, которая включена в разряд «преступлений воинских».
В эти последние дни я занимался и другими вопросами. В свое время не успел убедить Петра, приходилось наверстывать это сейчас.
Армия – организация иррациональная, некоммерческая. Тут главное – воинский дух, понятия долга и чести. В Европе с ее вечными вывихами удалось даже службу сделать статьей дохода. Пусть получают наемники немного и часть зарплаты выдается им палками капрала, но все-таки главных стимулов два – получить денежку и избежать наказаний.
К счастью, хоть тут Петр не стал перенимать не лучшие образцы. Армия в своей основе сразу стала национальной. Плоть от плоти народа. Пусть пока лишенная вековых традиций, но они появятся сами.
Однако армия – не только солдаты. Главное – создать офицерский корпус, сделать военную службу не просто обязательной для дворян, а в первую очередь престижной. Для укрепления же воинского честолюбия учредить награду.
Один орден Петр уже учредил. Святого Андрея Первозванного, чьим кавалером я неожиданно стал. Однако орден по своей сути предназначался для высших чинов армии и гражданской службы. Подвиги же совершаются всеми, независимо от занимаемой должности.
Военный орден учредит Екатерина. Правда, не будет ее в этой реальности. Но разве может быть русская армия без Святого Георгия? Орден, вручаемый за небывалый подвиг любому офицеру, дабы видел каждый: перед ними – подлинный герой. Лучший из лучших.
Мы долго вспоминали с Сорокиным все, что знали об ордене, и в итоге перед самым появлением эскадры составили проект. Ничего принципиально нового в нем не было. Четыре степени. Четвертая – для награждения офицеров. Третья – генералов. Вторая – за исключительные заслуги. И еще выше первая. Плюс – Знак отличия военного ордена для солдат.
Кавалерам даже в отставке разрешить носить мундир. Обязательно – полную пенсию. Еще кое-какие льготы. А главное – честь. Это для партийных советских работников награды были чем-то вроде подарков к юбилею. Для военных орден – прежде всего символ доблести. Совсем другой коленкор.
Женя Кротких, в добавление к своим музыкальным талантам весьма недурно рисовавший, изобразил внешний вид орденов и черно-оранжевые ленты. Мы с Костей написали статут.
Я побаивался, что Петр отмахнется от нашего прожекта как несвоевременного. А то и просто не заинтересуется им.
Вопреки опасениям, все прошло на удивление гладко. Петр уточнил некоторые пункты, подумал и размашисто написал: «Быть по сему. Петр». Сидящий тут же Меншиков сглотнул слюну и посмотрел на свой камзол. Он, видно, уже прикидывал, что надо сделать, дабы в самом ближайшем будущем стать кавалером ордена.
Да что осуждать! Признаюсь, я довольно спокойно воспринял мое награждение Андреем, зато вдруг очень захотел иметь заветный эмалевый крестик. Но разве подобное желание плохо? Даже если служить не за звания и не за ордена?
Вечером я имел серьезный разговор с Мэри. Она нам очень помогла в захвате Риги, однако одно дело – неожиданное нападение, а другое – полевое сражение. Ядра и пули рвут женские тела так же жестоко и тупо, как мужские. Я боялся, что моя леди и тут решит следовать за мной.
К счастью, напрасно. Еще в полной мере сохранялось разделение между мужскими обязанностями и женскими. А что может быть более мужским делом, чем война?
Мэри была изначально воспитана не лезть в дела мужчин. Хотя порою и лезла, но тут воспитание все же сказалось и женщина неожиданно легко согласилась остаться в Риге. Даже не попросила беречь себя. Это тоже эпоха. Мужчина не должен бояться. Если уж суждено умереть, то умирать надо без страха, не оглядываясь на семью и незавершенные дела.
Умирать я не собирался. Как и праздновать труса. Но чем черт не шутит! От судьбы не уйдешь.
Еще один камень с плеч долой! Я был очень благодарен Мэри за понимание. Только не знал, чем ее отблагодарить за все, для меня сделанное. Я ведь даже не мог уделять ей много времени, по горло и выше заваленный самыми различными делами.
К полудню следующего дня нас ждала хорошая новость. Высокий пышноусый офицер объявил, что явился в наше распоряжение с двумя слободскими казачьими полками. Изюмским и Ахтырским. Пусть это еще не были привычные названия гусар, но ведь грядущая слава на чем-то основывалась!
Я не очень доверял имеющейся у нас кавалерии. Помещичья конница была типичным ополчением с низким уровнем дисциплины, разнообразно вооруженная, малопригодная к регулярному бою. Новые драгунские полки, по-моему, были еще сыроваты. Конная служба требует немалой подготовки, да в придачу ко всему – соответствующих начальников, умеющих мгновенно реагировать на быстро меняющуюся обстановку боя. Подготовка пока хромала. Во всяком случае, я не заметил безупречных рядов на маневрах и отличного владения оружием. С начальниками вообще была беда. Иностранцы попадались неумелые. Свои тоже мало на что годились. Все придет с опытом, только потом может быть поздно.
Будь моя воля, я бы начал войну года на два-три позже, более тщательно подготовившись к каждой мелочи. Тогда можно было бы открыть сражение собственной атакой. Пока же армия для сложных маневров приспособлена мало. Одни полки великолепны, другие – неплохи, а третьи могут сражаться лишь на отведенных им рубежах.
Да… Получить пару лет отсрочки было бы очень кстати. Но ситуация не оставила нам выбора. Конфликт назрел сам собой, вне зависимости от желаний. Я лишь смог перенести его на несколько месяцев раньше, чтобы не воевать поздней осенью. Ладно. Устроим шведам досрочную Полтаву под Ригой.
Шведская эскадра болталась уже неподалеку от Динамюнде. В дела Сорокина я не вмешивался. Самое плохое на войне – это обилие начальства. Костя справится сам.
А я?
Вечером Петр вызвал Шереметева и приказал идти с кавалерией навстречу шведам. Задержать, насколько возможно, а если получится, то и потрепать. Поход намечался на утро, и два слободских полка имели минимум времени на отдых.
Шереметев на роль кавалерийского начальника вообще не подходил. Основательный, но без огонька и готовности к риску, он неплохо бы командовал пехотой в обороне.
И все равно больше назначить было некого. Но я уговорил Петра дать в помощь боярину Алексашку. Меншиков – человек способный, к тому же горящий желанием быть лучше всех. Готовый в любой момент поставить на карту все. Еще бы опыта побольше, тогда всю конницу можно было бы отдать ему.
И еще с ними шел Лукич. Казак, пусть выбранный походным атаманом, командовать остальными частями войска не мог, к тому же – не рвался, зато умел действовать со своими полками. Этот не будет рассуждать о невозможном. Как и не будет атаковать сломя голову. Зато ночью Карл получит несколько приятных часов.
Ничего. В его возрасте много спать вредно. Пусть получит легкое предупреждение о поджидающей его судьбе.
Но все равно волнуюсь. Пусть у нас солидный перевес в силах, минимум полуторный, а если учесть скорострельность и убойную силу нашего огня – то как бы не десятикратный.
Здорово обнадежил Петрович. Он поднапряг память и сумел изготовить так называемую мазь Вишневского. В принципе в первоначальном рецепте – мед в сочетании с чем-то там еще. В былой реальности на полях Второй мировой эта мазь спасла десятки тысяч жизней, залечивая разнообразные раны. Теперь бывший корабельный эскулап со всеми выпускниками своей школы, ставшими военными фельдшерами, находился при армии в готовности лечить тех, кому не слишком повезет. Убитых не воскресить, однако раненых спасти будет можно. Хотя бы часть.
– Может, использовать мины? – в десятый раз предлагал Сорокин во время последней встречи перед боями.
Мы давно наготовили морские мины для защиты устья Даугавы, однако использовать сухопутные образцы я отказался наотрез. Косте хорошо. Он не воевал в горах, а у меня неожиданно встала перед глазами, казалось бы, давно забытая картина.
…Операция была большой. По меркам той войны. Все ведь на свете относительно. Шесть батальонов из четырех разных полков, которые командование сумело собрать, было невиданной силой в сравнении с нашими раскиданными на огромных пространствах гарнизонами.
Но и территория проведения была немалой. Настолько, что большинству участников увидеться было не суждено. Кого-то десантировали на горные площадки вертолеты, но большинство, подобно нам, выдвигались на исходные позиции на броне.
Наш батальон вместе с приданной танковой ротой пылил к близким горам. Мирных земель в здешних краях не было нигде. Сколько раз случалось возвращаться после операции и нарываться по дороге на засады! Потому шли мы, как всегда, по-боевому.
Тут тоже превалировала местная специфика. Было странно видеть сидящие снаружи танковые экипажи. Одни механики-водители обреченно занимали положенные места. Но так в случае подрыва хоть у троих из четверки был внушительный шанс уцелеть.
Мины. Они были везде. На дорогах и обочинах, на горных тропах, везде, где только могли лежать наши пути.
«Бээмпэшки» были облеплены людьми. Никто не хотел находиться внутри. Пуля – она дура. Может, мимо просвистит. Тут ведь судьба. Да и сидеть – не бежать. На большинстве солдат были бронежилеты и каски. Безопасность они гарантировать не могли, но порою помогали. Бронежилет – больше, каска – меньше. Не каждая пуля бьет по прямой и в полную силу. Многие долетают на излете. Какая-то скользнет рикошетом. Кому как повезет. Некоторые вообще предпочитали просто подкладывать штатное средство защиты под зад. Вся дополнительная защита при подрыве.
Перед спешиванием все это спасительное железо почти все оставляли в машинах. Каждый нес с собой оружие, боеприпасы, пайки, воду, спальник, да еще дополнительно – ленты к автоматическому гранатомету (между прочим, четырнадцать с половиной килограммов) или к пулемету. Ну и парочку мин к миномету. Этакий человеко-верблюд. Тащить на себе еще и бронежилет было уже свыше человеческих сил. Без того спасала только молодость…
Лица, одежда, оружие – все было в вездесущей пыли. Трудно было дышать. Даже во рту, кроме пыли, не было ничего. Ни слюны, ни слов.
Тишина. Так называлось время, когда не стреляли. Рев моторов казался такой мелочью… На этот раз никто не нарушил покоя, не попытался достать кого-нибудь пулей или несущейся к броне гранатой. Пока везло.
Дорога разошлась у подножия гор. Собственно, тут они были не настолько велики. Но – не равнина.
Роты стали расходиться каждая в свою сторону.
Если верить карте, нашей надо было проскочить еще километра полтора, а дальше – спешивание и, скорее всего, бой.
Что такое полтора километра? Проедешь и не заметишь. А тут метры отсчитывают порою жизнь.
Моя машина шла второй после «бээмпэшки» ротного. Бойцы напряженно вглядывались по сторонам. Никто не знает, откуда и когда начнется.
Рвануло сзади. Я повернулся мгновенно. Настолько, что увидел несущиеся из-под левой гусеницы вверх дым и пыль и тела сброшенных бойцов в коротком полете.
Колонна резко встала. Бойцы привычно спрыгнули на землю. Наводчики скользнули в башни, и пушки стронулись с места в поисках цели.
Обычная тактика: мины – а в стороне засада со стрелками. Но выстрелов не было. Я мельком отметил сноровку солдат и рванул к подраненной машине.
Сброшенные взрывом бойцы поднимались на ноги. Кто-то рывком, кто-то осторожно, пытаясь проверить: цел или ранен? Двое удержавшихся на броне торопливо спрыгнули вниз, заозирались, все еще не веря в спасение.
– Целы?
Кто-то кашлял от набившейся в легкие пыли и дыма, кто-то потирал ушибленное колено. Я готов был ощупать ребят в попытках убедиться, что все в порядке, скользил взглядом по лицам и телам и еще не забывал непрерывно оглядываться – нет ли засады?
– Шамиль! – вспомнил кто-то.
В сдвинутом по-походному люке никого не было. Я торопливо вскочил на броню и заглянул внутрь.
Сквозь нерассеявшийся дым был виден лишь затылок шлемофона да плечи. Голова водителя свесилась, а значит…
Кто-то из бойцов оказался рядом. Я так и не успел увидеть кто. Не до того было. Руки сами подхватили мехвода под мышки, напряглись, помня, каким тяжелым бывает обмякшее тело.
Оно пошло вверх неожиданно легко, словно вопреки всему вдруг стало легче.
Без «словно». Нижней части туловища просто не оказалось. Мина легко пробила слабое днище БМП. Если бы взрыв произошел под правой гусеницей!.. Но рвануло под левой, и механику откуда-то из-под Казани оторвало ноги.
Нет ничего хуже левого подрыва.
Потом я видел людей, наступивших на «итальянки», как звали мины итальянского производства. Их мощности хватало лишь на то, чтобы оторвать ногу. Человек оставался калекой в двадцать лет.
Видел зацепивших растяжки и разорванных на части или изрешеченных осколками в зависимости от величины заряда.
Видел, как разлетелась на части наткнувшаяся на фугас боевая машина десанта, слишком легкая для рассчитанного на танк «подарка». Видел и поврежденные танки. Видел, как катил без отлетевшего колеса удачливый БТР. Им при подрыве иногда везло.
Наконец, сам был слегка контужен при правом подрыве своей БМП. Но в тот раз все остались живы.
– Шамиль!
Кто-то вытащил кусок брезента, и водителя положили на него. Из обрубка тела обильно текла кровь.
– Вот суки! – выругался кто-то.
Попадись сейчас противник – и его могли бы голыми руками разорвать на куски.
Но молчали горы.
Уже потом мне сказали, что «бээмпэшка» ехала буквально след в след за моей. Кратный взрыватель, срабатывающий лишь после определенного числа проходов.
Механик-водитель на БМП сидит слева. Потому так страшен левый подрыв…
Никаких мин на суше! Лучше уж пусть противников будет трое на одного, но только не таящаяся под землей смерть! Такие изобретения внедряются в дело слишком быстро, и как бы нам самим не наткнуться на повторение собственных сюрпризов…
Я готов устроить врагу любые пакости, но только не это.
Другое дело – на воде…