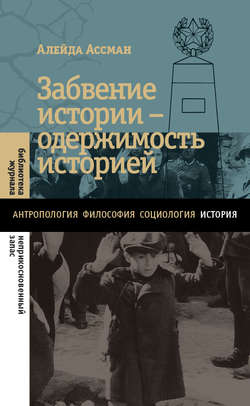Читать книгу Забвение истории – одержимость историей - Алейда Ассман - Страница 15
Формы забвения [2]
Семь примеров
(Не)видимость памятников: Музиль, Алёша и Карл Люгер
Музиль
ОглавлениеТретья форма селективного забвения наблюдается в тех случаях, когда нечто обесценивается и перестает привлекать к себе внимание. Селективное забвение действует всюду, где внимание фиксируется на чем-то одном, из-за чего все остальное неизбежно выпадает из поля зрения, игнорируется и не замечается. Такое забвение, обусловленное политической и ценностной ориентацией, повседневной рутиной и привычками, может быть в любой момент прервано изменением обстоятельств. Новое знание, переосмысление прошлого или неожиданные новые события модифицируют процесс селекции и ведут к пересмотру наших представлений. Роберта Музиля заинтересовала форма селективного забвения, поэтому он подробно разобрал ту роль, которую здесь играет внимание. Свои размышления он изложил в коротком эссе о памятниках. В нем говорится о парадоксальности памятников в городском пространстве, которые Музиль рассматривает не с точки зрения тех, кто их воздвигает, а с точки зрения обычного прохожего[56]. Он приходит к выводу, что послание, содержащееся в памятнике и обращенное к вечности, не достигает адресатов. Это относится не к тому или иному конкретному памятнику, а к любому из них, за исключением, пожалуй, башен Бисмарка[57] и ландшафтных памятников, которые служат излюбленной целью для туристов или прогулок местных жителей.
Памятники задумываются и устанавливаются для того, чтобы привлечь к ним устойчивое и долгосрочное внимание. Таков их смысл. Однако, по словам Музиля, «эту свою главную обязанность памятники никогда не выполняют». «Больше всего в памятниках бросается в глаза то, что их не замечают, – пишет Музиль. – На свете нет ничего, что было бы столь незаметно, как памятники. А ведь ставят их, несомненно, чтобы их видели, чтобы привлечь внимание к ним, но они словно пропитаны каким-то отталкивающим веществом, и оно, внимание, стекает с них, словно водяные капли с масляного покрова, не задерживаясь ни на мгновение».
Высказывание Музиля о «невидимости памятников» приобрело известность и стало крылатым выражением. Меньший интерес вызвала его аргументация, которая в нашем случае имеет особое значение. По мысли Музиля, парадоксальность памятников состоит в том, что они не только не выполняют своего предназначения (памятования), а производят ровно противоположный эффект (забвение): «Они отталкивают как раз то, что должны притягивать. Нельзя сказать, что мы не обращаем на них внимания; вернее было бы сказать, что они отвращают наше внимание, уклоняются от наших чувств: и в этом их совершенно положительное <…> свойство!» Уточняя свою мысль, Музиль выстраивает целый ряд синонимических выражений, обозначающих противоположный эффект, производимый памятниками; в том числе он использует оригинальное словосочетание – «отвращать внимание». Однако не только по этой причине эссе Музиля служит замечательным пособием по теории забвения. Оно содержит к тому же важный гештальт-психологический анализ селективного забвения, из которого выводятся весьма актуальные соображения об экономике внимания.
Памятники, по выражению Музиля, «словно пропитаны каким-то отталкивающим внимание веществом», отчего внимание «стекает с них, словно водяные капли с масляного покрова». Подобный «тефлоновый эффект», как сказали бы мы сегодня, Музиль объясняет с помощью гештальтпсихологических понятий. То, что восприятие окружающего мира относит к стабильному инвентарю, прохожие, стремящиеся как можно скорее достичь своей цели и справиться со своими делами, автоматически считают «фоном» и не обращают на него внимания. Большой город рассеивает внимание человека множеством диффузных раздражителей, поэтому людям приходится проводить внутреннюю границу между выделенным объектом и фоном, между существенным и несущественным. Глаз учится распознавать объекты в определенных рамках восприятия, отбрасывая все ненужное и уводящее от дел повседневной жизни. Какими бы громоздкими ни были памятники, селективное восприятие автоматически причисляет их к «кулисам»: «Все, что образует стены нашей жизни, так сказать, кулисы нашего сознания, перестает играть в этом сознании какую-нибудь роль». Из сознания автоматически исключается то, что длительно и недвижимо. Это идеально-типически относится к памятникам, а также к повешенной на стене картине, которая за несколько дней «всасывается этой стеной».
Сатирическое эссе Музиля содержит вполне серьезные размышления об изменении моделей человеческого восприятия в условиях большого современного города. Он пишет о «веке грохота и движения», когда памятникам приходится выдерживать конкуренцию с развитием «современного рекламного дела». Скоростной транспорт и все более броские формы рекламы стали главными приметами большого города, определяющими наши повседневные впечатления и рамки восприятия даже в интернете. В конкуренции разнообразных сигналов, считает Музиль, памятники неизбежно проигрывают, ибо в них используется устаревшая техника привлечения внимания. Монументальности бесцветного камня, большого размера и неизменности во времени оказывается теперь недостаточно для запечатления в памяти, поскольку рекламные стратегии в производстве товаров массового потребления используют более эффективные способы привлечения внимания и воздействия на восприятие: «Почему фигуры мраморной группы не вращаются одна вокруг другой, как то делают фигуры в витринах дорогих магазинов, или по крайней мере не открывают и закрывают глаза?» Благоговейное оцепенение, к которому приглашают памятники, стало полнейшим анахронизмом среди пульсирующих ритмов современного города и кричащей рекламы. Если памятники стоят неподвижно и молчаливо, слепо глядя вдаль, не в силах сделать ни шага, то жизнь вокруг бьет ключом и не обращает на них никакого внимания. В конце своего эссе Музиль приходит к выводу, что те, кто устанавливает памятники, вероятно, не глупы или бездарны, а скорее коварны: поскольку великим людям, которым ставят памятники, в жизни уже нельзя навредить, «их словно бросают с мемориальным камнем на шее в море забвения».
Музиль обличает с точки зрения модернизации архаичность памятников, поскольку они «предъявляют нам требования, которые претят нашей натуре». Скорее, им самим можно предъявить требования, диктуемые прогрессом: «ныне памятники должны несколько больше напрягаться, как это должны делать все мы. Спокойно стоять на дороге и принимать даруемые взгляды – это может всякий; сегодня мы должны от монумента требовать большего».
В своих размышлениях Музиль совершенно упускает из виду культурные, политические и социальные аспекты «работы с памятниками». Но памятник – это сложное творение, чье воздействие выходит далеко за пределы материального. Работа с памятниками не ограничивается его открытием, представляющим собой однократный исторический акт, который запечатлевается в социальной памяти надолго, а продолжается в виде ритуалов, которые периодически совершаются у памятника ежегодно или по юбилейным датам. С точки зрения культурной памяти (это понятие Музиль, будучи сторонником теории модернизации, вероятно, отверг бы) памятники являются долговременной формой сохранения, которые зачастую сочетаются с такими «повторяющимися формами сохранения», как культурные практики празднования дней рождения, юбилеев, исторических дат. Поэтому памятники нельзя считать лишь реликтами ушедшего прошлого и отчужденной от нас культуры, присутствующими в настоящем лишь в качестве пережитка и анахронизма; памятники служат ареной для все новых инсценировок. Букеты, венки, торжественные речи пробуждают памятник от забытья и приковывают к нему внимание. Подобный акт торжественного внимания хотя и краток, быстротечен и эфемерен, он отчетливо указывает на невидимые нити, которыми тот или иной памятник связан с жизнью города и с памятью его обитателей.
Размышляя в 1927 году о памятниках, Музиль не учитывал и того, что памятники не только ввергают в пучину забвения героев, которым они посвящены, но и сами в периоды изменения политической системы подвергаются разрушению, сносу и забвению. Когда общество перенастраивает себя с одной политической системы на другую или видоизменяет свои идеологические и нормативные устои, жителям города становится невыносимо терпеть восхваление тех ценностей, от которых они уже дистанцировались и которые по мере новых начинаний хочется поскорее оставить позади. В результате разгорается борьба с памятниками, примеры которой знакомы нам по событиям после крушения Советского Союза во многих постсоциалистических странах. Не только властители бывших стран Восточного блока попали в немилость граждан, но вместе с ними и исторические герои, и ассоциирующиеся с прежним режимом фигуры, памятники которым занимали почетное и видное место на улицах города. После 1989 года статуи Маркса и Ленина сбрасывались с постаментов, площади и улицы переименовывались.
Но проблема с повсеместной заменой памятников и обновлением не так проста, ибо памятники, хотя и сделаны из камня, являются объектом, требующим к себе весьма деликатного отношения; ведь их притягательная сила не признает политических границ и смену режимов, с трудом поддается контролю. Это в особой мере относится к тем случаям, когда речь идет о памяти погибших. В качестве примера можно назвать берлинский мемориал советским воинам в Трептов-парке, воздвигнутый в 1949 году в начале холодной войны. Мемориал посвящен памяти 80 тысяч красноармейцев, павших в боях за Берлин. Одновременно мемориал является солдатским кладбищем, где захоронены 7000 советских солдат. После объединения Германии правительство ФРГ взяло на себя обязательство по отношению к Российской Федерации сохранить кладбище, осуществлять постоянный уход за ним и проводить необходимые ремонтно-восстановительные работы. Начиная с 1995 года здесь ежегодно 9 мая проходят торжественные мероприятия в память об окончании войны, на которые собираются самые разные группы общественности. В 2015 году, когда отмечалось 70-летие окончания войны, мемориал в Трептов-парке собрал 10 тысяч человек. Активная фаза жизни этого мемориала не завершена; его история не осталась позади, ей еще предстоит долгое будущее, ибо мемориал продолжит играть свою роль в развитии российско-германских отношений. Но пока мемориал не служит местом регулярных встреч высших политических представителей обеих стран. 9 мая 2015 года Ангела Меркель и Владимир Путин на торжествах по случаю 70-летия окончания войны почтили вместе память жертв Второй мировой войны, возложив венки к могиле Неизвестного солдата в Москве.
56
Музиль Р. Памятники // Музиль Р. Малая проза. Избранные произведения: В 2 т. М., 1999. Т. 2.
57
Там же.