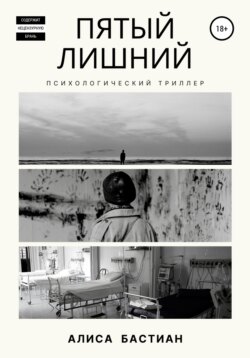Читать книгу Пятый лишний - Алиса Бастиан - Страница 4
I
3
Оглавление– Ты в порядке?
– Что? – вздрогнул да Винчи, воззрившись на Кюри.
– Ты как-то побледнел.
– Ничего подобного.
– Я тоже вижу, – поддакнула Кристи. – Ты знаешь, откуда этот ключ?
– Нет, – пожал плечами да Винчи. – Впервые вижу.
– В любом случае, это игровой предмет, – сказал Эйнштейн, – и просто чудо, что мы его не проворонили, – он дружелюбно хлопнул да Винчи по плечу, отчего тот дёрнулся. – А то ведь могли уже заранее быть обречены на провал.
– Будем внимательнее, – примирительно улыбнулась Кюри, и эта улыбка Эйнштейну совершенно не понравилась.
Да Винчи молча рассматривал ключ. Нет, конечно, всё это чушь. Это просто деревянный брелок, каких полно, а цифра – просто номер предмета, ничего более.
– Ну что, идём дальше? – спросил Эйнштейн. – Теперь-то тут точно больше ничего нет.
Да Винчи отмахнулся от своих подозрений, смахивающих на параноидальные, вызывающие ненужные воспоминания, подавил зарождающуюся тошноту, загнал настороженность глубоко внутрь, под замок, сдался на волю простого совпадения, через силу заткнул своё чутьё, потому что у него не было выбора. Потому что сейчас было не время сходить с ума. Иначе ему пришлось бы бросить всё и бежать отсюда прочь.
Может, так и нужно было сделать.
– Да. Идём дальше, – ответил он, опуская ключ в карман штанов. Предложить его нести кому-то другому было выше его сил, хотя такое желание и возникло.
Они вышли в коридор, миновали тёмную комнатку, откуда Кристи вытащила сапоги, уже начинавшие натирать ей ноги, потому что размер оказался чуть меньше, чем нужно, и потому что резина с голыми ступнями не лучшие друзья. Следующая дверь также была распахнута.
– Посмотрим, – сказала Кюри и зашла внутрь. Пощёлкала выключателем – ничего. Тьма осталась тьмой.
– Здесь нет пометки, – пожал плечами да Винчи, – видимо, идём дальше.
– Ну и хорошо, что не надо шариться в темноте, – отозвалась Кюри и вышла обратно в коридор.
Ещё бы, подумал да Винчи, неизвестно, на что там можно наткнуться.
– Может, нам стоит разделиться? – неуверенно предложила Кристи, смотря на простирающийся коридор.
– Да уж, как в худших традициях плохих триллеров, – усмехнулся Эйнштейн, – особенно здорово это будет сделать в заброшенной психушке.
– Да я просто… – начала оправдываться Кристи, проклиная себя за попытки проявить инициативу.
– Да ладно, ладно, я шучу, – махнул рукой Эйнштейн. – Тут и правда много мест, где может находиться игровой предмет, но вряд ли стоит разделяться. Мы же, всё-таки, одна команда.
Тут раздался неприятный звон, и все обернулись в сторону звука. Да Винчи носком кроссовки разгребал кучку осколков стекла.
– Вряд ли там что-то есть, – сказала Кюри.
– Ага. Но я…
Я просто не могу себя контролировать. Кто-нибудь, уведите меня отсюда, или я так и буду копаться в этом стекле, а потом может произойти и что-нибудь похуже. Зря я сюда приехал.
– …на всякий случай решил проверить, – ответил да Винчи, не прекращая передвигать стёклышки.
– Кажется, я вижу там красный стикер, – показал вдаль рукой Эйнштейн, и это наконец отвлекло да Винчи. – Думаю, нужно идти туда.
– Отлично! – воодушевилась Кюри, улыбнувшись. Эйнштейн улыбнулся ей в ответ, но не сразу и словно через силу, и она это заметила.
Вот же скотина.
Помещение, куда привела их подсказка, оказалось раза в три больше первой комнаты. В глаза сразу бросались нагромождённые друг на друга физкультурные маты: серые, голубые, чёрные, не меньше тридцати штук. Лампочки не работали, но через окна проникал дневной свет, а через одно из них, разбитое, ещё и холодный уличный воздух. На полу валялись черные мешки для мусора, повсюду был разбросан поролон, перевёрнутая тумбочка беззвучно кричала распахнутыми ящиками, в углу лежали стопки пыльных книг, прикрытые решётками от радиаторов, стены были изрисованы непонятными тёмно-зелёными граффити.
– Холодно, – поёжилась Кюри при очередном порыве ветра.
– Значит, надо побыстрее что-нибудь найти, – резюмировал да Винчи. На лице его читалось удивление.
– Что такое? – не удержалась Кристи.
– Интересная комната, – уклончиво ответил да Винчи.
Им запрещено было заниматься физкультурой. О таком даже и речи не было. Видимо, здесь всё было иначе. Но столько? Зачем так много матов? Больше, чем в спортзале? Да Винчи подошёл ближе, и у него немного отлегло от сердца: друг на друга громоздился не спортивный инвентарь, а вполне подходящий. То, что сначала показалось матами, оказалось более узкими матрасами для коек. Для множества коек, каких им ещё не встретилось, но матрасы с которых определённо были сложены здесь, прямо перед ними.
Только не говорите, что все их нужно перевернуть и обыскать.
– Можем поискать здесь, – подошла к нему Кюри, и ему пришлось согласиться.
Кристи, стараясь не сильно хромать, поковыляла к тумбочке. Больше всего на свете ей хотелось взять пластырь и приклеить его на уже натёртые ноги, но ни пластыря, ни возможности его у кого-то попросить – все вещи оставлены в том сейфе – у неё не было. Чёртов Артур, подумала она, опускаясь на корточки перед тумбочкой. Если бы только у неё были её собственные кроссовки, как у да Винчи, например. Но нет же. Даже находясь где-то далеко, Артур смешивал её с дерьмом.
– С-с-с… – Кристи отдёрнула руку, порезавшись обо что-то внутри одного из ящиков. Острое металлическое дно было деформировано, и ладонь, обшарившая ящик, напоролась на его острый край.
– Ты в порядке? – спросил Эйнштейн, подходя к ней.
– Супер, – процедила Кристи. Порез был неглубокий – хоть здесь повезло. А то можно было бы и кровью истечь. Или подхватить заражение.
– Осторожнее, – сказал Эйнштейн, словно это и так было непонятно. – Я покопаюсь в мусоре, раз уж все заняты, – издал он смешок.
Кристи, прижавшая к губам ладонь и отсасывавшая из пореза кровь, что-то промычала в ответ, да Винчи и Кюри, занятые обследованием матрасов, не отреагировали.
Насчёт мусора Эйнштейн преувеличил: мешки по большей части были пустые, либо набитые тем же поролоном, пенопластом и какими-то опилками, словно после ремонта.
– Здесь ничего нет, – заявила Кристи, закончив осмотр тумбочки. – А вот там… – она увидела дверь, почти сливавшуюся со стеной, которую они не заметили раньше из-за прислонённых к двери досок. – Пойду посмотрю.
– Ага, – сказал да Винчи. Они с Кюри перетряхнули уже добрых две трети матрасов, но пока не в одном не нашли не тайников, ни прорезей, не каких-то подозрительных выпуклостей.
– Я с тобой, – подхватился Эйнштейн. – В мешках тоже ничего интересного. А дверь я и не заметил…
Он с лицом истинного джентльмена убрал от двери доски. Кристи потянула за ручку – открылось на удивление легко, – и они увидели маленькое помещение, в котором едва помещалась одна койка, старый радиатор и ржавый шкафчик с разбитым стеклом. Почти весь пол был залит какой-то тёмной жидкостью, под койкой валялись грязные скомканные салфетки. Пахло отвратно.
– Да уж, – сказал Эйнштейн.
Кристи шагнула к шкафчику, за которым стояли какие-то склянки, и осторожно открыла дверцы. У стенки лежала старая кожаная коричневая аптечка с ремешком и красным крестом в когда-то белом, а теперь пожелтевшем круге. Кристи потянула к ней руки, ощутив, как внутри вспыхнула надежда.
– Ого, там вполне может быть игровой предмет, – оживился Эйнштейн, заглядывая ей через плечо.
Нахрен игровой предмет. Пластырь, господи. Пусть там будет пластырь. Он должен там быть. Пожалуйста. Это всё, что мне нужно.
Кристи отцепила застёжку на кнопке и открыла аптечку. Несколько блистеров раскрошившихся и явно просроченных таблеток, пожелтевший бинт, пара шприцов в бумажных упаковках – и три пластыря.
– Да!
Она схватила пластыри, но Эйнштейн придержал её руку:
– Погоди, ты хочешь воспользоваться этим старьём? Оно тут не один десяток лет, наверное, лежало.
– И что? Это же просто пластырь. Он может храниться сколько угодно, – Кристи уселась на койку, сняла резиновые сапоги и занялась пластырями. На каждую ногу – и на порез ладони. Идеально.
– Зачем ты вообще выбросила свои ботинки?
Ботинками это сложно было назвать, но ещё сложнее было объяснить свой поступок. Поэтому Кристи ответила:
– Ой, это долгая история, – надеясь, что Эйнштейн не станет развивать тему, и тот намёк понял.
В проёме двери показались да Винчи и Кюри: их обыск не увенчался успехом.
– Ну и запашок, – поморщился да Винчи, смотря на койку, на которой сидела Кристи: на сером металлическом каркасе, с деревянными спинками-ограждениями в голове и в ногах, синим матрасом, таким же, какие они чуть ли не потрошили в поисках игрового предмета, и с неким бесформенным подобием подушки. Кристи уже снова была в сапогах и чувствовала ни с чем не сравнимое облегчение.
– Даже про́стыни нет, – сказала Кюри.
– Простыни́, – поправил её Эйнштейн. Не удержался.
Да Винчи выпрямился, стараясь не заострять внимание на их словах. Не буйный. Нет, не буйный. Он был спокойным. Не хотел, чтобы его заворачивали в мокрые простыни, как других. Большие белые мокрые простыни. Холодные, липкие, призванные успокоить.
Он и так спокоен.
Кюри скривилась, выражая своё отношение к поправочке Эйнштейна. Потом шагнула к шкафчику.
– Мы там ещё не всё посмотрели, – поспешил сказать Эйнштейн, поняв, что стоило промолчать. Чужие ошибки – не его проблема. По крайней мере, не сейчас.
Вчетвером они осмотрели комнатку, но ничего интересного не нашли. В воздухе повисло разочарование.
– Книги! – воскликнул Эйнштейн. – Там в углу были книги.
– Надо посмотреть, – оживились все.
Книги оказались сплошным скопищем пыли, трухлявыми напоминаниями прошлого, с потёртыми названиями, порванными корешками, вырванными страницами. Кюри забрала то, что осталось от подушки на койке, чтобы хоть как-то вытереть пыль и грязь с переплётов. Прикасаться к ним голыми руками совершенно не хотелось.
Кристи, поняв, что всем четверым толпиться у кучи книг не имеет смысла, немного отошла и стала наблюдать за поисками сбоку. Пластыри оказались на удивление крепкими и удобными, но сознательно заносить грязь и инфекцию в порез на руке ей не хотелось. Толкаться рядом с остальными тоже. Ей хотелось получить деньги и исчезнуть, но до этого было ещё далеко.
– Может, в них есть какая-нибудь подсказка или отметка, – сказал да Винчи и взял верхнюю книгу.
– «Семиотика и диагностика душевных болезней», – прочитал полустёртые буквы на одной из обложек Эйнштейн, пролистывая страницы и вытряхивая из книги песок. – Одна грязь.
– «Психопатические конституции», – прочитала Кюри название тома, половину которого держала в руках. – Тоже ничего.
Да Винчи отложил ещё несколько книг. На одной названия не было видно, на второй переплёт отсутствовал, на тёмно-коричневом фолианте Кристи прочитала «Психиатрические эскизы из истории».
– О, кажется, здесь что-то есть! – Эйнштейн открыл чёрный том «Псевдология. Патологическая ложь: причины и следствия» и обнаружил внутри книжного блока вырезанное углубление.
– Ключ, – сказала Кюри, словно они и так этого не видели. В её глазах зажёгся огонёк.
Эйнштейн взял маленький металлический ключ и осмотрел его.
– Но от чего он? – спросила Кристи. – Здесь нет ничего, куда он мог бы подойти.
– Возможно, он пригодится нам позже, – ответил да Винчи.
– Пусть пока побудет у меня, – Кюри протянула руку, но Эйнштейн ключа не отдал.
– Нет, лучше у меня, – наклонил он голову, потом, помедлив, всё-таки добавил, не в силах сдержать распирающую его гордость: – Это же я вспомнил про книги и нашёл его.
– Поздравляю, – улыбнулась Кюри и отвернулась. Её попытки взять всё в свои руки пока не увенчались успехом. Может, не стоит торопить события.
Ложь: причины и следствия, подумала она. Подходящая для неё книга. И причин, и следствий у неё хоть отбавляй.
Эйнштейн поморщился, но она этого уже не увидела. Он совершенно не нуждался в её поздравлениях, но покоробило его не это. А очередная улыбка – не просто дежурная, но словно совсем не подходящая к лицу рыжеволосой. Мыщцы приветливости у неё были совсем не развиты, это он заметил ещё с самого начала Игры. Кюри улыбалась, когда думала, что того требуют обстоятельства, или когда хотела, чтобы её считали вежливой или даже приветливой, но этот блеф не стоил затраченных усилий. Потому что эти мышцы, нижняя часть кругового мускула глаза, не подвластны контролю. Они работают, только когда улыбка искренняя. У Кюри, похоже, они вообще были атрофированы. Обо всём этом Эйнштейн вычитал в одной из своих бесчисленных книжек, но было кое-что, понятное и без книжек.
Кюри – не та, кем хочет казаться.
Кюри
Вдоволь поразмышляв о лампочке, её осколках и перерезанных венах, я выхожу из ванной, завернувшись в полотенце, и прошлёпываю мокрыми босыми ногами в свою комнату. Точнее, в комнату Филиппа, которую он отдал мне в полное распоряжение. Потому что мне нужен покой и личное пространство. Что, конечно, не отменяет его проверок моего состояния и бдительного слежения за моим настроением. Боюсь, если бы я воспользовалась той лампочкой, недосмотр расстроил бы его даже больше, чем моя смерть.
Но я несправедлива. Когда я, переодевшись и стряхнув с себя суицидальное оцепенение, прихожу на кухню, меня встречает горячий ужин, тёплый взгляд Филиппа и холодный воздух с улицы – проветривается после готовки. Филипп закрывает окно и накладывает мне в тарелку спагетти, что-то при этом говоря. Я не слышу, что именно, потому что не слушаю – заботливый тон, каким он говорит, захлёстывает меня волной ярости. Я даже не знаю, на кого эта ярость направлена. Просто я никогда не была той, кто нуждается в такой приторной заботе, в таком почти что сдувании пылинок, в такой обеспокоенности за моё благополучие. Для меня всё это чересчур, для меня это непривычно и оттого почти неестественно, почти раздражающе, и несмотря на то, что я сама загнала себя в такое положение, вспыхнувшая ярость направляется на Филиппа. Я закипаю, подначиваемая его по-прежнему заботливым тоном и чрезвычайно напряжённым и, видит бог, по-настоящему обеспокоенным лицом, очевидно, готовым к какой-нибудь несусветной глупости с моей стороны, но при этом лицом невероятно любящим. Закипаю и уже собираюсь выплеснуть ярость наружу, как вдруг вижу, что макароны у нас с томатной пастой. Злобное торжество сверкает во мне, и я уже открываю рот, чтобы выговорить, выжурить, обвинить. Стереть это доброе, нежное, чуждое мне выражение с его лица. Но слова не вырываются, застревают в гортани сухим комком, проваливаются обратно, потому что я вижу упаковку от этой самой томатной пасты. Безглютеновой.
Он помнит. Помнит про мою аллергию, упомянутую лишь единожды, вскользь и давно. Почему-то это потрясает меня до глубины души. Почему-то мне перестаёт казаться, что всё это не для меня. На секунду я даже позволяю себе подумать: «Может быть, мы справимся». Потом мне становится страшно. По-настоящему страшно. Оттого, что было в ванной. Оттого, что происходит сейчас. Оттого, что ещё может произойти.
Страшно настолько, что на следующий день я облагодетельствую Марию тщательно продуманными и первыми за долгое время словами, о которых наверняка не раз пожалею.
Да Винчи
– Привет, – говорит она, входя в комнату, и улыбается. Осеннее солнце поблёскивает в её маленьких золотых серёжках. Едва уловимо отражается в её тёмных миндалевидных глазах.
Я молча изучаю её чересчур знакомое лицо. В который раз? Сотый? Тысячный? Извините, я немного потерялся во времени. Когда тебя пичкают совершенно ненужными тебе лекарствами, такое бывает. И если ты всё ещё хочешь когда-нибудь выбраться из этой светлой и в то же время – парадокс – такой мрачной комнаты, ставшей тебе тюрьмой, выбраться из этого проклятого здания, из круга стерильной чистоты и полного мракобесия, сомкнувшегося вокруг тебя, ты будешь делать то, что тебе велят.
По крайней мере, делать вид.
Она красива, вежлива и хищна. Любит порой позволить себе что-нибудь непозволительное, когда никто не видит. Никто, кроме меня. Я вижу её постоянно, и неважно, выхожу ли я из комнаты, чтобы понаблюдать за ней, пока она об этом даже не догадывается, или закрываю глаза, лёжа под своим тонким и холодным даже летом одеялом. Да, она красива. Для меня. Лучше остальных. Все решили, что это она выбрала себе пациента, но на самом деле её выбрал я. Или мы. Это уж как посмотреть. Лично я, в отличие от остальных, не вижу ничего плохого в нестабильности точки зрения на эту проблему. Я и проблемы не вижу – Лёнчик всегда остаётся Лёнчиком, просто живёт разнообразнее остальных. А им это не нравится. И я слишком долго отказывался это понять. Слишком много месяцев. Лет. Надо было сразу принять правила этой странной игры, а не пытаться её остановить, сбежать с игровой площадки. Это сэкономило бы кучу времени.
И нервов, ха-ха. Впрочем, их у меня хватает на двоих.
Так вот, на самом деле выбрал её я. Она показалась мне красивее остальных, и я решил, что если уж страдаю в этой обители скорби и самых разномастных унижений, то хотя бы общество себе я выбрать имею право. Они даже не заметили. Достаточно было вести себя так или иначе, чтобы количество сестёр, заходивших в мою комнату, стало сокращаться, и в итоге осталась она одна. Говорили, я хорошо на неё реагирую. Лучше других. С этим не поспоришь.
Поначалу всё было неплохо. Наверное, она чувствовала, что мне здесь не место. Что я здесь только из-за денег, страха и стыда моих родителей. «Лёнчик бывает слишком агрессивным». «Лёнечка не такой, как его одноклассники». Не такой, как его родители, что уж тут, сказали бы прямо. Вот что их беспокоило больше всего. Что их ребёнок окажется талантливее, умнее, успешнее их самих. У детей с отклонениями такое бывает, но – и сейчас я говорю чистейшую, как утренняя роса на некошеных альпийских лугах, правду – у меня их нет. Зато их навалом у моих родителей. Вообще-то они хотели двоих детей.
Вообще-то, они практически двоих и получили.
Здорово, что мне не было скучно. Никогда. Не здорово, что я застрял здесь. (Сюда бы подошло драматичное слово «навсегда», но я ни за что его не произнесу.) Впрочем, спустя эти годы я знаю, что делать, чтобы псевдопрогресс дал мне шанс свалить из этого белого муравейника, спокойного, сонного, скучного и такого пустого внутри. В нём бы запросто могла бы взорваться ядерная бомба, а снаружи он даже не пострадал бы. Так огромна его пустота.
Да, если вы всё ещё сомневаетесь – так же, как и все остальные, те, кто был со мной до моего злосчастного путешествия в мир пустых муравейников, и те, кто ползает в нём рядом со мной теперь, – уточню: нет и нет. Никакого раздвоения личности у меня нет. Вообще-то это довольно редкая болезнь. Что-то около ста случаев за последние двести лет? Точно не помню. Но это было бы совсем неинтересно: в чём смысл, если вы двое не можете существовать одновременно? Обмениваться впечатлениями, отпускать остроты, сворачиваться где-то между вашими общими внутренностями в маленький комок в плохие дни? Полная чушь. Второе «нет» – в то же время всё не так просто, как биполярное расстройство. Хотелось бы, чтобы мне не уделяли столько неприятного внимания поначалу и столько холодного, угасающего интереса потом, но всё-таки нет. Они не знают, как это назвать. То, что между двумя этими состояниями. Но почему-то уверены, что это не вполне нормально. Однако точный и окончательный диагноз поставить не в их компетенции. Ни в чьей-либо из них. Только в моей. И я говорю: всё очень легко. Просто нас двое, и точка. Вот и всё.
Проще простого.
Вернёмся к той, что выдаёт мне предписанные таблетки, наклоняясь ко мне слишком близко, окутывает сочно-терпким парфюмом (на мой взгляд, в нём чересчур много ванили), поправляет мне подушку, проводит по лицу холодным длинным пальцем с коротко остриженным не накрашенным ногтем. Я всё ещё считаю её красивой, но это больше не детское чувство восхищения, каким было когда-то. Это нечто неопознанное с примесью ощущения опасности, презрения и скуки. Она выполнила свою функцию. Натолкнула меня на то, с чем я свяжу своё будущее. Теперь она – просто персонал. Обычная медсестра. Которая, пользуясь тем, что я безропотно, словно бы не понимая, принял утром двойную дозу и теперь лежу почти что овощем, водит пальцем уже не только по моему лицу. Одна рука путешествует дальше, ниже, невозмутимее. Вторая – уже в привычный закоулок её собственного тела. Когда всё только начиналось, она говорила, что я красавчик. Теперь уже не говорит ничего. Просто делает. Я не мешаю ей. Лежу безвольным овощем. Утренняя доза (двойная) таблеток, привычно извлечённая мною из желудка сразу после её ухода, прячется в уголке наволочки. За всё это время их (наволочек) накопилось бы штук десять, если бы, конечно, я не избавлялся от ненужных свидетельств своего бунта против белого муравейника. Мне даже забавно, насколько иногда бывает достаточно уверенности. Она, например, уверена, что сейчас я слабый безвольный мешок картошки, находящийся полностью в её власти. Вообще-то именно от этого она и кончает. Хищная, глупая шлюшка. Забегая вперёд, скажу, что я собирался засудить её за домогательства (самосуд тоже не исключался), но она покинула нас ещё до того, как я покинул муравейник: кто-то из пациентов воткнул ей в глаз спрятанную иголку от шприца, а шею обнял мастерски выпущенной из низа простыни тонкой, но прочной ниткой. Наверное, по нему она тоже путешествовала, но за любой безбилетный проезд полагается штраф. За систематический – особо крупный. Мне рассказали, что на её похороны пришло всего три человека. Один из них плюнул на её могилу. На мой взгляд, это чересчур театрально.
Её имя удивительным образом выветрилось из нашей памяти. Один не захотел его запомнить, а второй попросту не смог. Я зову её Клеопатрой. Конечно, Клео. Смуглая, с этими тёмными миндалевидными глазами, ровным чёрным каре с прямой челкой – кем ещё она могла быть? Я восхищался ею, иногда боялся (непредсказуемость и неконтролируемость процесса всегда меня пугала; нас обоих), но больше всего я хотел её понять. Хотел узнать, почему она так себя ведёт. Почему именно так ведёт себя со мной. Хотел узнать, какая она. Что она. В первый год пребывания в муравейнике я был довольно глуп, спишем это на весьма и весьма юный возраст, так что мне хватило одного взгляда на неё, чтобы начать звать её египтянкой. Слишком уж она была похожа на неё в моём детском понимании. Поэтому – Клеопатра. Пусть та и не была настоящей египтянкой. Зато была отличным символом. Я люблю символы. Мы оба любим. Но для одного из нас это неуёмное желание понять хотя бы на чуточку больше вылилось в занятие всей жизни. Конечно, для Лёни-первого. Тогда он и стал первым. Но лишь по номеру, не по значению. Первым, ухитрившимся проявить достаточные поведенческие навыки, чтобы заполучить в своё распоряжение несколько книжек. В муравейнике этот прецедент вызвал ажиотаж. Не то чтобы там вовсе никто не читал, но особых (и таких специфичных) заказов раньше не поступало и не удовлетворялось. Когда Клеопатра принесла мне (Лёне-первому) книжки по Древнему Египту, она улыбалась, почувствовав, что здесь замешаны она, восхищение ею и не очень свойственное пациентам муравейника желание учиться. Впрочем, он и не был никаким пациентом. Просто надолго оставшимся случайным гостем. Мне (Лёне-второму) египтяне довольно быстро наскучили, но мне (Лёне-первому) они ударили в самое сердце. А так как сердце у нас одно, нам приходилось терпеть. Впрочем, в жизни полно гораздо более неприятных вещей, которые приходится терпеть. Например, высокомерная, упивающаяся своей властью холодная рука Клео, елозящая в нашем паху, и её закатывающиеся глаза в конце процесса.
Как бы то ни было, и Клеопатра, и папенька с маменькой померли, помер и муравейник, который закрыли, предварительно попытавшись расформировать. К тому времени я уже отлично знал, что и как, так что расформировывать вполне себе здорового на вид и по результатам свежих тестов человека из учреждения с, оказывается (надо же!), не лучшей репутацией среди персонала, никуда в итоге не стали. Непоставленный диагноз тоже умер. Не умерли только египтяне, продолжив преследовать меня на Востфаке и потом, конечно, на работе. Лёня-первый был счастлив. Лёня-второй относился ко всему этому со снисхождением, найдя себе другие занятия по душе. Постепенно всё произошедшее стиралось, блекло, уплывало за Млечный путь, ускользало за орбиту воспоминаний. Всё было хорошо.
Пока я не встретил Веру. Это не была любовь с первого взгляда. Но именно первый взгляд остро резанул по сердцу раскалённым скальпелем. Когда-нибудь я забуду, во что она была одета, что она говорила и даже где мы встретились. Всё это было не так уж и важно. Важно было только иссиня-чёрное каре с прямой чёлкой. И тёмные миндалевидные глаза тоже были важны. И смуглая кожа. Спустя годы уже начавший стираться образ вспыхнул за секунду.
Вера была моей Клеопатрой.
Нашей.
Кристи
Если бы я была растением, то точно знаю, каким. По крайней мере, мне хочется думать, что не обожжённым засохшим кактусом или хищной мухоловкой, а ею – иерихонской розой. Наверное, во мне ещё живёт вера в возрождение, а именно этой удивительной способностью обладает она, растущая в каменистых песках ниже Мёртвого моря (как символично), в безлюдных синайских предгорьях. В засуху иерихонская роза сворачивается в шар и катается по пустыне; только попав во влажную среду, разворачивается и расцветает. Я всё ещё жду, что однажды и я попаду в такую благостную воскресительную среду, что если не расцвету, то хотя бы развернусь из своего сухого колючего сплетения.
Голова раскалывается второй час, и я решаю всё-таки принять свои ненадёжные таблетки, таблетки-подставу. Ненадёжные – потому что помогают они через раз, иногда только делая хуже, ибо они вовсе не от головной боли, а чёрт знает от чего: Артур разрешает держать в доме только их, и только он в курсе, что они на самом деле, но всё-таки иногда они помогают. Подстава – потому что каждый раз, когда Артур не досчитывается таблетки, начинается эпопея психологического давления, где я играю роль недееспособной, никчёмной, зависимой от лекарств бесполезной сучки, а он, конечно, является благодетелем. Первое время меня это ужасно угнетало, как и всё, что связано с Артуром, но потом мне стало всё равно. Я просто не слушаю. Поэтому я, прекрасно зная о последствиях, морщась от боли протягиваю руку к тёмному флакончику. Ничего нового меня не ждёт, думаю я. Стабильность – фундамент нашей жизни.
Но я ошибаюсь: кое-что новенькое всё-таки происходит. Например, когда я вытряхиваю таблетки на ладонь, раздаётся мой вопль. В тёмном флакончике не таблетки, а салициловый спирт: не присматриваясь, я, видимо, схватила не тот, они так похожи. С шипением отдёргиваю руку, потому что ночью во сне опять расковыряла свой отвратительный шрам на ладони, и спирт попал в открытую рану. Бутылёк падает на пол, но не разбивается, только катится через кухню, расплёскивая спирт по линолеуму. Со спиртом у меня были довольно дружеские отношения ровно до того момента, как у меня появилось это чёртово двухстороннее безобразное клеймо на ладони.
Оказалось, самый действенный способ протрезветь – воткнуть в себя отвёртку. Ну, или позволить кому-то другому это сделать. Хотя, конечно, никакого позволения Артуру никогда не требовалось, тем более от меня. До сих её помню: огромную, четырёхгранную, с прорезиненной оранжевой ручкой. Мои вопли, наверное, слышал весь дом; по крайней мере, до того момента, как мне заткнули рот угрозой воткнуть эту отвёртку куда-нибудь ещё. Так Артур отучил меня напиваться, пить, выпивать, вообще думать об алкоголе. С тех пор каждый раз, когда я испытывала желание выпить, а чаще всего это случалось после очередного спаривания с этим животным, шрам начинал ныть и напоминать о введённом сухом законе. Артур как-то сказал, что «хочет трахать нормальную, живую женщину, а не мешок мяса в полубессознательном состоянии». Но я давно уже не чувствовала себя ни нормальной, ни живой. Думаю, он просто не хочет, чтобы алкоголь притуплял мои страдания. Давал мне шанс хоть немного отстраниться. Хоть на минуту ослаблял тиски, в которых я зажата. Никакого спасительного алкоголя. Никаких шансов.
Я поднимаю взгляд на полку и понимаю: ничего я не перепутала. Флакона с таблетками нет. Перерываю всю кухню и усмехаюсь: он снова сделал шаг. Шаг к моему окончательному и бесповоротному унижению. Теперь у меня нет никаких таблеток: мучайся, Агата, от боли, да гляди на спирт, борись с искушением. Стискивая зубы от раскалывающейся головы и от бессильной ярости, поднимаю бутылёк со спиртом, завинчиваю крышечку, ставлю на полку. Капли спирта с линолеума почти испарились, но я всё равно вытираю пол тряпкой. Разгибаюсь, смотрю на часы. Артур придёт через час. Шестьдесят минут, как он любит говорить. Он любит цифры. Не знаю, что меня ждёт дальше, но знаю одно: кое-что выразить в цифрах я ему не дам. Количество его грёбаных шагов до моего полного унижения равно уничтожения. О, я не собираюсь сдаваться и я могу вынести гораздо больше, чем он думает, отстраниться гораздо сильнее, чем он рассчитывает. Так что количество шагов будет стремиться к бесконечности, и когда он наконец это поймёт, это будет его самым большим поражением. Его, не привыкшего проигрывать, с блеском ведущего все свои дела к победе. Все свои эксперименты. Все, кроме этого. Тогда, в самом начале, когда я понятия не имела, что он не тот, за кого себя выдавал, я принимала его участливость и заботу за чистую монету, но всё равно ждала подвох: вся моя жизнь научила меня ждать подвох во всём. Что ж, весь размах своей ошибки я не могу оценить до сих пор; ущерб с каждой неделей оценивается всё сильнее. Но я не собираюсь сдаваться.
Особенно теперь, когда в моей жизни появился кто-то, кто действительно сможет вывести меня из этой угнетающей комы, поднять с мутной глубины, с илистого дна. Кто-то, с кем я впервые в жизни не чувствую подвоха.
Кто даст воскреснуть заждавшейся иерихонской розе, уставшей слоняться по пустыням.