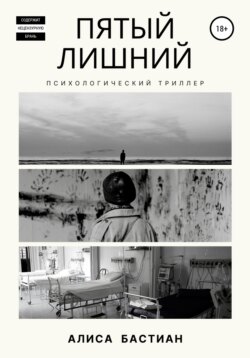Читать книгу Пятый лишний - Алиса Бастиан - Страница 5
I
4
ОглавлениеОни вышли в коридор, надеясь обнаружить что-то, к чему может подойти найденный Эйнштейном ключ. Впереди не было ничего, кроме хлама и двух дверей. Дальше коридор бесконечно простирался в неведомое, а вместо дверей в нём были окна, закрытые решётками.
– Проверим обе, – сделал вывод да Винчи и направился к ближайшей двери, которая была заперта.
– Может, сюда подойдёт ключ? – полуспросил он, дёргая за ручку.
Эйнштейн тут же подошёл и, решив не позориться (у него всегда были проблемы с замками и ключами), отдал свою находку да Винчи.
– Неа, – да Винчи осмотрел ключ и замок. – Совсем разные.
Следующая комната была открыта и практически пуста. На грязном, но на удивление почти целом кафельном полу стояла каталка на колёсиках, а на ней – практически новый тёмно-синий ящик с ключевым замком по центру. Да Винчи сразу опознал в нём ящик для денег, ценностей и документов, потому что сам часто имел с такими дело, и просветил остальных.
– Ключ наверняка подойдёт, – сказала Кюри, и да Винчи кивнул.
Все четверо подошли к каталке и окружили ящик. Да Винчи вставил ключ в замок, повернул его – раздался ожидаемый щелчок – и приподнял стальную крышку. Он ожидал увидеть внутри пластиковый лоток с отделениями, какие обычно присутствуют в ящиках, но их ждало кое-что другое.
– Хм, – Кюри смотрела в открытый ящик, доверху набитый всевозможными предметами.
Прямоугольный металлический медицинский стерилизатор для кипячения шприцов, большой стеклянный и видавший виды шприц, несколько носовых платков с бурыми застарелыми пятнами крови, расчёска-гребешок с несколькими чёрными волосками, две смятые пачки от сигарет, маленький бархатистый розовый медвежонок с проплешинами, ржавый пинцет, ножницы с зелёными кольцами, маленькая резиновая клизма, вилка, два засохших фломастера, рваное ситечко для раковины, детские рисунки на маленьких листках в клетку, одиннадцать разных пуговиц, древнейший станок для бритья без лезвия, три катушки белых ниток, корпус от шариковой ручки и несколько высохших стержней, старый, словно погрызенный кошелёк, разбитое круглое зеркальце, несколько блокнотов с жёлтыми страницами, россыпь зубочисток, колода игральных карт, калькулятор, несколько ржавых гвоздей, изолента, маленькая бобина с вытянутой и спутавшейся магнитной лентой… Это и многое другое было в ящике, который им предстояло тщательно изучить.
И всё это пахло старым прогорклым мылом, расколовшимся на кусочки и рассыпавшимся по всему ящику.
– Среди этого явно должен быть игровой предмет, – озвучила мысли остальных Кристи.
– И нам придётся осмотреть всё это барахло, – сказал Эйнштейн, смотря на платки с кровью и думая, что к ним он точно не будет прикасаться.
– Ну что ж, тогда начнём, – пожал плечами да Винчи. Вещи, показавшиеся другим маленькими, старыми, и, пожалуй, немного неприятными весточками из прошлого, вызвали у него зарождающуюся апатию. Особенно некоторые, вызывавшие нездоровые воспоминания. К стерилизатору, шприцу и колоде карт его совершенно не тянуло, поэтому он занялся изучением блокнотов и кошелька.
Кюри машинально взяла в руки пачку от сигарет – не буро-жёлтую со стёртым изображением, а вполне опознаваемую красно-белую «Мальборо». Кристи принялась просматривать колоду карт в поисках меченой. Эйнштейн снял крышку со стерилизатора.
– Гос-с-споди, – скривился он, – это действительно ногти?
В стерилизаторе лежали монеты, мятые купюры, булавки, крупные скрепки – и горстка крупных желтоватых обстриженных ногтей.
– Они самые, – хмыкнул да Винчи, не отрываясь от блокнотов.
Остальные поморщились, продолжив копаться в ящике с мелочами.
– О, – сказала Кюри, для вида рассматривавшая детские рисунки на листках, дождавшись, когда Эйнштейн, стараясь не касаться омерзительных ногтей, с отвращением изучил монеты и купюры, а остальные изрядно повозились в старых вещах, – кажется, я нашла игровой предмет.
– Да? – обрадовалась Кристи. Да Винчи и Эйнштейн воззрились на Кюри.
– Внутри метка, – Кюри приоткрыла пачку «Мальборо». – И цифра «7».
– Ну и прекрасно, – да Винчи опустил крышку ящика, мгновенно похоронив ценности прошлого.
– Ты же сразу её взяла? Почему? – заинтересовался Эйнштейн.
– Просто курю такие же, – пожала плечами Кюри, – вот взгляд и зацепился.
Но про метку ты сказала не сразу, подумал Эйнштейн. Кристи этого не заметила, а да Винчи было наплевать, поэтому никто ничего больше не сказал.
Кюри оставила пачку себе. Они вышли в коридор и застыли в нерешительности.
– Думаете, нужно идти туда? – Кристи показала вперёд, в длинный коридор без дверей и непонятно где и чем заканчивающийся. – Здесь мы закончили?
– Похоже на то, – Эйнштейн кивнул на дверь открытой им комнаты. Теперь, когда она была распахнута и прижата к стене, игроки увидели нарисованную на ней мелом стрелку, в данный момент указывающую как раз в направлении неизведанного.
Да Винчи что-то буркнул, вернулся в комнату и закрыл за собой дверь, оставив остальных в недоумении. В закрытом состоянии изнутри комнаты стрелка указывала в угол, где не было абсолютно ничего. На всякий случай да Винчи проверил пол и стену, но тайников не обнаружилось. Стрелка действительно становилась действующей только при распахнутой двери.
– На всякий случай, – ответил да Винчи на не успевшие прозвучать вопросы, выйдя в коридор. – Это переход в другое крыло, – сказал он, кивая в направлении стрелки. Хотелось бы ему знать об этом чуть меньше.
Эйнштейн слегка оживился:
– Значит…
– Значит, идём в другое крыло.
Кристи
Голова взрывается, и мозг оказывается на стекле. Я в линзах, поэтому особенно отчётливо вижу каждый его прилипший кусочек, каждый ошмёток кости, каждую стекающую каплю крови. Яркое воспоминание. Вряд ли когда-нибудь оно из меня выветрится.
Это будет во всех новостях. Наберите в поисковике «метро заложники убийство», и сразу всё поймёте. Если наберёте вдобавок ещё одно слово, «подсолнухи», высветится много картинок. Одинаковых, с телом без головы, заретушированным, конечно, и периодически блокируемых, но всё равно настолько распространившихся по интернету, что поиск выдаст их с головой (уж простите за каламбур) и сполна. Я была в том поезде.
Ничто не предвещало беды. Народу было немного, в основном все сидели в наушниках, уткнувшись в телефон или книгу. Я бездумно смотрела на обувь сидящих напротив, поддавшись убаюкивающему укачиванию вагона. Розовые кеды. Серебристые туфли-лодочки. Белые кроссовки. Бежевые босоножки. Чёрные кроссовки. Серые балетки. Из всего ряда выбивались – нет, не розовые милые кеды, и не ослепительной белизны в контраст грязноватому полу кроссовки. Даже не аристократичное серебро лодочек. Чёрные кроссовки. В них была угроза. Они слегка подрагивали, словно их обладатель слушал ритмичную музыку, но наушников у мужчины не было. Зато был тяжёлый взгляд, которым он меня и наградил. Ему не понравилось, что я его изучаю. Руки в карманах спортивных штанов. С ним что-то не так. Я инстинктивно оглядываюсь, но никто ничего не замечает. Я чувствую угрозу. Это не врождённое, но выработанное с годами чутьё подвело меня только раз – этот раз именуется Артуром, – но это будет дальше, а пока у меня нет причин ему не доверять. Я чувствую угрозу. Мужчина в чёрных кроссовках тоже её чувствует. Угрозу преждевременного разоблачения. На станции никто не выходит, двери закрываются, начинается длинный перегон, а я жалею, что не вышла. Я не хочу здесь находиться. Мужчина, кажется, тоже, потому что резко встаёт и нажимает на кнопку связи с машинистом. Пассажиры с недоумением смотрят на обладателя чёрных кроссовок. Машинист отвечает, и чёрные кроссовки кричат, чтобы поезд немедленно остановили, иначе он перестреляет весь вагон. В доказательство серьёзности своих слов он вытаскивает из спортивных штанов с огромными карманами пистолет и несколько раз стреляет в потолок. Поезд останавливается, словно неожиданно заснув, не справившись с недосыпом, зато в вагоне все, наоборот, просыпаются. Пространство скручивается в тугую спираль, завитки которой – страх, паника, отчаяние. У меня громко урчит в животе.
Чёрные кроссовки сгоняет немногочисленных (двенадцать) пассажиров в конец вагона, угрожая им пистолетом, потом кричит машинисту, что никто не пострадает, если его требования будут выполнены. Я не знаю, действительно ли у него всё продумано и действительно ли никто не пострадает, или он просто психопат, который от любого неосторожного движения перестреляет нас всех. Слышится плач, кого-то стошнило, мужчина требует абсолютной тишины. Смотрит на меня и покрепче сжимает пистолет. Не знаю, таковы ли были его планы, или я своим пристальным взглядом заставила его нервничать и спутала все карты. Я стою ближе к двери между вагонами. Впереди меня, через несколько человек, держится за живот беременная. Месяц шестой, наверное. Я остро вспоминаю свой выкидыш, хотя думала, что похоронила его под фундаментом, забетонировала, навсегда вычеркнула из жизни. Тогда я хотела умереть. Сейчас не хочу. Никто из нас здесь не хочет. Будущая мама беззвучно молится и всей душой мечтает оказаться подальше отсюда. Лицо её слишком бледно, кажется, что она вот-вот упадёт на грязный пол, по пути ударившись головой о металлический поручень, и это опасно. Это может спровоцировать чёрные кроссовки на что-нибудь не очень хорошее. Или это может спровоцировать выкидыш, мстительно думаю я, покрываясь потом от осознания того, какая же я всё-таки мразь.
Все боятся, а я думаю: если я здесь умру, никому и дела не будет. Никто даже не заметит моего отсутствия. Точно так же, как и моего присутствия. В моей жизни не было смысла, не будет его и в моей смерти. Может быть, стоило бы умереть за этих двоих, искупляя свою никчёмность и свои чёрные мысли. Беременную усаживают на сиденье, суют ей бутылку воды. Она пьёт, машинально поправляет длинную юбку. Террорист-в-кроссовках настороженно за этим наблюдает. Я вижу, что белый пиджак мамочки пропитался потом, и только тогда замечаю: стало действительно душно. Плюс нервы. В духоте у меня может закружиться голова, а перед глазами может всё поплыть, и тогда уже я могу спровоцировать кроссовки на что-нибудь нехорошее. Как назло, как только я начинаю об том думать, к горлу подступает тошнота, а в ушах зарождается какой-то ватный гул. Очень скоро появятся пёстрые точки перед глазами, и мне нужно будет сесть, чтобы не шлёпнуться, потеряв контроль над своим телом. Потом происходит одновременно несколько вещей. Беременная, видимо, совсем запарившись и находясь на грани обморока, медленно начинает стягивать с себя плотный пиджак. Медленно, чтобы никого не разозлить и не спровоцировать. Под ним блузка с красивыми крупными подсолнухами. Эти яркие пятна удерживают моё внимание, не давая провалиться в вязкую тьму, помогая мне балансировать на её краю. А потом – раз! – и я снова в порядке, даже лучше, чем было до этого, и я вижу всё слишком чётко, а в ушах уже не ватный белый шум, а шок от произведённого вблизи выстрела. Беременная лишена головы, террорист-в-кроссовках бьётся в каком-то припадке и стреляет ей в грудь, потом ещё раз прямо в раздутый живот, потом в ужасе хватается за голову и теряет концентрацию, а потом его кто-то толкает, начинается потасовка, выстрелов больше не слышно, но я не смотрю, кто побеждает в схватке со злом. Я смотрю на то, что осталось от головы беременной. И на окно за её спиной, превратившееся из квадрата Малевича с тёмным тоннелем за стеклом в картину абстракциониста с цветными пятнами и разводами.
Он находился в напряжённой стрессовой ситуации, и его спровоцировала блузка. Не из-за выреза – его там почти и не было. Из-за цветов. Просто так неудачно сложилось. У него была фобия подсолнухов. Всё это вы тоже можете прочитать в интернете. Там же вы найдёте свидетельства очевидцев. Не всех, но многих. Но они вряд ли передадут тот ужас, что мы испытали. Пока чёрные кроссовки прижаты к полу чьей-то проснувшейся смелостью, кто-то сообщает обо всём машинисту, и поезд медленно начинает движение. Только сейчас я замечаю, что из соседнего вагона на нас смотрят бледные лица. Кто-то поспешно убирает телефон в карман – именно эту запись событий выложат в сеть – и опускает взгляд. Наш вагон последний, и потому соседи у нас есть лишь с одной стороны, да только никто из них не посмел помочь нам, пока поезд стоял, никто не захотел и когда он снова двинулся. Они просто смотрели, в ужасе и с недоверием, и могу точно сказать: они были счастливы, что сели в правильный вагон. И я их не виню. Уж кто-кто, но только не я.
Пока мы бесконечно долго ползём до станции, кто-то вырубает нелюбителя подсолнухов, и между нами повисает вязкая, пропахшая кровью тишина, прерываемая лишь тяжёлым дыханием кого-то из нас (позже я понимаю, что сама дышу так же). Двух пассажиров рвёт на сиденье – спасибо, не на то, где покоилась беременная, хотя ей, конечно, уже было бы всё равно. Пистолет отброшен далеко, к другому концу вагона, и ни у кого не возникает желания к нему приблизиться. Мы осторожно отползаем подальше от беременной, не в силах смотреть на то, что от неё осталось. Кажется, кто-то спрашивает, нет ли среди нас врачей, и я усмехаюсь, потому что так бывает только в фильмах и потому что чувствую себя чертовски плохо, смотря на детский костюмчик, выглядывающий из пакета, брошенного на полу. Лучше бы блузку с подсолнухами надела я. Это было бы справедливее.
Когда мимо нас начинает проплывать станция, пассажиры оживляются, готовятся покинуть этот ад, но я не чувствую в себе сил даже пошевелиться, не то что выскочить из вагона и броситься к медикам, уже ждавшим их, и начать махать руками, показывая внутрь вагона на беременную. Люди в форме заковывают неподвижного террориста-в-кроссовках в наручники и утаскивают его прочь, двое пассажиров, придавливающих его к полу, идут за ними. Я просто сижу на коричневом кожаном сиденье и смотрю на них сквозь стекло. Подсознательно я жду, что двери закроются и мы тронемся в путь, оставляя пассажиров-участников и прочих заинтересованных лиц позади, но двери не закрываются. Более того, из всех вагонов выходят люди, и я понимаю, что никуда мы больше не поедем. Как раз к моменту моего осознания меня подхватывают под руки и выволакивают на платформу. Там ко мне тут же кто-то подскакивает, и вообще всем нам уделяют чересчур много внимания: врачи, прохожие, люди в форме. Я считаю, что внимание должно уделяться не нам, а, например, ребёнку, которого, может быть, ещё можно спасти, хотя я в это и не верю. Только не после выстрела в живот. Тем не менее я отмахиваюсь от всех и указываю в вагон, на несчастную жертву, и тогда от меня отстают. Я отползаю подальше, прячусь за колонну, наблюдаю, как те пассажиры, кто остался, разговаривают с кучей других людей, и понимаю, что я этого не вынесу. Повторять одно и то же, проживать эти кошмарные минуты снова и снова. Не смогу.
Перед глазами всё мутнеет, и я прижимаюсь спиной к холодной колонне. Надо посидеть, и всё пройдёт. Это он нервов. От духоты. От всего. Даже если все эти люди сейчас бросятся ко мне с расспросами, я ничего не услышу и не увижу, потому что в ушах лишь звон, почти не отличимый от тишины, а в глазах темно. Не знаю, сколько это продолжается, но, кажется, до меня никому нет дела, а мне всего-то и нужно пару глотков воды да свежего воздуха, чтобы прийти в себя. Я настолько на грани потери сознания и настолько готова отпустить себя в это маленькое освобождающее путешествие, что вздрагиваю как от сильного удара тока, когда чувствую чью-то руку на моём колене. В губы тыкается пластик, и я понимаю, что это желанная спасительная бутылка воды, хотя и не вижу её. И я пью, жадно пью, мысленно благодаря моего спасителя, того, кто держит эту бутылку, радуюсь, ещё не зная, что довольно скоро мне в губы будет тыкаться кое-что менее желанное, и что спаситель – наименее подходящее слово для обладателя этого кое-чего.
Девушка, девушка, девушка,
слышу я словно сквозь вату, и не знаю, сколько раз на самом деле было произнесено это слово. Я выпиваю всю бутылочку, и зрение начинает возвращаться. Впервые в жизни мужчина стоит передо мной на коленях, а не наоборот, и от нелепых, неуместных воспоминаний у меня начинается тошнота. Он берёт меня за руку и с серьёзным видом пытается прощупать пульс. Когда он с таким же серьёзным видом спрашивает, не кружится ли у меня голова, звук прорывает вату, слух встаёт на место как подходящий пазл, окружающий мир всасывает меня обратно. В свой шум, свою суету, своё беспокойство, своё население, стреляющее в поездах. Мужчина продолжает обо мне тревожиться, и это концентрированное внимание слишком искренне, чтобы быть мне привычным. Если что и могло сейчас подкосить меня ещё больше, то именно это. Ничто сегодня не было привычным. Особенно слёзы. Слёзы льются сами, наверное, впервые после смерти родителей, и в них всё. Не только сегодня. Всё, что было до этого, что копилось всё это время.
Если бы я знала, что эта демонстрация уязвимости приносит такое облегчение, возможно, я бы практиковала её чаще. Я буквально захлёбываюсь рыданиями по всему, чем могла бы похвалиться моя жизнь, если бы всё – или хоть что-то – сложилось иначе. Я никогда такого себе не позволяла. Он обнимает меня, и рыдать в его объятиях почему-то становится унизительно, но очень приятно. Я чувствую его тепло. Его тело. Он чувствует моё. Каждую клеточку. Мне хочется вырваться из его крепких порочных объятий и убежать прочь, подальше от этой оскорбительно непривычной ситуации, но у меня нет сил.
А может, не так уж мне и хочется.
Потом я размазываю слёзы по лицу рукавом джинсовки и смотрю на него повнимательнее. У него чёрные волосы, карие глаза и идеально чистая и гладкая кожа. Обволокший меня запах крови и мозгов беременной уступает место мужскому парфюму – пряному, чувственному, надёжному. Даже пиджак на нём сидит идеально. Вопреки произошедшему и обстановке, я чувствую, как предательски сдаётся часть меня: я понимаю, что хочу, чтобы он меня трахнул. Прямо здесь, прямо сейчас, прижимая к этой чёртовой колонне, не обращая внимания на разваливающийся окружающий мир. Трахнул так, чтобы я забыла всё, что сегодня произошло. Вероятно, всё это написано на моём лице (заплаканном и, скорее всего, смертельно бледном), потому что Артур улыбается, встаёт и подаёт мне руку, поднимает меня на ноги.
– Пойдём, тебе нужна помощь, – говорит он идеальным тембром.
Он на голову выше меня, и я чувствую себя хрупкой. Когда он направляется к врачам, я упираюсь, и он всё понимает. Кажется, он ничуть не удивлён. Я смотрю, как кто-то даёт показания. Вроде это один из тех, кого вырвало в вагоне.
– А знаешь, они и без тебя справятся, – слышу я и мгновенно чувствую облегчение.
Не знаю, насколько это правильно, но я согласна: справятся, я вряд ли смогу что-то добавить, выдавить из себя что-нибудь существенно новое. Больше всего я хочу повернуться и уйти, а не перемалывать случившееся в труху под запись. Просто исчезнуть, оказаться не здесь. И моё желание исполняется. Артур уводит меня, так спокойно и незаметно, что никто не бросается нам вдогонку, требуя от меня отчёта, осмотра или чего-нибудь ещё. До нас словно никому нет и дела, и это восхитительно. Момент портит лишь моя потеющая ладошка в большой ладони Артура, но его, кажется, это совсем не заботит.
В тот день он помог мне, придал мне смысла, поднял меня с колен.
Так я думала.
Да Винчи
Несмотря на то что все заплатили за вход на лекцию одинаково, она слушает внимательнее остальных. Действительно слушает. Пока я бесстрастно вещаю об особенностях восприятия окружающего мира древними египтянами, подкрепляя свои слова слайдами презентации и различными примерами, она сосредоточенно делает пометки в блокноте, обшитом бордовой кожей, быстро перемещая взгляд от него к экрану презентации и обратно. Я говорю об алебастровых сосудах третьего тысячелетия до нашей эры с посвятительными Осирису иероглифическими надписями на стенках, нет-нет да возвращаясь к ней взглядом. Мне кажется, что она совершенна. Абсолютно гармонична посреди египетской лекции. Когда я включаю узкоспециализированный научно-познавательный фильм про четыре канопы для хранения внутренних органов, извлекаемых при мумификации, и про жертвенники с углублениями для излияний, смоделированный на нашей кафедре при помощи сотрудников отдела компьютерных технологий, я всегда сажусь в последний ряд и проверяю электронную почту. Но не сегодня. Сегодня я непринуждённо сажусь рядом с ней (через сиденье; на соседнем с ней месте лежит её сумка, и это очень хорошо – такая близость мне сейчас ни к чему), в первом ряду, и делаю вид, что вижу этот фильм впервые. Она смотрит на экран, руки её спокойно сложены на лекционном столике, на правой кисти, между мизинцем и безымянным, темнеет крупная родинка. И Лёня-первый ненадолго уступает место Лёне-второму, позволяя пожирать её глазами, но так, чтобы она ничего не заметила.
Она, конечно же, замечает.
На следующей лекции, про Нефертари, народу больше, он оживлённее, словно некоторая попсовость темы притянула его погрызть гранит науки. Я рассказываю про защитные амулеты из лазурита, ценившегося за глубокий синий цвет неба, считавшегося одной из субстанций тела богов, и смотрю на настоящее божество, сошедшее с небес.
Она тоже здесь.
Через три недели мы пьём кофе в музейном кафе. Она выбирает треугольный кусок морковного торта с оранжевой морковкой на белой глазури, но так любимые Лёнчиком-первым эклеры не лезут мне в глотку. Рядом с ней он отступает, даёт слово второму, потому что только ему под силу совладать с этим взглядом тёмных глаз, с этой линией красных губ, прямотой спины, полупрозрачными колготками в разрезе юбки. Это территория второго. С Клео может справиться только хищник, а наш приличный скромный египтолог относится к травоядным. Чего не скажешь о той, что сидит напротив. Прямо за моей спиной находится служебное помещение, достаточно подходящее для того, чтобы преподать ей развратный урок. Услышать, как трещит по швам юбка, как из лакированного помадой рта вырывается стон, почувствовать, как острые ногти впиваются в спину. Я хотел этого ещё со времён муравейника, отодрать Клео в отместку за то, что она делала, но она улизнула от наказания, а теперь всё изменилось. У той, что сидит напротив, медовый тембр голоса, и он направляет мысли в другое русло. Что будет дальше?
А дальше…
Через полтора месяца мы просыпаемся в одной постели. Клео феерична, она обжигает, как факел, а потом залечивает ожоги холодными поцелуями. Она изменилась; может быть, изменился я. Ещё через месяц она переезжает ко мне. И вопреки всем моим убеждениям я ничего не имею против.
Нам чертовски весело. Если она и заметила Лёнчика-первого, то развивать эту тему не стала. Он старается появляться только на любимой работе, а в остальное время наблюдать. Мы занимаемся всем, что придёт в голову – мою или её. Катаемся по ночам на мотоцикле, рассекая по подсвеченным разноцветными огнями улицам, ходим в ночные клубы, отдаваясь зажигательным ритмам танцевальной музыки, пьём шампанское на завтрак и вместе принимаем молочные ванны. Между нами возникает прочная связь, и Лёнчик-первый даже по-хорошему завидует второму, потому что сам он Клео по-прежнему сторонится. Связь крепнет с каждым днём, и Клео считает, что это любовь, но я не спешу с выводами. Рано или поздно она поймёт, что я не умею любить, по крайней мере, так, как хотелось бы ей. Но она значит для меня больше, чем все, кого я встречал. Она чувствует это, и не расстраивается, когда говорит мне, что любит, но не слышит того же в ответ. Её это вполне устраивает. По крайней мере, так мне кажется. Мне хорошо с ней, и это всё, что ей требуется знать. Я даже думаю, что мы сможем прожить жизнь вместе.
Мне кажется, так будет всегда. Я сильно ошибаюсь.
Кюри
Если бы Филипп держал мне волосы, пока я одаряла унитаз содержимым своего желудка, думаю, рвота была бы ещё сильнее – слишком омерзительно это клише, слишком идиотично, и мне повезло, что мои волосы собраны в хвост и ничья помощь в том, чтобы проблеваться и не запачкать при этом шевелюру, мне не требуется. Проклятый глютен, думаю я. Это может быть только он. Проклятая безглютеновая томатная паста.
Когда я выхожу из туалета, вижу, что Филипп на взводе: таким я его давно не видела.
– Ты могла умереть, – очень драматично говорит он. Драматично и возмущённо. Я даже не знаю, чем он возмущён больше – тем, что на заводе перепутали упаковки, или что там у них произошло, или тем, что он не смог учуять этот подвох и уберечь меня от нежданного врага, тайком пробравшегося к нам в дом. Зато я знаю, что совершенно не хочу никаких разборок, тем более с участием в них Филиппа. Я просто хочу волочиться его буксиром по своёму тихому тёмному туннелю, не делая лишних движений.
– Нет, не могла. Аллергия не настолько сильная. Это не смертельно.
– А если бы было?! Как они смеют так рисковать здоровьем людей?! Тут же чётко написано… Нет, я этого так не оставлю!
Я представляю, как тихий и спокойный Филипп устраивает скандал в магазине, где купил пасту, потом на заводе, где её изготовили и упаковали, а потом всё заканчивается судом и многомиллионными компенсациями. От этих мыслей у меня вырывается смешок, и Филиппу это не нравится. Он слишком серьёзен, чтобы понять мою несерьёзность. Он явно намерен разобраться, доказать свою правоту (и в этом его нельзя винить) и подтвердить своё какое-никакое, а рыцарство (и вот в этом вот стоит винить меня). Только я могу его остановить, и в конце концов у меня это получается. Но я подчёркиваю (может быть, даже слишком), что оценила его стремления.
А вот чего я не могу оценить, так это его постоянных вопросов. Он никак не может понять, почему я не хочу обсуждать то, что со мной произошло, почему отказываюсь пойти в полицию, поговорить с психологом, сделать шаг к восстановлению, как он говорит. И это меня удивляет: ну как можно не понимать таких простых вещей? Когда с тобой происходит дерьмейшее дерьмо на Земле и тебе с трудом удаётся выползти из него живым, меньшее, что тебе хочется, – обсуждать случившееся. Я знаю, что произошло, и мне этого достаточно. Я никогда не смогу этого забыть, не смогу до самой смерти, но это не значит, что я должна воскрешать все подробности снова и снова, чтобы как-то там «восстановиться». После таких вещей не восстанавливаются, но я не собираюсь говорить Филиппу правду. Ни за что на свете.
Точно так же я не собираюсь рассказывать какой-то там полиции, которая ни черта не сможет уже сделать, по сто раз одну и ту же историю. Ненавижу полицию и не хочу соприкасаться с её работой. Особенно после того, что произошло. Это всё равно ничего не исправит. А справедливость, которой так хочется Филиппу, не наступит никогда. И ни полиция, ни психологи, ни сам Филипп – никто не сможет вёрнуть всё в норму. Только я.
И я выбираю молчание. Молчание – моя единственная защита. Не говорить об этом, не вспоминать, не думать ни секунды – только так можно закончить это раз и навсегда. Не продлевать жизнь, дать костру погаснуть. Только так. Никакой воды не найдётся, чтобы его залить, но рано или поздно именно так он и затухнет – в безмолвии.
Филипп считает, что роль защитника теперь (особенно теперь) на нём, и что качественная защита не ограничивается поглаживаниями по спине, горячими ужинами и свежими простынями. Качественная защита требует информации, а я всё упрямлюсь, цежу её микродозами, отказываюсь обсуждать, как я оказалась у его порога и что я делала до этого. Почему в моих глазах было сплошное безумие, почему я не могла вымолвить ни слова, почему у меня до крови была расцарапана грудь. Почему я лежала, не шевелясь, с открытыми глазами, не мигая пялясь в стену. Так много «почему», но я не хочу погружаться в подробности. Поэтому Филипп додумывает всё сам, и в целом он не далёк от истины. Со мной произошло кое-что ужасное, и это нанесло мне непоправимую психологическую травму.
Но, чёрт возьми, она у меня не первая.
А если я начну говорить, то и не последняя.