Пушкиниана Михаила Булгакова. Булгаковские мистерии Очерки по мифопоэтике. Часть V
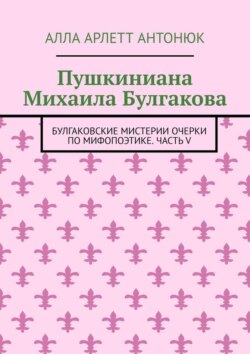
Реклама. ООО «ЛитРес», ИНН: 7719571260.
Оглавление
Алла Арлетт Антонюк. Пушкиниана Михаила Булгакова. Булгаковские мистерии Очерки по мифопоэтике. Часть V
Пролог. «Незримый рой гостей»
Булгаков разыгрывает карту Таро «Мир»
«Обитель дальная трудов»
Прощание с Мастером и Маргаритой
Квесты по Пушкину и Гоголю, Толстому и Достоевскому
Часть 1. Пушкиниана М. Булгакова и ее отражение в романе «Мастер и Маргарита»
Особенности мистики Пушкина и Булгакова
Мессир Воланд и концепт пушкинского демона
Мотив полёта ведьмы на шабаш и другие мистические пушкинские мотивы
Пролог на Патриарших. Пушкинская тема предназначения поэта и поэзии
Мотивы «Пиковой Дамы» в романе «Мастер и Маргарита»
Традиции шахматно-карточной поэтики в романе Булгакова
Игра как мистическое явление
Полёты ангелов и демонов и другие пушкинские мотивы в романе Булгакова М. «Мастер и Маргарита»
«Мастерский» обряд масонов
Разрушение храма как разрушение морали
Пушкинские мотивы «скупого рыцаря» и «рыцаря бедного» в поэтике романа «Мастер и Маргарита»
Трагикомедия скупого «рыцаря»
Отпадение от Древа. Тема предательства
Трагикомедия «рыцаря» бедного
«Памятник нерукотворный»
«Памятник Пушкину» как организующий структурный принцип поэтики романа М. А. Булгакова
Часть 2. Реминисцентная линия Гоголя в романе Булгакова
Н. В. Гоголь о Пушкине
Развитие мистических мотивов Гоголя
Гоголевская тема «мертвых душ»
Часть 3. Реминисцентная линия Достоевского в романе Булгакова
Сны как приём углубления в психологию героя
Культ пушкинского «рыцаря бедного» в романе Достоевского «Идиот» и в романе Булгакова
Синдром «рыцаря бедного» в личном и творческом кризисе Мастера
Часть 4. Реминисцентная линия Л. Н. Толстого в романе Булгакова
Тема войны и мира как истории и метаистории
Тема Суда Пилата над Иисусом
Мир «Мастера и Маргариты» и Вселенная Толстого
Толстой и Достоевский и их противопоставление в романе Булгакова
Эпилог
На ветвях мирового древа
Отрывок из книги
«Я сладко усыплен моим воображеньем». Обычно литературную традицию понимают как прямую линию передачи от автора к автору, от текста к тексту. Но литературная традиция существует и как ноосфера, как аура, как симфония, в которой звучат, расходясь и сливаясь, все голоса всего симфонического многоголосия. Большой писатель слышит их все, различает все лейтмотивы, участвуя в диалоге культур, претворяя их опыт в собственную исповедь. Одна традиция при этом может вбирать в себя другую, обогащая и дополняя ее. Такой процесс подключения к ноосфере Пушкин образно нарисовал в стихотворении «Пророк» (некое переложение книги пророка Исайи), где все три основные сферы мироздания открываются его герою (поэту-пророку) для понимания устройства мира. В подходе к изображению этой сложной задачи Пушкин очень симфоничен, он обогащает библейский образ пророка образами греко-римской античной литературы, в которой также поэт уже понимался как пророк Муз и Аполлона.
Герой у Пушкина получает новый дар – слышать и видеть мир, получает возможность слышать совокупность всех голосов вселенной и сам становится «устами мира». Пушкин своеобразно представлял ноосферу как некую прародину, где живут все мысли и мысле-образы всех когда-либо живших на земле и мысливших образами художников, онипредстпвоял как «обитель дальную трудов и чистых нег». В его странствии к «сионским высотам» («Напрасно я стремлюсь…») слышится это стремление в «обитель дальную» («Пора, мой друг, пора…»), в «родимую обитель» («Воспоминания в Царском Селе»), где картины возвращения поэта предстают как картины возвращения к своему прадому, к своей прародине.
.....
Написанная красивым почерком ещё молодого лицеиста Пушкина, подлинная рукопись о монахе (который в поэме назван «чёрным клобуком»), оставалась в архивах под спудом более века. Прототипом пушкинского святого монаха, искушаемого бесом, считают св. архиепископа Иоанна Новгородского из жития, автор которого неизвестен, но оставивший свидетельства о злоключениях архимандрита и искушающего его беса. Верхом на бесе Иоанн Новгородский также умудрился съездил в Иерусалим, чтобы поклониться гробу Христову и в ту же ночь вернулся (по уговору освободив затем беса от заточения). Бес наказывал святому молчать о их ночном путешествии, но Иоанн не посчитался с наказом беса, рассказав о нем кое-кому, за что. очевидно, и поплатился. Дьявол решил отомстить святому, обличив его в блуде.
Подобные легенды ходили и о Герберте Аврилакском. Упоминая уже в завязке сюжета имя понтифика, дьявол Воланд у Булгакова, очевидно, должен был по замыслу актуализировать эту легенду о неком священнике, вступившем в договор с бесом, ведь именно об архимандрите Герберте Аврилакском существовала легенда, по которой он освободил дьявола из-под стражи – от его тысячелетнего заточения в аду (где тот пребывал, как сказано также в поэме «Монах» Пушкина: «…черный сатана Под стражею от злости когти гложет»).
.....