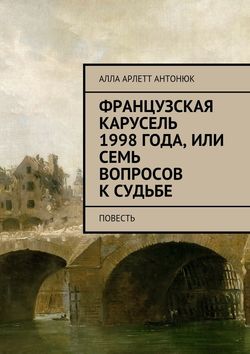Читать книгу Французская карусель 1998 года, или Семь вопросов к судьбе. Повесть - Алла Арлетт Антонюк - Страница 5
Часть 1. Таня
Оглавление***
Точно такая же черепаховая папка, оклеенная упругим коричневым дерматином, с точно такими же магическими оттисками в виде музыкальной лиры вскоре появилась и у меня – после того, как моя мать, преследуемая ревнивыми чувствами, привела меня как-то в начале следующего года на мой первый в жизни экзамен по музыке – видимо, еще и из соблазна сделать из меня музыканта. А может, известную певицу… C этих самых пор образ Тани стал неистребимо витать над моей головой: то паря легкой вуалью в материных рассказах о девочке-отличнице, «у которой даже „четверок“, и то не бывает», то взлетая клубьями эпопей о ее необыкновенных музыкальных способностях. Вместе с бантами мать старательно вплетала в мою косу не перестававшую тревожить меня паутинку тайного интереса к чудной девочке с русалочьими косами, каким-то таинственным образом вплетая ее тайну в мою судьбу. Вскоре эта тайна – сначала как бы нехотя, – но все же начала мне приоткрываться.
Вскоре ключевое слово было произнесено. Впервые оно было сказано моей учительницей по фортепиано. Та неожиданно задала мне как-то этот вопрос, когда я, закончив свой урок и собрав ноты, столкнулась с Таней, выходя из класса, а она в этот же самый момент входила в тот же самый класс тоже на свой урок по фортепиано. И тот, кто таинственно отвечал за этот сценарий, старательно предусмотрел все, даже то, что мы занимались в классе у одного преподавателя. Смутно понимая (как-то совершенно по-своему) вопрос моей учительницы, я не осознавала на самом деле тот факт, что мы с Таней носили одну и ту же фамилию. Я и предположить тогда не могла, что мое искреннее вранье в ответ, было в действительности самой настоящей правдой. Мне так хотелось тогда, чтобы Таня имела ко мне хоть какое-нибудь отношение. Она, так же как и в первый день нашей встречи, покоряла меня своим каким-то упорным тихим достоинством, с каким она, молчаливо пуча свои губки, становилась для меня обладательницей своей тайны, тихо неся ее в себе.
…Временами она была совсем неузнаваема – совершенная щебетунья. Она вполне могла, остановив меня случайно, серьезно заговорить о чем-нибудь пустячном – она как-то быстро и красиво так говорила, оставляя лишь где-то в уголках своих губ тайную гримаску. Это меня сильно поддразнивало и провоцировало во мне непонятное шевеление. Но не мыслей… В то время, когда ключ к моей загадке почти был найден – мне его почти дали в руки, (а ключом к этой тайне было всего лишь одно слово) – до меня совершенно не доходило, как пользоваться и как открывать этим ключом.
Я была тем, совсем еще юным вином, которому долго было еще храниться в ризнице до того, как по-настоящему выстояться к первому причастию. Все было для меня младенческим сном, все спало в этом Замке Спящей красавицы: и ум – воин-солдат, стоявший по стойке смирно на вратах королевства; и мысли-поварята, только-только собравшиеся зажарить на вертеле толстого поросенка, да тут сон и свалил их; и няньки-мамки-затеи, только склонившиеся над принцессой, да так и застывшие надолго в поклоне. И мозг-король, и сознание-королева – все утонуло в этом сонном Королевстве любомудрия. Не шевелился ни один из воинов – ни замыслы, ни идеи, ни намеки, ни аллюзии, даже самые тонкие. Одни лишь чувства очень тихо-тихо просыпались во мне.
Утро. Сырое, но теплое. Я иду тропинкой вдоль берега, мимо огородов, вытянувшихся по пригорку над рекой. Непросохшая глина липнет к подошвам. Берег все выше и выше поднимается над рекой и вдруг становится совсем крутым. С видом гнезда, прилепившегося к этому высокому склону, чернеет на пригорке здание, которое своими снесенными башенками скорее напоминает мне – в обломках мачт и рей – остов потерпевшего бедствие корабля, в причудливых выступах которого, однако, угадывалось нечто необычайное, – чем оно могло бы быть в действительности. Здесь пахло гарью и печеным хлебом. Здесь угадывалась в чреве горы не то пещера, не то погребальный грот, и заваленные камнем входы увенчивались арками. Место странное и несуразное; и таинственное, ходы которого были обследованы мной вместе с местными мальчишками уже давно. Там было как в собственном гробу – царила непроглядная ночь, стояла тишина, и воздух дышал йодистой прохладой.
Я перехожу дорогу и иду мимо высокой садовой скульптуры, которая, как всегда, заговорщицки улыбаясь, встречает меня благословенным жестом на ступеньках лестницы – учитель, раскрывший книгу перед учеником. Я каждый раз вдохновенно смотрю на нее снизу вверх. Потом продолжаю путь вдоль чугунной решетки сада музыкальной школы, обходя все витиеватые выступы в строении особнячка, обнесенного кованой изгородью. Я разматываю, перебирая взглядом ее узор, – ожерелье из размноженных колец со вписанными в них музыкальными ключами. Вдруг узнаю траву на обочине асфальтовой дорожки и туфлей стараюсь сбить с нее обильную росу. В моем сегодняшнем ночном сне, таком волнительном и дразнящем, эта трава была не такая влажная, а наоборот, облита солнцем, и в ней… россыпями блестели… монеты самых различных достоинств. Я чувствую вдруг перед ними необъяснимый трепет и тайное ликование – надо быстро-быстро собрать в мураве весь этот клад. Но ощущение приближения счастья, как это и бывает во сне, сменяется вдруг изумлением, ошеломлением и тоскливым разочарованием. «Фу! Эти до омерзения квадратные цифры на монетах – они исторгают даты „до“ моего рождения». Какой грустный сон! Эти старые монеты неожиданно обращают свалившееся мне богатство в пустопорожность и эфемерность. Разжимаю кисть, и монеты, вот уже столетие как вышедшие из употребления, золоченым дождичком вновь падают в зеленую траву. Глядь! А в траве уже и нет ничего. В траве пусто и сыро. Я туфлей пытаюсь сбить тяжелые капли травяного снадобья.
Иду дальше двориком: мимо старинного окна, из которого несмело доносятся звуки скрипки; мимо фонтана, дно которого давно подернулось тоненьким мшистым ковриком, и наконец, упираюсь в двойную толстую кожаную дверь под портиком, упрямая пружина и массивная, с набалдашником, деревянная ручка которой, словно сговорились меня не впускать. Предпринимаю двойную попытку открыть дверь и сенями прохожу по скрипучим половицам через небольшой светлый коридорчик, – там еще одна дверь, уже более милостивая. Что-то уж слишком тихо в вестибюле… Никого… Ну, конечно, опять опоздала. Смотрю на настенные часы. Не прерываясь в своем ходе, они мирно шагают, великаны в деревянном корпусе с позолоченными римскими цифрами и маятником-сердечком, только-только исполнившие свою рапсодию времени.
Сию минуту из актового зала послышались голоса распевающегося хора. Я делаю вид, будто никуда не спешу. В углу, под часами, высокой балюстрадой отгорожена раздевалка. Вешаю свою курточку под пристальными взглядами технички, которая возится с дровами у большой голландской печки, подметая щепной мусор и пытаясь разжечь огонь. Во избежание укоров и порицаний за опоздание, я незаметно отправляюсь в другую сторону – в странствие по этому темному полусонному дому с высокими лепными потолками, позолоченными карнизами и остатками фресок на потолках, с которых свешивались люстры, тускло освещавшие темные комнаты и коридоры.
Для меня необычайным всегда было это путешествие по огромным темным залам и глухим закоулкам музыкальной школы, которая помещалась в старинном особняке, принадлежавшем когда-то дядюшке знаменитого композитора Петра Чайковского – брату его отца, но маленький Чайковский когда-то жил здесь, приезжая на каникулах к родственникам и играл здесь свои первые детские опусы.
В тусклой освещенности особняка чувствовалось далеко не бесцветное и не банальное его существование, для меня почти на грани земли и неба, дня и ночи, с сильной окраской того, что мы называем неземным. Здание было совершенно удивительным миром, необычайной вселенной: с академическими залами, классами, из которых доносились хроматические гаммы, септаккорды, этюды, полифонии. В таинственных коридорах вместе с голосами преподавателей: Allegro! Forte! Moderato! – они сливались в бурную завораживающую какофонию, из которой потом вдруг выплывала чудеснейшая мелодия. Откуда приходят к нам звуки, магическая и чувственная власть которых погружает нас в атмосферу божественного? Не служат ли они нам элементами, сообщающими нас с небесами, с богами? Ведь кажется, некоторыми чудными мелодиями можно было бы спровоцировать транс.
Есть впрочем, слово, точно позволяющее определить их чувственную и спиритическую власть – экстаз.