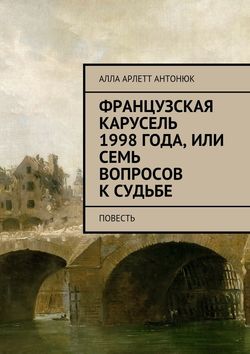Читать книгу Французская карусель 1998 года, или Семь вопросов к судьбе. Повесть - Алла Арлетт Антонюк - Страница 6
Часть 1. Таня
Оглавление***
2
Откуда приходят эти
ароматы, которые так
чаруют и околдовывают?
Все пространство особняка занимали музыкальные инструменты. Они были повсюду: роскошные концертные рояли в залах, старинные фортепиано в классах, иногда вмещавшиеся сразу по два в ряд: и внизу под лестницей, ведущей в мезонин, и наверху, на лестничной площадке – везде было скопление этих удивительно добрых и старых существ. Над ними нависали портреты композиторов – титанов и исполинов с колоссальными бородами, которые смотрели на худеньких учениц глазами столпов. К тому времени, уже не в одной книжке я видела изображения героев с музыкальными инструментами в руках, которые так отличали их от всех других смертных: их голоса казались всегда сильнее других, их таинственная способность извлекать звуки позволяла угадывать в них принадлежность чуть ли не к самим богам. Какое чудо и волшебство, какое пиршество души было открывать тяжелые крышки инструментов и прикасаться к их звучным клавишам.
Тут нужно сказать, правда, что на самом деле в этом возрасте вся музыкальная «алгебра и геометрия» были мне недоступны. Все, что в музыке нужно было постичь умом, еще спало во мне. Но сердцем мне многое дано было почувствовать. Из-за всех мучительных сложностей музыкального разбора пьес, из-за изнурительного чтения неподатливых нот и аккордов, терзающих маленький ум, я бросала иногда ноты и сочиняла сама себе музыку, пытаясь выразить свое чувство красоты и гармонии, как я его понимала. Я садилась за клавиши, и в окружающее пространство обрушивались такие звучные водопады терций и аккордов, такие шумные переливы трезвучий! Потом посреди шквала обрушивавшихся нот, пелена дождя звучания на мгновение спадала, изображая, видимо, мимолётное затишье в природе, и тут же снова октавы лавиной скатывались в пропасть басов, струились трелями восьмушек и шестнадцатых ручейки, разливаясь паводком головокружительной какофонии. Пианистка – уже в настоящем исступлении – заканчивала триумфальным завершающим аккордом свой невообразимый опус, захлопывала причудливый манускрипт и крышку фортепиано и кланялась безымянному зрителю…
И тут она услышала вдруг за своей спиной хрупкие удары в ладоши, сумрачно напоминавшие рукоплескания. Оглянувшись, она и увидела в самом дальнем в углу зала – сидящую на стуле у самой двери – Таню, которая со смешинками в уголках губ, бурно изображала аплодисменты.
– Браво! Ну, и какой композитор все это сочинил? – Лопались от ехидства её слова.
Я, со своим спящим царством в голове, не могла еще слышать всей карикатурности своей игры. В глубине меня, множеством своих труб звучал совершенный орган, словно огромный храм. И благодаря интерференции – игре звуковых волн в нем – те трубы, что были видны зрителю, были лишь малой частью тех, что населяли меня изнутри. В глубине моего храма я слышала доносившийся c нефов, хоров и амвона чудный гимн радости – с переливами веселья и звоном самозабвения. Но трагедия органиста в том и состоит, что он не имеет возможности реально слышать, как звучит его орган в зале, имея лишь превратные представления о его звучании. Для меня тогда, кажется, каждая нота горела, а со стороны это выглядело телячьими восторгами, вдохновенным мурлыканьем и ошеломляющим треньканьем…
– Это Григ. Не слышала? – Немножко грубо и безапелляционно отрезала я, в доказательство показав ей нотную обложку.
– Ну-ка, покажи, покажи, что ты играла? – Не отставала от меня Таня, дразня и словно вызывая меня на поединок.
Она уже подходила к роялю. В это время я открыла наугад страницу, а она, усевшись за рояль, принялась играть партитуру, прыская со смеху.
Почему искусство так непримиримо? Почему так тяжко и больно на душе, когда тебя уличают в том, что ты вовсе не принадлежишь к тем богоизбранным? Я стала отбирать у нее ноты, а она, хохоча, препятствуя мне из всех сил, продолжала играть одной рукой. На потеху, она, кривлялась, и трясла нотными листами перед самым моим носом. Мы чуть не сцепились.
– Я опоздаю на урок, – взмолилась я, забирая у нее свои ноты и наспех засовывая их в точно такую же, как у нее, нотную папку.
Зал имел целых три выхода. Я ткнулась в одну дверь – та была заперта. Мне хотелось заплакать от обиды, пустить слезу, завсхлипывать от нанесенных Таней уколов и шпилек. Я решительно пошла за сцену и, толкнув дверь, что находилась там, в глубине, вдруг неожиданно для себя распахнула ее и очутилась в маленькой каморке. Там было глухо и темно, словно в склепе. Тихие рыдания дробились и застревали где-то поперек горла. Но плакала я уже не от обиды, а от предчувствия той смутной боли, которую что-то всегда неожиданно провоцировало (может быть, темнота?), той боли, которая и на этот раз уже коварно начинала лизать мне грудь языком своего медленного пламени. Но слезы не появлялись. Бессознательно отгораживаясь от этой боли, я стряхнула рукавом две слезинки, нависшие на ресницах, и стала нащупывать дверь в темноте.
Словно в темной церкви, наверху брезжили тоненькие, как игольное ушко, просветы. Свет, лившийся откуда-то сверху, был похож на пробивающийся лучик в темном храме. С какой-то злостью я, царственная пленница, толкнула дверь, и мне показалось, что я грянулась с высоты. Вторая наружная дверь так неожиданно распахнулась, что сноп дневного света, вероломно ворвавшийся вдруг, охватил всe и вся, ослепив меня своим сиянием. Не сразу поняла я, что очутилась прямо на улице. Это был один из черных выходов, дверь которого вела прямо в сад. Кругом царила путаница кустов акации, наполовину уже облетевших. Клены с выцветшими волокнами листвы и кривизной своих стволов дополняли ералаш. Вся земля была завалена сумасбродными сучками, закрученными вокруг черенков листьями, сухими свистульками акаций и крылышками кленовых вертолетиков. В этой же сумятице толклись несколько шишек, видимо, упавших с крыши. Весь навес был в этих шишках, так как неподалеку, словно два кедра на Елеонской горе, росли две тучные сосны. В довершение каких-то загадочных отношений ветра, которые он затеял там, в разросшейся кровле сосны, хрустнув и отскочив от крыши, словно теннисный мячик, тихо, медленно и шурша потекла с крыши в тишину сначала одна шишка, ударяясь о землю, ленивым и тихим, как шепот, шлепком. Легче капли дождя шлепнулась затем вторая – пинг, третья – понг, легко и по-игрушечному, заставив меня запрокинуть голову в дремучие ветви и закружив от этой безумной капели. Ветер – дыхание деревьев, так и пронимал холодом. На самом деле, томительно было стоять под ветром у этой странно распахнувшейся двери: «Ну вот! Пропустила занятие по хору, – подумала я. Наверное, еще и на урок по фортепиано опять опоздала». И чтобы не встречаться больше с обидчицей и вернуть в нормальное положение стрелку часов, которая сегодня, непонятно почему вдруг, взбесилась, – решила вернуться садом от этого черного выхода к парадной двери, обогнув часть особняка. Я перепрыгнула клумбу с нагло-яркими поздними цветами и вышла в аллейку. Дворники, только что игравшие в прятки неподалеку от меня в кустах, разожгли в отдаленном уголке сада моей души костерок, запалив несколько сухих сучьев, коряг, мелких иссыхающих веточек, мгновенно вспыхнувших, и над моим садом закурился фимиам, сладкий запах смол и соков которого, бродивших некогда в цветущих этих кустарниках, слился теперь с горечью дыма.
– «Интересно, успею я еще на урок или нет?» – эта беспокойная мысль свербила меня, запутываясь где-то в солнечном сплетении, мешая насладиться запахом тайны и чуда, которые всегда подспудно связаны с ароматами. Откуда приходят к нам эти запахи, которые так чаруют и околдовывают? Необходимость в них, наверное, идет из самой глубины человеческой природы, выступая выражением чувственности… Ну наконец, вот она снова – парадная дверь. Я не успела открыть ее, как… говор, гомон, гвалт переменки, стук и скрежет лестницы, ведущей в мезонин, тут же полностью отвлекли и поглотили меня в свою стихию. Отклонившаяся на время ось снова встала на свое место.
Когда прозвенел звонок, я вошла в свой класс по фортепиано. У окна за столиком сидела старая сгорбленная старуха. Всегда в одной и той же толстой кофте, никогда не снимавшая своего теплого берета, она, казалось, всегда дремала. В ответ она поздоровалась со мной своим скрипучим, но удивительно молодым голосом, встала, шаркая, направилась к зеркалу, у которого начала поправлять свой берет. Интересно, что она видела там, в отражении, эта вечная Дина Иосифовна? Темное зеркало отбрасывало изображение сморщенной, словно картофельный клубень, дряхлой старухи в длинной кофте, скрывавшей ее всю – никто точно не мог бы сказать, сколько ей лет. Она была так же стара, как и это здание, как этот город, которому так привычна была ее сгорбленная фигура и драгоценный костыль в руке. Длинными пальцами, такими же скрюченными, как и она сама, она держала сейчас в руках свой смешной ридикюль.
Мне казалось иногда, во время урока, что находясь рядом со мной, она дремлет. На самом деле, она слышала все. Осуществляя благословенный свой диктат, она больно била по рукам, заставляя почувствовать, как мертвы, сонны и ленивы были твои пальцы, как их кончики были глухи и нечувствительны к фальши.
С улицы потянуло сладким дуновением, словно фимиам закурился в кадильнице, чтобы погрузить в забвение своими хмельными испарениями. Наверно, какие-нибудь самые первые в мире духи своим происхождением были обязаны богам и именно им они первоначально и предназначались. Какой-нибудь смертный, обращая свои ходатайства к богу и надеясь его подкупить, совершал, этот культовый обряд, поджигая сухие корни, листья и кору деревьев, которые потом испаряли на огне свои пьянящие запахи. Такой запах (ладана или мирры) мог бы, наверно, спровоцировать состояние транса…
Я украдкой бросала выразительные взгляды на Дину Иосифовну, походившую сейчас на Пиковую даму, которая, начав читать, задремала над первой же страницей романа. Но даже полусонная, она властвовала здесь, в этой комнате, не давая ни на секунду расслабиться. На этот раз, я, кажется, играла довольно сносно. Ее глаза почти не размыкались.
Здесь, в классе, было одно тайное место. Вот бы сейчас она вышла ненадолго из класса, можно было бы наверно туда заглянуть. Этим тайным местом была крашеная тумбочка с тугой дверцей. Ей, Дине Иосифовне, благосклонные родители почему-то считали нужным каждый раз на праздники дарить ни что иное, как духи, которыми она вовсе не пользовалась (неужели об этом никто никогда не догадывался?), а прятала и хранила их в тумбочке, на которой висел маленький замочек. Но она не закрывала замок на ключ, и все, кто ходил к ней в класс, знали, что в тумбочку можно было совершенно свободно проникнуть. В первый раз, когда я подверглась этому соблазну, то была совершенно поражена зрелищем, открывшимся вдруг моему взору: как самые красивые сокровища какой-нибудь священной коллекции, из глубины полки на меня глядели две дюжины самых причудливых коробочек: с бархатной и шелковой драпировкой внутри, украшенные золотой и серебряной тесьмой, бахромой и позументами. Налитые драгоценной эссенцией, словно культовые предметы, возлежали эти флаконы и маленькие флакончики, укупоривавшиеся хрустальной пробкой, ограненной в мою мечту: в форме слитков, комет, цветов и птиц, принимая форму моих желаний. Невозможно было удержаться и не вкусить волшебной амбры вдохновенного парфюмера. И только страх быть застигнутой врасплох отрывал меня от этого опасного занятия и долго потом заставлял жить обонятельное воображение. С некоторых пор эта тайна, словно тайна Пиковой дамы, сообщала меня с небесами и определяла чуть ли не всю свою спиритическую власть надо мной.