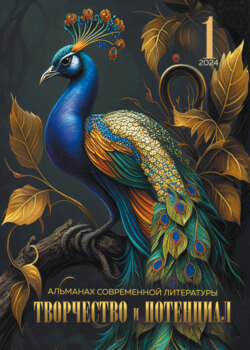Читать книгу Творчество и потенциал. Выпуск 1/2024 - Альманах - Страница 56
Современная проза
Игорь Вайсман
ОглавлениеРодился в 1954 году. Проживает в Уфе.
Член Союза российских писателей. Пишет прозу, сатиру и публицистику. Публиковался в литературном журнале «Бельские просторы», еженедельнике «Истоки», сатирическом журнале «Вилы», Общественной электронной газете Республики Башкортостан, газете «Экономика и мы» и др. изданиях. Рассказы печатались в антологиях современной прозы, изданных в Москве, Санкт-Петербурге, Уфе и других городах РФ.
Автор книг: «Книговорот» (Саратов, 2016), «Постиндустриальная баллада» (Саратов, 2017), «Достоверная история Константиныча, прозванного Антиказановой» (Астрахань, 2021), публицистического сборника «Может ли Россия стать флагманом всего человечества?» (Москва, 2017), «Трактата об обязанностях» (Москва, 2022), «Животные приближают нас к Богу» (Уфа, 2023).
Портрет яркой представительницы отечественной школы семейного воспитания
(отрывок из романа «Достоверная история Константиныча, прозванного Антиказановой»)
В каких семьях рождаются незаурядные личности и что представляют из себя их родители? На сей счёт история сохранила информацию только о маме нашего героя. Кем был тот счастливец, которому удалось зачать уфимскую знаменитость, не удалось выяснить даже самым искушённым краеведам. Итак, его мама, Вероника Анатольевна, была исключительно энергичной женщиной: инженером НИИ, профсоюзным активистом, членом родительского комитета школы, всеми уважаемой, всеми ценимой и прочая, и прочая. Что же касается воспитания единственного отпрыска, отрады, надежды и счастья, то в этом она оказалась типичной представительницей советской школы, когда отцы полностью отстранялись от воспитательной функции либо их, отцов, и вовсе след простыл, а матери полагались не на выводы мудрейших представителей цивилизации и последние достижения педагогической науки, а на собственный опыт. Этот опыт сводился к тезисам:
– У меня было невесёлое (голодное, холодное, нищее) детство. Но у моего чада так не будет! Я расшибусь, но достану ему всё!
– Я перестану себя уважать, если у моего ребёнка не будет чего-то, что есть у других детей. (Разумеется, речь шла отнюдь не о наполнении черепной коробки, а об игрушках, книжках, одежде, обуви, пище, школьных принадлежностях и далее в соответствии с потребностями возраста.)
– Мой ребёнок, сколько бы ему ни стукнуло, даже совершенно лысый или седой, со вставной челюстью и негнущимися коленками, останется ребёнком всегда! И пока я в состоянии хоть как-то передвигаться, он будет накормлен, одет, обут, постиран, поглажен и т. д. и т. п.
Данная педагогическая система, выработанная по наитию, непонятным образом, без рекламы, интернета, сотовой связи и лоббирования высоких инстанций покорила города и веси необъятной страны. Она творила чудеса. В стране повального дефицита люди умудрялись иметь всё необходимое и даже то, чего не следовало иметь. То, что находилось в их холодильниках, сервантах и шкафах, невозможно было увидеть на прилавках магазинов. Но воспитаннее ли, умнее, просвещённее от этого становились их дети? Таким вопросом советские матери почему-то не задавались.
Справедливости ради нужно сказать, что профессиональные педагоги не давали всех этих советов. Они доказывали, что суть воспитания заключается в привитии самостоятельности и ответственности перед собой, людьми и обществом. Но мамаши решили, что они лучше знают, как воспитывать: «Пусть эти педагоги своих детей так воспитывают! А это мой ребёнок, и я не позволю!.. Я сама знаю, что ему нужно!» И такая педагогика победила. Преодолев толщу десятилетий и все перипетии эпохи, она успешно передалась современным российским женщинам. Страны давно нет, а советская система домашнего воспитания цветёт и благоухает. Её всходы дают богатый урожай – иному выпускнику школы обожающие родители дарят автомобиль. Но при этом такой выпускник не в состоянии один раз подтянуться на перекладине, ибо никогда не держал в руках чего-либо тяжелее пульта от телевизора. Он не знает, кто такой Сократ, никогда не читал Петрарку и понятия не имеет, чем отличается опера от оперетты. Постсоветские мамаши подняли доставшуюся в наследство домашнюю педагогику на куда более высокий уровень. Прослышав о так называемом золотом миллиарде, который будет жить и процветать даже тогда, когда весь мир провалится в тартарары, они заявили: «Я лягу костьми, но мой ребёнок будет в этом миллиарде! Оставьте себе всяких там Пушкиных, Чайковских, Эйнштейнов. Мне дорог мой ребёнок, и он будет в золоте!»
Шестьдесят лет спустя
Здоровье Вероники Анатольевны становилось всё хуже. Когда она совсем слегла, одна из её подруг посоветовала пригласить для беседы знакомого священника. «Он очень образованный и простой в общении, – заверила она. – С ним можно говорить на любые темы». Душа бедной женщины болела за непутёвого сына, поэтому исключительно ради него, а не для того, чтобы покаяться в своих грехах, она согласилась принять столь необычного гостя.
Священник, представившийся отцом Никифором, оказался совсем не старым, а бодрым, энергичным человеком с ясными серыми глазами.
– Вы уж простите меня, что отрываю вас от дел, – слабым голосом произнесла Вероника Анатольевна. – Чувствую, недолго мне осталось. И очень я беспокоюсь, что станет с моим сыном. Он у меня совсем неприспособленный.
– Не переживайте, помогать нуждающимся и есть наше дело. А что с сыном? Пьёт, поди?
– Нет, никогда не пил. И не курил. Непутёвый он у меня. Всю жизнь опекала его, как маленького: в университет устроила, на работу, кормила, одевала, обстирывала… и всё без толку. Ничему он не научился, семьи не создал, никого у него нет, работает охранником за копейки…
– Мне бы с ним побеседовать, – сказал отец Никифор. – Чтобы иметь представление. Тогда и совет смогу дать. Я в семинарии психологию изучал, думаю, что смогу разобраться, что к чему.
– Так побеседуйте. Он на кухне сидит.
Священник отсутствовал почти час. Наконец в дверь спальни тихонько постучали.
– Не стоит вам так печалиться, голубушка, – успокоил хозяйку отец Никифор. – Сын ваш довольно типичный представитель человеческого рода.
– Что вы говорите! – удивилась мама непутёвого отпрыска.
– Как есть говорю. По большому счёту, он себя не нашёл. А что, разве многие другие себя нашли? На работу ходят из-под палки. Живут без согласия и понимания промеж собой. Про то, чтобы любить друг друга и прощать, я вообще молчу. Жизнь многих людей – чистая бессмыслица. Они понятия не имеют, для чего живут, куда стремятся. Прошёл день – и ладно. И вся жизнь их так и проходит. А ваш сын, он живёт мечтами. Мечтает жить хорошо, без хлопот и неприятностей. И непременно с красавицей. Но так, чтобы при этом ничего не делать, не добиваться, не напрягаться. Чтобы всё получалось само собой, как у Емели на печи. Конечно, таким путём маловероятно чего-то добиться. Только я вам скажу, и в этом ваш сын вполне типичен. Особенно среди наших соотечественников. Разве в нашем брате не живёт вековая мечта жить в раю на всём готовом, в полное удовольствие? Не стремясь к этому, палец о палец не ударяя? Всё за них должен делать «добрый дядя». Масса нашего народа – это поголовные мечтатели. Не зря ведь Гоголь создал образ Манилова. А сказок сколько: про волшебную щуку, золотую рыбку, волшебную палочку, цветик-семицветик, старика Хоттабыча. Вы ведь большую часть жизни прожили при советской власти? Вспомните, как в народе представляли «светлое коммунистическое завтра»: этакая страна лентяев – на работу ходить не надо, всё делают роботы. Так же и дома – роботы готовят, убирают, стирают, ремонтируют. А ты лежишь себе на диване и открываешь рот, чтобы покушать с ложечки. Недаром и страну нашу называют страной взрослых детей. Такими безответственными к собственной жизни бывают только дети. Так что напрасно вы печалитесь. Хорошо ещё, что ваш сын не озлобился, как многие другие. И не стал заливать неудачи «горькой». Да он и не глупый. Вполне нормальный. Внутреннего стержня нет, это да. Но я думаю, не всё у него ещё потеряно. Вполне возможно, найдётся женщина, обжёгшаяся по жизни, которая обратит на него внимание. И она продолжит вашу опеку. Так иногда бывает.
– Он у меня несамостоятельный, – возразила Вероника Анатольевна. – Боюсь, пропадёт без меня.
– Он несамостоятельный из-за вашей опеки. Как только её лишится, сразу возьмётся за ум. Ему деваться некуда будет.
– Ума не приложу, в кого он такой, – продолжала Вероника Анатольевна, похоже, не поверив священнику. – Я-то ведь совсем другая была.
– А тут прямая связь. Вот если бы вы всё за него не делали, а, наоборот, развивали в нём самостоятельность, он бы сейчас был совсем другим.
– Но как же, единственный ведь сын!..
– А что, разве единственному сыну лучше ничего не уметь и целиком зависеть от мамы? Или всё-таки быть инициативным и самостоятельным?
– Ох-хо-хо… – выдохнула женщина и задумалась.
– В воспитании что главное? – продолжил священник.
– Не знаю, – вздохнула больная.
– Почему не знаете? Развить в ребёнке самостоятельность – вот что главное.
– Да? Я как-то об этом не задумывалась.
– А надо задумываться. Обратите внимание, как происходит у животных. Как только дети вырастают, родители перестают о них заботиться. Дети к этому времени уже способны к самостоятельной жизни. Поэтому животные здоровы и самостоятельны. Не чета нашим соотечественникам. Разве вы об этом не думали?
– Н-нет.
– И плохо. Природа – это наш бесплатный учебник. Это не школа, не университет, это академия. Надо только наблюдать, думать и делать правильные выводы. Делая всё за сына, вы саму себя воспитывали и учили, а не его.
После долгого молчания Вероника Анатольевна спросила:
– Как вы думаете, отец Никифор, я сильно согрешила?
– Не беспокойтесь, я за вас помолюсь.