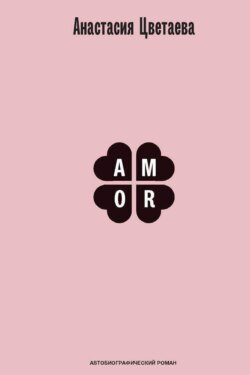Читать книгу Amor. Автобиографический роман - Анастасия Цветаева - Страница 2
Станислав Айдинян
Роман Анастасии Цветаевой «Amor»
ОглавлениеА. И. Цветаева – признанный мастер русской художественной мемуаристики, автобиографического жанра. Уже первые её прозаические книги, вышедшие в эпоху Серебряного века, были автобиографичны, построены на дневниковых записях.
Есть книги, в которые чем дальше вчитываешься, тем глубже в них погружаешься. К ним относится роман Анастасии Ивановны Цветаевой «Amor», персонажи которого будто двигаются по шахматной доске прожитой ими жизни. Роман не выдуман, а «додуман», «дочувствован», достроен из жизненного материала, из того, что действительно было… Он – плод преображённой эмоциональной памяти.
«Amor» создавался в много этапов. Первоначальный вариант родился в 1938–1939 годах, когда после ареста в 1937‑м Анастасия Ивановна была тройкой осуждена на десять лет исправительно-трудовых лагерей. Уже в лагере после тяжёлых физических работ её взяли в сметно-проектное бюро. Там она общалась с прототипом основного героя романа. Писала на папиросной бумаге, которую в лагере выдавали курящим, и через вольнонаёмных передавала частями на волю. Но многие страницы до Москвы не доехали, их выкурили по дороге. Анастасия Ивановна рассказывала: «Когда я вновь была арестована, была в Вологде и потом сослана навечно, следователь, который прочёл страницу из „Amor“, сказал: „Я посмотрел его, это культурная ценность. Можете взять с собою в ссылку. Я сказал солдату, чтобы он положил рукопись в ваши вещи“. Но он не учёл, что по дороге будет шмон. Именно это слово однажды мелькнуло в его обычно аккуратной, разливчатой речи. И вот я была поставлена к стене. Потом заперли в бокс. И там я поняла: чтобы сохранить, надо положить бумаги в другой мешок и на дно. Тогда рука, дойдя до дна, наткнувшись на слой материи, может и не заметить, не прощупать бумагу. А знаете, что тогда в тюрьме значила бумага?.. Страшное дело. Это всегда повод для проверки. Но судьба сохранила мне „Amor“».
Собственно, роман «выжил» чудом. С обширной перепиской героев материалы к роману составляли около 1000 машинописных страниц. Анастасия Ивановна уже на воле расшифровала практически нечитаемую рукопись, переписала её. Дала промежуточное название: «Руины романа». Годы спустя возникла надежда напечатать текст в одном из журналов в Эстонии. Для этого Анастасия Ивановна убрала все лагерные реалии. Потом, к 1990 году, наоборот, вернула их и ещё дописала отдельные лагерные сцены и мелкие подробности.
«Amor» – настоящий психологический роман с перемежающимся действием, разными сюжетными линиями, со сложной фабулой, объединённой личностью «лирической героини», от лица которой ведётся повествование. Реальный прототип – сама Анастасия Цветаева, романное имя которой – лёгкое, летящее имя древнегреческой богини Победы – Ники. У мраморной фигуры этой богини, что стоит на лестнице в Лувре, нет головы и рук, но есть огромные крылья… О ней Анастасия Ивановна впервые услышала в детстве от своего отца, профессора-античника, искусствоведа и эпиграфика И. В. Цветаева, издавшего в 1890–1894 годах три выпуска «Учебного атласа античного ваяния». В основанном им Музее изящных искусств стоял гипсовый слепок статуи Ники Самофракийской в натуральную величину.
Заглавие книги имеет тоже античное происхождение – от латинского «Любовь»… «Amor est vitae essentia» – «Любовь – это суть жизни», – утверждали римляне в давние времена. Анастасия Ивановна говорила, что, давая книге имя «Amor», имела в виду любовь не в чувственном, а в подчёркнуто духовном смысле. На протяжении всего основного действия идёт своеобразный «диалог судеб» между героиней и начальником сметно-проектного бюро Морицем, человеком, который затронул её глубины, заинтересовал как неординарная личность. Мориц – энергичный и эрудированный, волевой и эмоциональный. Однако в нём проявлялись порой и моменты душевной глухоты. Её ужасало, возмущало в нём то, что он живёт без борьбы с собой. И Ника, как и Анастасия Ивановна, верная себе, ведёт бой за душу Морица, пытается звать за собой ввысь…
Ключом к «роли» образа героини в романе могут послужить её слова: «Но ведь это ужасно – быть таким человеком, как я, таким восприимчивым, так входящим в чужую душу… какое-то качание на волнах…»
Через все пережитые разочарования Ника чутко стремится к познанию людей, её окружающих, к откровениям их внутреннего мира. Она по призванию писатель. Тут особенно приоткрывается назначение образа Ники, – она не только персонаж, не только действующее лицо, но и трансформированное отражение автора в книге, образ Ники уже предстаёт как художественный «автопортрет» на фоне её трагической судьбы, в буре её взаимодействий с героем романа, с Морицем.
Почему этот противоборствующий диалог двух волевых, даже своевольных натур получился столь живым? Потому что ткань романа соткана с редкой энергией чувства, его полноты… И ещё, по словам автора, она старалась углубляться в психологию героев, писать психологически, – роман в полной и решающей мере густо настоян на психологии, столкновении жизненного восприятия героев. Говоря о романе, Анастасия Ивановна настаивала именно на таком его понимании…
Мориц и герой, и антигерой. Он привлекает и отталкивает. С одной стороны, с подчинёнными бывает резок, нетактичен. С другой стороны, в нём – страстная погружённость в работу, забвение себя ради поставленной цели.
Контрастом к его грубости и жёсткости он же в момент отдыха может стать обворожительно любезен, остроумен – «просто другой человек», удивляется Ника и убеждается, что Мориц соткан из противоречий и этими поворотами характера её притягивает, хотя и не отдаёт себе в этом отчёта. Притягивает он полнотой жизни, которой веет от него, полнотой действия – каждого, до победного конца, в нём воля, безжалостная к другим в своём самоутверждении…
Автор даёт подтверждение нашему наблюдению в той главе, где говорится о кратковременном застое дел на стройке, о затишье, которое переживает деятельный Мориц. «Почему-то и время медленно течёт сегодня… Вот было одному дню покоя случиться, как бы насильственному дню отдыха, – и уже нечего делать Морицу, уже всё перепробовано, перечувствовано, вспомнено, уже скоро начнётся: скука! Уже рукой подать до того, что потянет назад, в работу, в ритм и азарт труда… Всё это Ника, должно быть, наглухо пришивает к шубке – так она крепко об этом думает и так крепко сшивает старый мех. Странно, но это так – ей сейчас хочется того Морица, с токами высокого напряжения! Но от этих токов – пропадёшь, потому что они – грубой фактуры, от них кидает то в жар, то в мороз, и постижение их при всём стремлении к человеку – есть сплошное расставание с ним. Этот, который сейчас так лиричен, изыскан и возмещает сторицей то, чего тогда – жаждалось, делает это сейчас слепо: лиризм в такой неразбавленной степени предстаёт Нике – слабостью. Она им, сама не доосознавая, – обкормлена. То, что было бы добродетелью для Скупого рыцаря, у его расточителя сына – порок. У Ники – тоска и тончайшая ревность к отсутствующим доблестям того Морица».
Да, многоопытную Нику в Морице пленяют не только всеотдающая самоотверженность, темпераментный порыв, «ярая» мужественность. Но это любование сопряжено и с сочувствием, с печалью. Не только потому, что Мориц лишён свободы. Он ещё и болен, у него туберкулёз. Лишь позже искушённый читатель станет приглядываться к Морицу и увидит в его страстной погружённости в работу не только врождённый темперамент, но и болезненную горячность.
И этим он совпадает со своим реальным прототипом, которого Анастасия Цветаева встретила в лагере. Звали его Арсений Аркадьевич Этчин (27 февр. 1901 – 2 июня 1946). Участник Гражданской войны, член ВКП(б) с 1919 года. Был следователем, работал под руководством Н. В. Крыленко (до 1921 года), был секретарём-референтом народного комиссара иностранных дел Г. В. Чичерина (до 1924 года). От него ушёл работать в Нефтесиндикат. С 1937 года по политической статье отбывал срок на Дальнем Востоке, в лагере, где томилась в заключении А. Цветаева. От А. Этчина остались печатные труды, хранящиеся в Российской государственной библиотеке: «Рационализация у капиталистов и у нас» (Москва; Ленинград: Гос. изд-во, 1927), «Партия и специалисты» (Москва: Московский рабочий, 1928), «О единоначалии» (Москва: Московский рабочий, 1930).
Мне, автору предисловия, приходилось дважды встречаться с вдовой А. А. Этчина, Ольгой Яковлевной Этчин, которой посвящён роман. Она немало рассказывала о муже, о его сотрудничестве со многими крупными организаторами промышленности и строительства, в первую очередь с родным братом партийного руководителя Украины, виднейшим государственным деятелем, членом ЦК ВКП(б) Иосифом Викентьевичем Косиором (1893–1937), у которого был секретарём по хозяйственным делам, с ним ездил в 1929 году в США. Рассказ Этчина-Морица об этом путешествии отражён в «Amor». После поездки он по инициативе некоего Берицкого встречался с И. В. Сталиным, чтобы рассказать ему о том, что видел в поездке. В 13-м томе собрания сочинений И. В. Сталина имеется письмо тов. Этчину от 27 февраля 1931 года о «внутрипартийных противоречиях», в котором вождь отвечает на четыре вопроса, к нему А. А. Этчиным обращённые, говорит и о том, что получил его брошюру, хотя «прочесть не смог (некогда!)».
О. Я. Этчин свидетельствовала: «У нас всегда народ собирался. Арсений любил общение с интересными людьми. Талантливых людей очень уважал, понимал. Умел с ними говорить, помогал им». Называла в круге его общения Андрея Белого, Исаака Бабеля, дома у которого бывал с женой; скульптора Нину Петрову, легендарного оператора советского кино Эдуарда Тиссе, авиаконструктора Андрея Николаевича Туполева. Этчин был и журналистом, писал под фамилией Ольгин (взяв, по примеру друга, писателя Владимира Лидина, псевдоним от имени жены). Статьи Этчина-Ольгина – подвалы и передовицы – можно найти в газетах «За индустриализацию», «Правда», «Известия», особенно в период работы под началом И. В. Косиора. Этчин писал тексты и за него, в этом случае гонорары за статьи они делили.
Ольга Яковлевна рассказывала: «Исаак Бабель очень Арсением интересовался. Видел в нём современного, образованного, разностороннего, активного человека. Каждую неделю приезжал в Хорошёвский бор. Увозил в Горки к жене сына М. Горького, Максима Пешкова, там мы встречались с ней, с Надеждой, невесткой Горького. Там Арсений очень много проводил времени. Возил меня домой к Бабелям».
Когда Арсения арестовали, не имея постоянной работы, Ольга Яковлевна устроилась торговать газированной водой в парке культуры и отдыха, за копейки. Увидев её, И. Э. Бабель подошёл. Сказал, узнав: «А я смотрю, вы, не вы…» Она ему пожаловалась, что её учили обманывать отдыхающих. «Вас обманули, и вы обманывайте!» – он имел в виду, что Арсений Этчин тогда уже был арестован, и это был, по его мнению, своего рода обман. И при этом о Сталине Бабель сказал: «Он посадил Катаева, а я буду его славить?» Бабель имел в виду своего друга, писателя Ивана Ивановича Катаева (1902–1937), советского писателя, который был обвинён в участии в контрреволюционной террористической организации и приговорён к ликвидации Сталиным, Молотовым, Кагановичем и Ворошиловым, чьи подписи стояли на титульном листе расстрельного списка из 81 фамилии. Потом был осуждён и казнён и сам И. Бабель.
Ольга Яковлевна повторяла, что А. И. Цветаева своей опекой и заботой продлила Этчину жизнь. Анастасия Ивановна при мне так надписала номер журнала «Москва»: «Дорогой Ольге Яковлевне Этчин, продолжение романа, где Ваш муж занимает одно из главных мест. Вы читали? (или прочтёте) описание Вашего лица, в которое глядела я, автор, полвека назад… С любовью А. Цветаева на 96 году. 23.05.90».
В проектно-сметном бюро на стройке рядом с Морицем – работает в романе Евгений Евгеньевич, конструктор и изобретатель, дымящий французской старинной трубкой «жакоб». Образованный, воспитанный. У него, как и у Морица, был реальный прототип – Фёдор Фёдорович Попов, как рассказала Анастасия Ивановна, «изысканный человек. Я даю живой кусок жизни. Мы все вместе ехали в этапе. С ним и с Этчиным». Евгений Евгеньевич – своего рода антипод главного героя. «У Морица – естественность дикаря! – вспоминала она слова Евгения Евгеньевича. – А то, что он взял от культуры, связало его по рукам и ногам – вместо того, чтобы ему дать свободу! Мориц – весь ложный, – сказал он ей тогда, в час откровенности, когда ещё не знал, что скоро Ника станет Морицу – другом». Однако Мориц, несмотря на взаимную неприязнь, стремится ради интересов государства продвинуть изобретение Евгения Евгеньевича, сделать так, чтобы в верхах о нём узнали, проявляет при этом благородство, чем вызывает ещё большее уважение у Ники.
Когда Евгений Евгеньевич балует Нику уютными историями из своего детства, стройка, строительный фон, и так не слишком подробно описанный, исчезают, превращаясь в еле различимую теневую абстракцию за плечами героев.
Вообще пришла пора отметить одну важную особенность романа: развитие действия с первых страниц происходит в ограниченном пространстве – в бараке, в помещении проектно-строительного бюро лагеря или вблизи него. Рассказы героев об их прошлом выносят нас за пределы этого постоянного места действия, арены конфликтных ситуаций и порой острых диалогов. Отсюда своеобразная камерность романа, подчёркнутая тем, что на двух основных героях сконцентрировано развитие действия. На Морице, когда он рассказывает Нике о своей жизни, на Нике, когда она говорит или пишет Морицу – о своей. Остальные события в окончательной, сокращённой авторской редакции романа служат иллюстрацией взаимоотношений основных героев.
Говоря о романе в целом, надо сказать, что камерность его подчёркнута и тем, что облик героев не слишком согласуется с нашими традиционными представлениями об инженерах-строителях, о технической интеллигенции. Недаром проектно-сметное бюро на зоне называли «Дворянское гнездо». Может быть, потому в характеристике персонажей не звучат диссонансом эпитеты «грациозный», «элегантный», «изящный»… Но пусть не вводит в заблуждение эта чисто внешняя «непохожесть» – в их действиях, репликах, поступках сквозит естественность, правдоподобность, порой – страстность, они сердечны, человечны.
Показателен следующий фрагмент романа из предпоследней его редакции. «Ника шла по зоне, возвращаясь из кухни, где по доброте нового повара ей удалось испечь на сковородке печенья для Морица из присланного женою его в недавней посылке комочка гусиного сала, засунутого в стеклянную баночку, – это была драгоценность, с трудом раздобытая для больных лёгких мужа, но Мориц, как все чахоточные, ненавидел сало – но в печенье съест его, не узнав. Она шла по мосткам у самого края зоны, вдоль рядов колючей проволоки, взгляд её поднимался на вышку, одну из четырёх, где четыре вохровца в военной форме стерегли их лагерную точку.
Ей вдруг стало ясно, почему и Евгений Евгеньевич, и Мориц рассказывают столь жарко о своём прошлом, о далёком детстве: им довлела их жизнь на воле крепче, чем реальность сегодняшнего дня; несмотря на неприглядность, этот долгий бредовый день когда-нибудь кончится. Они вернутся в своё, дорогое, недожитое…
Но эту отрадную мысль прервал лай сторожевых собак, бегающих у рва, вокруг зоны. Ника уже входила в барак».
Мориц и Евгений Евгеньевич интересуют Нику потому, что в них есть то свойство души, которое люди называют – полёт. У Морица душевно полёт несколько выше, и потому отклик на него в Нике – больше, громче… В нём, в его словах, порою бывали ноты этого полёта…
«Кто знает, где похоронен Григ? – спрашивает Мориц, допивая последний глоток чёрного кофе. – Совершенно один, на скале, на острове, посреди моря. (Так вот он какие вещи понимает, Мориц… отзывается в Нике.)»
И Ника постепенно, от страницы к странице романа, всё более тянется к Морицу. О, как воспринимает она его рассказ о рискованной автомобильной гонке над пропастью, участником которой был Мориц во время своего заокеанского путешествия. Он так заканчивает свой рассказ: «…и шофёр домчал!..
Поза, лицо Морица – словно он проснулся, из яви ещё раз в явь, ещё более явную, городской человек! Страстный любитель городов Европы, всего самого последнего, самого острого, азарт, риск, игра – вот что было центром этого человека! И всё-таки Нике за себя сейчас стыдно – за то, что он её так взволновал рассказом об этой гонке: при победных словах – и шофёр домчал! – в горле, как в детстве, – судорога (ещё миг – и к глазам – слёзы?). В том, что никто не мог так пережить эту гонку, только они оба, было их наедине среди людей в комнате, как будто они вместе мчатся сейчас по Парижу, – его обращение к ней, он её избрал себе в спутники! Ника боится взглянуть на Морица, потому что он может – понять».
Здесь уже отчётливо звучащая жажда единения с ним, уже полюбленным ею. Мастерство Анастасии Цветаевой в том, что она неброско, даже незаметно создаёт с помощью множества кроющихся в тени повествования мотивов ощущение неизбежности углубления чувства Ники к Морицу…
И вот героиня, прожившая, как мы узнаем, жизнь, полную романтических порывов, увлечений и трагических перепутий, вновь переполнена тем, что названо ею «проклятой женской потребностью быть любимой и кого-то любить – одного».
Вновь воспаряет она на крыльях чувств на ту головокружительную высоту, туда, где уже не хватает дыхания и откуда столько раз ветры жизни уносили её на острые камни одиночества и тоски…
Не называя имён (не специально ли – узнать, прочувствовать по реакции), Ника рассказывает Морицу, что говорят о нём в бюро, – о том, что, по мнению многих, он ярый бессовестный карьерист. И далее одно за другим обвинения с чужих слов. И вот как звучит ответ Морица: «Мориц выслушал с тонкой, чуть озорной улыбкой. „Карьерист!“ – говорит он. Одно только слово – но Ника уже пленена его тоном. Надо слышать, как он говорит его! Точно школьник подкинул в небо маленький чёрный мяч! Он вскинул узкую сребро-русоволосую голову (или ей кажется, что он сильно седеет?). „Продвижение по лагерной службе!“ Здесь хотеть „продвигаться“… – и быть бы начальником какого-то… проектного бюро! Он смеётся, чудесно блеснув зубами, и упоительная насмешливость трогает его черты. „Надо быть… моллюском! – говорит он. – Надо было никогда не видеть этого голубого неба, – он чуть поднимает лицо в сияющую, воздушную глубь, – чтобы так говорить“… Конца фразы она не запоминает. Пронзённая её началом, она смотрит на сказавшего её; кончено! Больше ничего ей не надо! Она поверила этому человеку – навек. Он спохватывается: идти. Она спохватывается, что идут люди, – и вообще, что есть мир».
Вот эту жажду прозрения в человека, в его сокровенную суть и несёт Ника по жизни и… по страницам романа. У неё сильное эмоциональное восприятие мира, «на волнах» которого несётся её жизнь меж скал и подводных течений – холодных и тёплых.
В жажде чутким «ухом души» приникнуть к Морицу, несмотря на его срывы в грубость и на прочие несовершенства, она всё равно увлечённо приближается к нему. Просит его рассказывать ей свою жизнь – от начала, от истоков, сказав, что собирается написать поэму о нём. Под предлогом литературного «дела» (не скуки ради!) Мориц раскладывает перед Никой пасьянс своей судьбы. Но за литературным «делом» и со стороны Морица, и со стороны Ники встаёт чисто человеческая пристрастность – в оценках прожитого. Без такой пристрастности, кстати сказать, нет настоящего литературного произведения. Чтобы глубже познать героя будущей поэмы, Ника с первого вопроса направляет его на глубоко личную, интимную сторону жизни.
«– Я решила: я буду писать о вас – поэму, – говорит Ника Морицу. – Но мне нужен материал. Дайте мне как бы краткий обзор ваших встреч с людьми – и любовных, и вообще важных, – а потом выберу то, что мне надо. Любовь – если не было, страсть. Дружба…
– Видите ли, Ника… – Мориц, встав, стоял спиной к окну. – Вы оперируете словами „страсть“, „любовь“. Хотите знать „главное“?! Я не знаю! Может быть, главное было, – то есть всего сильней, – то, что не получило воплощения. Один взгляд! Я сразу узнал, что это – именно то (что – я не знаю), но те глаза обещали всё то, чего не было у меня в жизни. Я вообще не смогу осознать, как много я потерял, что эти встречи не сделались жизнью… – Он теперь шёл по комнате, глядя вперёд и вверх, стремительный, упругий и лёгкий голос виолончельными звуками шёл за ним. – Не помню черт. Взгляд! Он и сейчас стоит передо мной.
„Вот его доминанта! – ещё раз императивно сообщает она себе. – (Хотя он говорит об этом торопливо, может быть, уже каясь, что сказал…) – Вот фундамент поэмы, не забудь! Не отвлекись по пути, запомни. Ключ! Те, кого он любил – терпели не меньше, чем я, которую он не любит. Его „да“ были – нет“.
Она готова уже почить на высотах, предлагаемых ей этой мыслью, но легко, мотыльком, порхнуло: „…а есть ли у него – душа?“»
Это – вопрос вопросов романа. Разбираясь в Морице, Ника ближе подошла к нему. Когда Мориц рассказывает о своих привязанностях и связях, он настораживает Нику. Не кажется ли ей, что он больше говорит о чувствах женщин к нему, а не о своих к ним? Не веет ли чёрный плащ эгоцентризма за его плечами?.. Она всходит по ступеням подробностей в рассказываемую ей жизнь, восходя к сути его личности. Ей трудно сдержаться, когда он рассказывает, что во время Гражданской войны в холоде и недостачах с трудом доставал дрова, растапливал печь и варил молоко для его преданной жены. «Вот этого я никогда ни для кого больше не делал! Это было в моей жизни – раз…» Нике, привыкшей бросаться на помощь людям, нелегко понять Морица. Он уточняет: «…Я не забыл это не потому, что это было мне трудно, а потому, что это шло вразрез со всем жизненным складом!» Дело было именно в том, что при своей страстной и гордой натуре он не показывал своих «забот о близких»! Она тут поняла его беспомощность «перед роком своего нрава», перед собственной гордостью, этим вечным благородным пороком…
Сомнения Ники достигли апогея, когда в пылу психологического пристрастного анализа она в стихах, к Морицу обращённых, выдала свою увлечённость им, пошла на фактическое признание, и он стал уклоняться… Вот характерный фрагмент:
«– Я очень трудный человек, Ника…
В её сознании метнулось: „Маленький человек!..“ Она бы, кажется, ему простила: и то, что он равнодушен к её душе, возьми он человеческий, тёплый тон, назови он вещи их именами, хоть только по-братски. Он снял бы с неё половину её тяжести. Но он отступал, отклонялся, отнекивался. Он думал о роли. Не о существе дела! Он думал не о ней – о себе. Человек, не способный быть даже братом, – что же это за человек? „Даже братом“. Но это же очень много, это же драгоценнее – так многого…
Но он говорил, надо было слушать.
– Вы сказали, что я жесток. Может быть. Человек не сделан из мрамора… Когда узнаёшь, что человек тебя… – он поискал слово и, неволимый тем, что за спиной кто-то вошёл, и, может быть, потому, что английский язык в данном пункте был пластичней русского, – „likes you“ (глагол „нравится“), удачно избегнув „loves“ („любит“). Вы однажды спросили меня, два ли во мне человека. Я думаю, во мне много людей… Я не чувствую, чтобы я был мистер Хайд, но ведь я и не доктор Джекиль… Всё – проще. Вы преувеличиваете меня!
Ей было немного стыдно, как за провалившегося на экзамене сына»…
Конечно, Ника страдала, когда Мориц не может раскрыться и откликнуться навстречу её жажде понять, старается «обозначить границы». В ней, помимо её воли, чувствуется тень обиды на собеседника. Мы чувствуем, что она почти оскорблена как женщина. Чувства брали верх. Чувства возобладали над её пониманием. Ей стало изменять не самообладание, а способность «вживаться», становиться на точку зрения Морица, а следовательно – до глубин понимать.
Это и естественно – ведь момент более чем эмоциональный, так трудно разумом смирить страсти, сдержать их.
Поняв Морица, она поняла бы многое, что заметил бы взгляд со стороны.
Да заговори он даже в самом тонком и светлом тоне, устремляя её на торную дорогу дружбы в ответ на её признание, увлечённой Нике это всё равно бы показалось бесчувственно ледяной пустыней, и не о жертвенности своего чувства подумала бы Ника, из её души в ответ прозвучало бы всё то же – по-английски enough! – довольно! – быть может, не вслух, быть может, про себя (что ещё больнее!), но прозвучало бы. В конце концов ум удовлетворился бы предложенной дружбой. Сердце – нет.
Теперь попытаемся стать на точку зрения Морица. Что творилось в нём, когда он прочёл полные любви стихи Ники? Как бы ни было её признание подготовлено откровенным общением, оно всё равно неожиданно. Он растерян, как был бы растерян на его месте любой человек, даже ещё большей душевной и умственной высоты, поставленный перед чувством, которое он не может разделить. Отсюда в нём, столь логичном обычно, возникают противоречия. Он говорит с ней, и слова его сплетаются из растерянности, вызванной Никиным признанием, высказанным в обращённых к нему стихах. В нём поднимается, что для него очень характерно, ещё и гордость, заставляющая его думать о «роли», открывая в нём аварийный клапан защитной реакции.
Однако вспомним вновь тот момент, когда он расслабился и стал лиричен и как-то разнежен, не жесток, как обычно. Как тогда отшатнулась от него Ника, то же самое было бы и сейчас, если бы он на миг, ответив на поэтически выраженное чувство душевной приязни, упал в крайнюю ласковость, изменил бы себе, – запели бы фальшивые скрипки мелодрамы, и Нике стало бы тоскливо и скучно. Ника, в которой разум часто повелевает встающими из глубин чувствами, не позволяет возобладать в себе женщине. Не будем забывать, что в чашу её любви была подмешана слеза жалости к Морицу – к его смертельной болезни… В этом в ней и побеждала любовь в духовном смысле, побеждал amor…
Amor в смысле любви к ближнему в духовном, высоком значении этого латинского слова тем более побеждал, что, подробно, интимно рассказывая о себе, Мориц невольно «вводил Нику в себя», тем делая её дружески к себе ближе. Она стала своеобразной поверенной его жизни. Не будь у него к ней уважения и симпатии, не стал бы он рассказывать да ещё и спорить с Никой, подчас оправдывая (!) себя, порой почти как перед судьёю.
«…Но продолжение рассказа было теперь для него неизбежностью, хоть он не сознавал этого. Он отплывал в своей шлюпке в себя, один его голос расшивал узорами пустоту. Мориц в рабочем кресле сидел с природной родовой грацией маленького лорда Фаунтлероя. Он рассказывал не себе: поверив в её внимание, он делился, может быть, вербовал душу? Властной рукой он приподнимал завесу лет. Он глядел на неё уже почти добро. В руке щёлкнул спичечный коробок. Он закуривал».
В то же время он не раз предупреждал Нику, чтобы она не сотворила себе кумира, поэтизируя его образ для поэмы, он раскрывал перед ней и отрицательные свои стороны, уводя от идеализации, снимая с лица «вуаль» таинственности, неразгаданности, которые Нику столь притягивали. Мориц говорит, что в нём «нет ничего загадочного», что он «иногда бывает пуст от всякой душевной жизни». И он слышит, несмотря ни на что, навстречу ему настойчивый голос Ники, не смиренный, требующий от него большей душевной высоты. Однажды она прямо говорит ему:
«– Но вы – в аберрации: вы слабостью считаете свою силу. Вы думаете, что вы поддались слабости, вы с нею боретесь, с душой вашей! А надо за неё бороться! Вы не понимаете, что ваша душевная жизнь инертна, что у вас – от раза до разу – „как выйдет“… Не планированное строительство! Десятников не там расставляете. Прораб у вас – жуликоватый, со схоластическим образованием – тут и теория относительности путается… Вообще, Мориц, какой человек бы из вас вышел, кабы вы…
Но Мориц, туго улыбаясь, кидал за собой дверь».
Ника пыталась осмыслить в себе – зачем она зовёт Морица выше, зачем входит в его душу, зачем стремится уберечь от падений, от «бездн»? Духовное начало в ней настолько выше чувственного, по самой высшей природе любви – возлюблен ею человек сам по себе, безотносительно к чувству, которое она как женщина в романе к нему испытывает. Ей не столь важна взаимность. Ника полюбила в нём не только то, что есть, но то, чем он может быть. Свет её мечты своими лучами касается души Морица, греет её заботой…
«А ты? – спрашивает её кто-то, – после того полёта, в котором прошла твоя юность и часть зрелости, – как же ты вошла в эту, чужую же тебе, бездну, в душу этого человека? Он же ранит тебя каждый день, в нём нет той „высокой ноты“, которая тебя звала от рождения (тебя и всех героинь книг, которых ты любишь, ты же – не одна!..) Нет в нём? – отвечает она смятенно. – Почему же как только я хочу от него оторваться – он предстаёт опять Кройзингом, героем „Испытания под Верденом“? Почему же бьюсь о него как о стену – и не ломаю себе на этом крыльев, – ращу их? Да разве оттого я не оставляю его, что мне что-то в нём надо? Не за его ли душу я борюсь в смешных рамках этих поэм-повестей? Не его ли душе служу, не её ли кормлю – в страхе, что вдруг оступится в какие-то бездны, где возомнит себя – дома? Не для того ли зову его к ответу за каждую не ту интонацию? Господи Боже мой…»
Находясь в самом горниле противоположностей «Amor», подходим к разгадке одной из его тайн, раскрывающих источник силы романа. Если абстрагироваться от образов в мир идей, мы увидим, что стали свидетелями столкновения двух начал почти космических, мужского и женского.
Женское предстаёт воплощением душевной жизни, эмоциональности, тонкой восприимчивости, сдержанной, лунной страстности. Мужское – воплощением силы, энергии, действия, воинственности, отнесённой символически к древнему богу римлян Марсу. Мужчина по сравнению с женщиной менее эмоционален. И роль женщины – эманациями своей тонкой души пробудить в мужчине дремлющие душевные силы. В молодые годы бывает так, что одного появления женщины достаточно, чтобы эти силы зацвели огнём вдохновения, щемящего чувства. Но… Опять это «но» возвращает нас к роману, к письменам тайнописи чувств. В том-то и тонкость, что Ника в отношении к Морицу ведёт себя не вполне по-женски. В романе прямо не говорится о том, что героиня связана обетом, прямо, подробно и исповедально не говорится о её вере в Бога, как верила автор романа, прототип Ники. Не много говорится и о её самоограничениях. Однако история с Женей Сомовым в главе «Испытание юностью» говорит об этом неженском волевом начале, что свойственно героине, которая уже не стремится к слиянию с героем, у неё уже иная, охранительная, почти материнская роль…
Импульсы игры в Нике мужского аналитического ума настораживают Морица, отталкивая его от неё как от женщины. С редким психологическим мастерством писательница описывает состояние героини, противоположное той любви, которая есть стихия, страсть, прилив бури, а не раздумчивый поиск глубоких мыслей и чувств – сетями по дну души…
Наклонимся вновь над страницей романа: «Мориц читает стихи Ники… Это был для неё момент большой важности. Но, преодолев первый миг, – морщины его лба – она сразу сошла с подмостков Дузе – лёгкой ногой… Ника была совершенно спокойна. Точно дело шло не о ней. Она видела его наклонённую голову, сейчас он её подымет, дочитав последнюю строку. Он, конечно, не будет знать, с чего начать, учитывая её волнение. А этого волнения – нет! Испарилось. За это она так любила „Дым“ Тургенева, дым от огня. Дым, испарение огня, пар, в облако уходящий… В ней было любопытство. Сознание юмора минуты. Ответственность за совершённое. Холодила – или грела – непоправимость. Безвыходность положения их обоих! И – и дружеское участие к нему и, конечно, немного иронии. Большое переполняющее чувство достоинства – именно тем, что оно ею так сознательно было попрано, давало ей ощущение горького счастья».
Как видим, в Нике женственность переплетена с мужественностью как чертой характера. Она – мужественная женщина. И тут свет догадки озаряет мглу, где ходят «желаний тёмных табуны». Ника и Мориц, они в чём-то глубинно похожи – и силой характера (каждый по-своему умеет постоять за себя), и силою увлечённости, только её основное «направление» – чувства и воспоминания, он же свою жизнь отдаёт работе.
«Его раздражал этот тон Ники: что-то от пифии! Какой-то треножник в комнате! И эта открытость её вечного „иду на вы!“. Она „разрешила“ проблему – как разгрызают орех. Но он не знал одного: что она это знала. Что сознательно шла на то, чтобы терять как женщина, выигрывая как писатель. Он не знал этого не по недостатку тонкости, а просто потому, что не знал вакхического момента в творческом процессе: той самой вспышки света, от которого вся дальнейшая жизнь Ники – де Сталь – Жорж Санд – Марии Башкирцевой была лишь распылением света. В этом стыке скрестившихся на мгновение двух прожекторов, двух противоположно направленных…»
Мориц говорит: «Я не могу говорить о моих чувствах!.. Когда я много говорю, я лгу. Уже много лет я никогда не говорю о моих чувствах». Может показаться, что Ника о них много говорит. Но она больше говорит о притекающих в её память явлениях, которые воспринимаются и воспроизводятся, богато окрашенные чувством. А сокровенное, самое сокровенное она, как и Мориц, хранит на самой своей глубине. Вот что говорит об этом Ника: «Ах, Мориц, если б вы знали, насколько сложнее писем – писать – писателю! Есть вещи, которые так дороги, что о них невозможно писать! Видишь её, глотаешь в себя! В сокровенное! Как это вам объяснить? Это же звучит надуманно, вычурно, – а это сама суть вещей… Этой сокровенностью пишешь, дыханием её – да. Но когда сама вещь, которую ты должен дать, тебе сокровенна, вдруг какой-то священный ужас берёт тебя и какой-то голос говорит тебе: „Ты не вправе“, – и рука пишет где-то рядом об этом, у какого-то края, но не самую суть. Суть нельзя вымолвить, она страшна, как жизнь и как смерть, и её сказать – святотатственно…»
Сходство их в том, что оба в глубине своей благородны больше, чем в делах, поступках, порывах. На обоих лежит эта печать глубоко затаённой, запрятанной в лагерных условиях стати, которая им дана образованностью, начитанностью, культурой, несмотря ни на какие срывы и переживания. В Нике больше тонкости и возвышенности побуждений, в нём же, в его образе, таком, как он дан в романе, больше действия, больше внешнего, но и в нём под влиянием Ники просыпается желание понять себя, заглянуть в свой жизненный опыт, в свою глубину. «Вы – странный человек, Мориц, – вздохнула Ника, – трудный, ещё труднее меня… Но я всегда считаю себя виноватой. А вы – вы признаёте все свои данности за неизбежность. Вы совсем не боретесь с собой. Я тоже так жила – но в молодости! Потом – перестала». Эти слова Ники, если к ним присмотреться внимательнее, говорят о многом, о том, что и она в молодости жила, не борясь с собой. А. Цветаева в жизни, не в романе, сказала же некогда своему второму, гражданскому мужу М. А. Минцу, что решила делать только то, что ей хочется. В её дневниковой книге «Дым, дым и дым. 1916» об этом: «Я сказала ему о многом: о моём холоде, о глыбе льда, о том, что я иду к полной жестокости – в жизни, с абсолютно чистой душой… – Сильный человек должен взять жизнь – так в руки, чтобы… пьянеть от неё! – сказал он. Он всё понимает. Он сам такой».
Да, Ника прошла подобный период, когда и в ней не было покаянности, было лишь молодое самоутверждение – в чувстве, в поступке, в жесте. Потом, в мирной, довоенной жизни и в лагере, пришло иное – битва за людей, за другого человека, за Морица, а порой – за свою жизнь и достоинство. Приведём дословно важнейший для понимания главной героини, её волевой природы и всего в целом романа эпизод: «После одной переброски я жила в маленькой комнатке с одной старушкой и одной уркой, озорницей: она топила до одурения железную печурку – кедровыми сучками, мы со старухой выходили по ночам дышать, а она раздевалась донага и бегала – на ней была только обувь! – по зоне, пока её не словит охрана и посадит в кондей, к нам приходили за её одеждой, а мы раскрывали дверь настежь, пока станет можно дышать. И вот однажды я больше не могла. Я сказала: „Наташа, больше не топи. Хватит!“ Она так удивилась! Но когда поняла, что я, каэровка, хочу запретить ей, – она задохнулась, схватила полено и им замахала над моей головой. А я голову под полено – „бей“! Она пустила густой мат – и бросила полено. А раз я её, пьяную, под руку провела мимо вахтёра. Она кончила срок. Она, урка, с воли мне, каэровке, написала…»
На самом деле подобных «волевых» эпизодов было по крайней мере два. И второй эпизод Анастасия Ивановна восстановила для романа, но потом в роман не включила. Начало его есть в книге: «Ника сидела одна в глубине барака. Была небывалая тишина: всех женщин разогнал вдребезги пьяный мужик из соседнего мужского барака (как ему удалось напиться? Где же вохра была? – думала Ника). Но бежать вместе со всеми что-то мешало. Она осталась сидеть за столом, только что покинутом убежавшими, – но, к счастью Ники, пьяный, распугавший женщин, озорничая, убежал вместе с ними. Сейчас военная охрана всё приведёт в порядок, а пока можно заняться испанским – как восхитителен был перевод „Тройки“ Гоголя переводчицы Марии-Луизы Алонзо – тройка мчалась в каком-то волшебном краю полу-России – полу-Испании».
До этих слов эпизод вошёл в роман, но далее был автором сокращён. А вот продолжение: «Дверь, входная, резко открылась. Это шёл он, тот пьяный. Без вохры. Сердце Ники сжалось, но и вся она в ответ на это движение страха напряглась движением роста. И, покорная ему, встала. Пьяный шёл, качаясь и матерясь. Хоть бы одна женщина с ним вернулась. Они были одни. Он приближался, насколько мог в своём состоянии, целеустремленно, и – током нервной энергии – Ника почуяла, что он раздражён именно ею. Тем, что она не побежала от него, как все. И мгновенно, из неизвестных глубин, в ней ответно поднялось нечто большее, чем его озорство, – что-то, давшее ей нежданно спокойствие силы. Она ждала. Он шёл.
Она стояла молча, готовая ко всему. Матерясь во всю мощь, во всё искусство этого безобразия, пьяный схватил табуретку и, маша ею, шёл к Нике. Ждать, что он ей сломает хребет? В сердцебиении, перекрывавшем всё, и всею собою ему противясь, в светлой радости этой борьбы тела и духа, она сказала себе давно прозвучавшие ей слова: „Hier stehe ich. Ich kann nicht anders!“ – „На сём стою и не могу иначе!“ (нем.)[1] – она шагнула навстречу, и, может быть став больше ростом, оттого что не убежала, она крикнула: – Бей! – его табуретке. Этого он не ждал. И, табуретку кидая, выматерился ужасающе. Затем повернулся и пошёл из барака. Он потом в своём бараке разделся и прыгнул, босой, на печку. Но его схватила охрана. И повлекли в кондей.
Неделю спустя, давно протрезвев, но не переставая озорничать, тот пьяный (возчик с конбазы) вошёл в женский барак, был день, женщин не было, стал обходить топчаны и тумбочки меж ними и искать по висящим кофтам, передникам – денег.
Любопытно, что он узнал Нику (как мог?). Но это было доказано тем, что он не подошёл к её топчану, обошёл его – молча.
И Нике вспомнился тот случай с уркой Наташей, над ней взмахнувшей поленом, – как она потом с воли прислала ей, каэровке, „контрреволюционерке“, письмо».
По этим двум эпизодам, одному – вошедшему в роман, другому – писательницей за некоторым избытком выпущенному, мы понимаем, в каких нечеловеческих условиях она находилась в лагере, если ей по крайней мере дважды приходилось евангельское заповедание (слова Иисуса Христа): «Кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую» (Мф. 5:39) – превращать невольно в психологическую «боевую технику» в её действиях и с уркой Наташей, и с пьяным возчиком. Её волевая готовность к смерти обезоружила нападавшего. У неё в лагере ещё были подобные, сходные по накалу опасности случаи.
Не всё, что Анастасия Ивановна дописывала в роман, в окончательную редакцию вошло. Так, есть эпизод, где она стирает грязное бельё заключённых: «…трёт крепче грязь о стиральную доску. И по руке её из вышвырнутой кучи белья – прикипевшего? – ползёт оголтелая вошь». Когда она его писала, я видел, был такой текст: «Руки трут, а душа поднимается ласточкой над корытом» – вдруг она густо зачеркнула слово «ласточка» в строке. Я сказал: «Анастасия Ивановна, это же удачно, зачем?» «Нет, сентиментально!» – твёрдо ответила она. Так что и в этом проявилось недреманное в ней волевое начало…
Анастасия Ивановна ввела в роман «Amor» свои стихи. Первоначально заявлено, что Ника будет писать поэму о Морице. И можно было бы ожидать, что именно эти стихи вошли в книгу. К ним, несомненно, относятся: «Когда вы смеётесь – вся жизнь наполняется светом», «Ваша улыбка насмешлива, даже когда вы в рассеянности», «Сомнение» («Да если б я с тобой одним боролась…»), «Здоровье» («Всё хуже чувствую себя. Температурю…»), «Баланс сведён, предъявлен счёт…», «Полынь» («Вдохну – полынь…»).
Несколько стихов этого «Морицева цикла» только кратко цитируются. Но оказывается, что в роман включены стихи из других авторских циклов, герою не посвящённые. Это стихотворения: «Как странно начинать писать стихи…», «Сюита тюремная», «Сюита ночная», «Сюита призрачная», «Есть такие города на этом свете…», «Гитара» («Звон гитары за стеной фанерной…»), «Доминант-аккорд. Летняя ночь», «Разрешающий аккорд. Утешение», «Что терпит он, народ многострадальный…».
О своих тюремных и лагерных стихах, посвящённых Морицу, Анастасия Ивановна мне говорила: «Десять лет я проносила в своём кармане маленькие кусочки папиросной бумаги. Не дописывая слова, я записала свои стихи – никто не отнял. Я рисковала. Даже в стихах он, Мориц, то очаровательный, то наоборот. Он никогда не играл, он был таким, как был, естественным до последней степени. Дикарь. Не думал о том, какое производит впечатление. Это было в нём драгоценно, всё разбивалось о моё материнство – он недоспал, недоел…» Во время работы над восстановлением и дополнением текста романа я сказал Анастасии Ивановне: «Вы как то сказали, что прототип героя, Этчин, был на дипломатическом поприще, в то время как сам Мориц, такой, как он описан, кричит на людей, неуживчив, его не любят». Но Анастасия Ивановна убеждённо ответила: «Ника имеет полное право ошибаться!.. Она его поэтизирует!..»
В неокончательной редакции романа есть эпизод, где Ника, переживая момент ревности и ожесточения, душит в себе порыв уничтожить свои стихи. В ней встаёт тёмная волна: «Накал негодования поднимает её над бюро, над ним, над собой, над дописанными стихами! „Разорви их! – кричит в ней кто-то. – Разорви их сейчас! Романтическую чушь! В которой ты опустилась до любви к человеку, способному вести себя так!“ – „Нет, стихов я не разорву“, – отвечает она себе трезво и холодно».
Заяра Весёлая, дочь репрессированного и погибшего в лагерях поэта Артёма Весёлого, издала маленьким тиражом в серии небольших книжек поэтов-лагерников книжечку А. Цветаевой «Тетрадь Ники» (1992). И многие подумали, что это и есть полный свод того, что опубликовано или предполагалось для романа, однако стихотворений там очень мало и есть позднейшие, к «Тетради Ники», отношения не имеющие, такие как «Муха» или «Мне 80 лет…».
Помимо своих стихов, Анастасия Ивановна в романе цитирует стихотворения М. Лермонтова, А. Блока, М. Волошина, Ф. Сологуба, М. Цветаевой, Н. Гумилёва, М. Кузмина, Н. Вержховецкой и других. Упоминается среди многих книг и «Туннель» Бернгарда Келлермана – любимая книга Анастасии Ивановны. В Морице она хотела бы видеть черты главного героя «Туннеля», о котором говорила: «Надавит на него океан – и нет туннеля, хоть и отдал ему Мак Аллан жизнь». Там тоже строительство, тоже героика, но по сути иная, более трагическая и возвышенная.
Реминисценции к европейской поэзии, прозе, истории столь многочисленны и ассоциативно тонки, что их никак не перечислишь. Чувствуется, что автор – носитель дореволюционной культуры, хранящий осколки её огромного арсенала, как потускневшие камни из старинного ларца. В этом смысле роман, при богатстве языка, при всём психологизме, порадует интеллигентного читателя. Наблюдается закономерное сходство некоторых историй из жизни героини и глав из знаменитых «Воспоминаний» Анастасии Цветаевой, которые в предуведомлении «От автора» чётко определены как «семейная хроника». Но есть и отнесения к более давнему тексту. Так, сцена из главы «Глеб и Миронов», где говорится о первом муже Анастасии Ивановны, Б. С. Трухачёве, и о его молодой компании, хором поющей «песню о Степане Разине, утопившем княжну», соотносится с подобным эпизодом во второй, «дневниковой» книге писательницы «Дым, дым и дым».
Наиувлекательнейшая часть романа – это «Жизнь Ники», повесть в романе, которую героиня пишет по сюжету – для Морица, чтобы быть понятой. Чтобы дать ему понять, к каким далям его зовёт, к чему призывает, как постепенно преодолевает на протяжении своей жизни земные искушения.
«Я напишу всё это (сказала она, медленно, себе), чтобы разбудить в нём – душу. А если для этого мне надо вновь пострадать немного – пусть будет так! Начать – с юности. И как же назвать это? Может быть, так: „С первой настоящей любви“. И – не растекаться по древу! Кратко она скажет о первом муже, о фантастике, романтике этой встречи, о мучениях дней, когда они перешли во враждебный мир секса, о том, как секс разбил романтику, угасил ту любовь. Схематично! Потому что не рассказать – человека. Пленённость, трагизм индивидуальности неповторимой».
В «Жизни Ники» «Amor» предстаёт уже не как книга взаимодействия двух героев, а как своего рода увлекательная хроника привязанностей и чувств к людям – чувств сложных, болезненно пылких, рвущихся через преграды одиночества. Одновременно это книга потерь и омутов тоски, эту тоску преодолевает героиня, бросаясь кому-либо на помощь. Познавая героя, она подсознательно стремится к познанию себя – ей нужно не только ради Морица оживить своё прошлое. Она как бы пишет ретроспективный дневник. Ведь всю юность вела дневники… И вот Ника вновь проживает свою жизнь, описывая её для Морица. Она пишет, как может, кратко. Но таковы уж Цветаевы, что не могут они сухо излагать факты. (Это касается не только Марины и Анастасии Цветаевых, но и их отца И. В. Цветаева, оставившего дневник, и старшей сводной сестры Валерии Цветаевой, её воспоминаний.) Очень скоро начинает колдовать слово, и сверкающий поток прозы обретает полнозвучность…
Насколько Мориц не понимает, или недопонимает Нику, видно из фрагмента более ранней редакции романа. Приводим его, так как он жёстко, конкретно характеризует и героя и героиню: «Прочтя тетрадку, Мориц сказал ей: „Самое сильное в вас – секс“. Это её удивило. Секс? Это всё был – секс? А – душа? Но, подумав, она поняла: ведь это была история её любовных встреч (а он ставил знак равенства с сексом), а не история жизни. Сколького она не рассказала! Она хотела противопоставить его рассказу – свой, его встречам – свои, сказать, как всё было у неё – иначе. Его рассказ был – да, сексуален – сух, душевно. Она в рассказе своём шла от любви к любви, через дружбы, книги, целые эпохи с событиями – вот и вышло кривое зеркало, кривой вывод. Почему он не сказал себе, что от Ники, живущей рядом с ним, которого она же – любила? – он подобного не чувствовал, что только тетрадка её дала ему такой – и притом кривой – вывод!»
Говоря о своём герое, Анастасия Ивановна однажды сказала, что глубинно Мориц, как и его прототип, Арсений Этчин, несмотря на внешнюю привлекательность, был не её тип, в психологическом плане он был проще её, его чувства не парили на такой высоте, как чувства героини романа, Ники. И как-то раз, говоря о Морице, она сказала, что он был человек преимущественно земных страстей, и в связи с этим вспоминала стихотворение о страсти своей сестры, М. Цветаевой, цитировала по памяти:
Голоса с их игрой сулящей,
Взгляды яростной черноты,
Опалённые и палящие
Роковые рты —
О, я с вами легко боролась!
Но, – что делаете со мной
Вы, насмешка в глазах, и в голосе —
Холодок родной.
Необходимо знать, что на самом деле, в реальной жизни, по словам Анастасии Ивановны, её чувства к Арсению Этчину в лагере не достигали доминант аккорда. К нему было больше увлечённой дружественности. А в романе – всё-таки это художественное произведение, особенно в предпоследней редакции, где действие происходит на мирной, «гражданской» стройке, – А. И. Цветаева изобразила неразделённую любовь своей героини к Морицу. «Я специально немного искусственно накачивала это чувство в романе, чтобы создать полюса взаимоотношения психологий – мужской и женской», – говорила мне за работой Анастасия Ивановна. В этом плане есть тут и домысел и вымысел. Большая увлечённость Арсением Этчиным в жизни, в лагере была, но в романе она звучит в героине девятым валом сильного чувства, – любви. Во вставной части «Amor», названной «Жизни Ники», описан другой герой, – о нём мы уже упомянули, – юный Евгений Сомов, который до ареста, до войны и заключения увлёкся Никой. Это реальный человек, который был знаком позже и с Мариной Цветаевой, даже пытался (по свидетельству её дочери А. Эфрон) помочь ей с жильём в Москве, отдать свою комнату, а Анастасией Ивановной он задолго до того очень всерьёз увлёкся, и ей пришлось, чтобы погасить возникшую к ней страсть, остричь волосы наголо и снять вставные зубы, обезобразить себя… Это описано в главе романа «Искушение юностью». Анастасия Ивановна о нём рассказывала: «Женя Сомов, заикающийся, голубоглазый, довольно волшебный человек, очень талантливый, он был гений-шахматист… Он у меня бывал. Жил с матерью-коммунисткой. Она была похожа на старую весну. Страшно ласковая, ей коммунизм совсем не подходил. И с очень сухой своей тёткой – сестрой матери… И он жил на их счёт, потому что он совсем неприспособленный был, как блаженный немножко». Но она насмешками заставила его кончить курсы корректора. И он стал зарабатывать на жизнь сам. Она хотела, чтобы в нём пробудилась мужская гордость, и добилась этого. «Ко мне он был очень привязан…»
Анастасия Ивановна на склоне лет утверждала: «Раз ты слаб, преодолей слабость, и станешь сильным. Сила – в преодолении слабости». И уже на пороге вечности, в 98 лет говорила: «В основе человеческого, особенно женского поведения должна стоять высокая нота именно потому, что женщина в страсти событий способна на низкий поступок. Мужчина ещё обдумает его, женщина – нет. Сила состоит в преодолении слабостей, это преодоление и есть высокая нота».
Сохранился пожелтевший, ветхий машинописный отзыв на предпоследнюю редакцию ещё «мирного, нелагерного» «Amor» крупного литературоведа, историка литературы, друга Марины и Анастасии Цветаевых Евгения Борисовича Тагера (1906–1984).
Отзыв
о книге А. И. Цветаевой «Amor»
«Amor» Анастасии Ивановны Цветаевой представляет собой в высшей степени своеобразное произведение.
Действие романа развёртывается в различных пространственно-временных плоскостях, но, в основном, с одной стороны, в суровых условиях социалистической стройки в Сибири 1930‑х годов, а с другой – в Крыму первых лет революции, на фоне драматических событий ожесточённой Гражданской войны. Правда, историческое бытописание отнюдь не является целью автора; тем не менее социально исторический колорит времени очерчен, хотя и скудно, но достаточно выразительно.
В соответствии со своим названием роман строится как своего рода анатомия чувства любви. Перед читателем проходит целая серия психологических этюдов, демонстрирующих разнообразные типы любовных отношений. Банальные, ординарные и поражающие своей необычностью, обнажённо-чувственные и предельно одухотворённые, откровенно эгоистические и героически самоотверженные, эти любовные связи всё время сопоставляются и противопоставляются друг другу. Нельзя не отдать должного мастерству и утончённости психологического анализа Цветаевой. Ещё важнее, пожалуй, то, что в итоге вырисовывается яркая и запоминающаяся галерея исключительных личностей, со сложными характерами, парадоксальными судьбами.
Роман вобрал, по-видимому, много автобиографического материала, в нём фигурируют подчас реально существующие лица, например поэт и художник Максимилиан Волошин. Это придаёт книге А. Цветаевой, автора широко известных мемуаров, дополнительный интерес.
Следует отметить, впрочем, и наличие некоторых повторений, объясняющихся тем, что написанный много лет назад роман был утерян, а когда уже в наше время текст вернулся к автору, оказалось, что необходимо заново воссоздать ряд пропавших глав и страниц. Отсюда, вероятно, и встречающаяся порой растянутость изложения. Поэтому перед печатанием полезно было бы подвергнуть роман внимательной авторской редактуре и некоторому сокращению.
Евгений Тагер
24.1.1978
В последней авторской редакции роман очень и очень существенно сокращён, как и советовал Е. Тагер. Однако можно надеяться, что и та, очень обширная, отягощённая перепиской героев, многими дополнительными сюжетными линиями, первоначальная редакция книги также будет когда-нибудь найдена, должным образом исследована и опубликована. И это будут не «Руины романа», а своего рода «Пра-Amor».
«Amor» – это ещё и уникальный для мировой литературы опыт аналитико-психологической прозы. В письме к Е. Я. Эфрон, сестре С. Я. Эфрона, А. И. Цветаева 12 ноября 1943 года пишет: «Роковая привычка всё анализировать (о которой М<арина> в 1921 г<од>у, когда я бедствовала, болела, нуждалась и боялась, что заболеваю психически, говорила: „Ася никогда не сойдёт с ума – она будет анализировать своё состояние, и это спасёт её“)» (Нева. 2003. № 3).
«Amor» – книга привязанностей и чувств к людям – чувств сложных, болезненно пылких, рвущихся через преграды одиночества. Одновременно это книга потерь и омутов тоски по воле, и эту тоску преодолевает героиня, бросаясь кому-либо на помощь. Познавая героя, она подсознательно стремится к познанию себя – ей нужно не только ради Морица оживить своё прошлое. И в этом смысле, по большому счёту, роман предстаёт перед нами как ретроспективный «мемуарный дневник», написанный мастером автобиографического жанра, создателем и романа, и большой семейной хроники – её известных «Воспоминаний», – и ещё целого ряда книг…
В приложении к дополненной, новой для читателя редакции текста публикуются стихотворения А. Цветаевой «Из тетради Ники», которые были написаны для романа или во время его создания. В полном, законченном виде многие из них нигде не публиковались. Это также придаёт особую ценность изданию.
В новом издании романа представлен именно тот текст, который А. И. Цветаева хотела бы видеть опубликованным. Мы несколько лет готовили «Amor» в печать. Ныне в основной текст возвращены вынужденно сокращённые фрагменты как лагерной линии, то есть рассказы главного героя, Морица, Нике, так и фрагменты «крымской» линии, психологически ёмкие, биографически для автора значимые. Необходимо было на всём поле повествования сохранить и неповторимую драматургию цветаевских акцентуаций – курсивов, разрядок, летящих тире. То своеобразный след Серебряного века. Понимал это и покойный Анатолий Михайлович Кузнецов, биограф М. В. Юдиной, который вместе с нами работал над выпуском романа в журнале «Москва» (1990, № 2–5). Он очень радел о сохранении этой авторской неповторимости.
Дворянское собрание Юга Украины присудило Анастасии Ивановне Цветаевой за роман «Amor» литературную премию 1992 года. 9 марта 1992 года предводитель собрания князь Владимир Владиславович Аргутинский-Долгорукий торжественно вручил Анастасии Ивановне диплом премии в Итальянском дворике Государственного музея изобразительных искусств имени А. Пушкина, основанного И. В. Цветаевым. Деятельное участие в организации этого события, вызвавшего широкий резонанс в российской и зарубежной прессе, приняла директор ГМИИ Ирина Александровна Антонова. Она выступила на вручении. Выступили также поэт Б. А. Ахмадулина, сын Анастасии Ивановны Андрей Борисович Трухачёв, журналист и историк В. В. Соловьёв, несколько слов сказала и лауреат. Это была единственная литературная премия, полученная писательницей за всю её долгую жизнь…
Анастасия Ивановна называла «Amor» – «мой слоёный пирог». В его пропёкшихся в раскалённой печи эпохи слоях «запеклись» тени реальных людей, тех, кто жил, чувствовал, любил. Их всех давно нет на свете. Однако в романе они вновь оживают, вновь ждут, чтобы о них узнали и пожили вместе с ними в их безвозвратном, седом, серебряном времени…
1
Ника цитирует слова Мартина Лютера.