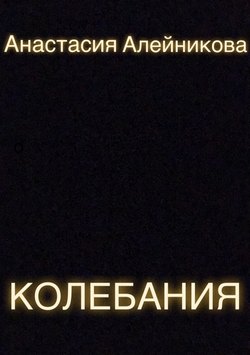Читать книгу Колебания - Анастасия Романовна Алейникова - Страница 2
Часть первая
Глава 1,
в которой интеллигентнейший человек бросает некую книгу и чрезвычайно спешит в одно сомнительное заведение, где произносит странную исповедь; за излишнюю откровенность он тут же наказывается
Оглавление«Мы были такими молодыми, полными надежд и планов, и столько ждали от этой жизни. Мы поступили в Университет мечты, и всё казалось сном. Бесконечная череда родственников и знакомых, поздравляющих и гордящихся… И в первый осенний день сердце стучит так, что, кажется, вот-вот выпрыгнет из груди. Кем мы были тогда? Чем мечтали мы стать тогда? О, если бы мы знали, сколько нам предстоит пережить впереди! Конечно, мы догадывались, ведь жизнь в тот момент представилась вдруг чем-то необъятным и величественным, и поселила то чувство сладкого волнения, зарождающейся радости, которое бывает, когда, например, взору неожиданно предстанет огромный сверкающий под солнцем океан, простирающийся на много километров вперед, до самого горизонта, обезоруживающе-красивый, зачаровывающий. И мы вступили в эту жизнь, отправились в плаванье, бесстрашные и юные, крошечные лодочки на огромной водной глади, – набери высоту, поднимись еще чуть выше, так, чтобы коснуться облаков, – и вот ты уже не увидишь нас, не приметишь даже точки.
“Но мы есть, мы не исчезаем!” – и мы хотели заявить об этом всему миру, чтобы он услышал нас и отозвался.
И в тот чудесный осенний день нам казалось, что мир и вправду отзывается: солнце сияет, золотые листья несутся по сухому асфальту дорог, танцуют и кружатся с нами, словно все разделяет нашу радость. И монументальное здание Университета приветственно сияет в лучах осеннего солнца, возвышаясь над нами громадой своих этажей, пронзая облака золотым шпилем со звездой…
Торжественная речь ректора, сотни разноцветных бумажек, буклетов, блокнотов, все это не помещается в сумку, валится из рук. Радостные, счастливые лица. Праздничный, торжественный актовый зал Главного здания. Фотография на память на ступеньках у входа. Головокружение и первые попытки познакомиться с кем-то, найти однокурсников в этой пестрой толпе счастливых студентов со всех факультетов.
Всё промелькнуло как сон, как видение. Не успел никто из нас и оглянуться, чтобы еще раз, напоследок, оглядеть праздничную залу, – как подули холодные ветры, принося облака, полил дождь, световой день уменьшился, с неба попадали груды учебников и тетрадей, и вдруг толпа людей в метро подхватила нас и начала мотать из стороны в сторону – рано утром, поздно вечером, в середине дня… Зашуршали бесчисленные бумажки, запахло котлетами из факультетской столовой, корректором и первыми выкуренными на университетском крыльце сигаретами. Сигареты дружбы, которые ты стрельнул, чтобы начать разговор с пока еще незнакомым тебе однокурсником. Но он смотрит так приветливо, так весело и заинтересованно, и каждый из вас был готов бы поклясться, что замышляет шалость; и вот уже первые пропущенные пары, и постепенно сформировались компании, и выучены имена одногруппников; и вот пролетел уже первый месяц, и октябрь понесся по городу, срывая листья с деревьев и шапки с прохожих, туманно обещая разрешить золотой осени погостить в Москве недельку-другую».
Холмиков, точно очнувшись, вспомнив что-то, захлопнул книгу и поспешно раскрыл ее с другого конца, там, где было оглавление. Он быстро пробежал его глазами – и тогда его взгляд, – а вместе с ним, как показалось Холмикову, и целый мир, – остановился на одной-единственной строке. Бесчисленные точки слились в волнистую мутную линию, и по ней взгляд с трудом смог, перескакивая то вниз, то вверх и сбиваясь, добраться до цифры. Когда всё же ему удалось это, Холмиков, чуть не уронив книгу, с третьей попытки открыл главу – и весь перебрался из просторной пустой комнаты на страницы книги.
Спустя двадцать минут такси класса «комфорт» уже мчало его по узким улицам московского пригорода. За окнами только начавшаяся зима мелькала черно-белыми картинами, грязью, заметаемой снегом, и наступающей темнотой. Такси неслось вопреки всяческим скоростным ограничениям, будто летело по воздуху, – по меньшей мере, Холмикову казалось именно так. У него стучало в висках, и голова от потока мыслей и мелькающих мимо картин шла кругом. Время исказилось, сжалось, и путь, на который обыкновенно требовалось около получаса, был преодолен будто за несколько минут. Машина взлетела на повороте, резко завернула за высокий серый забор, – и тут же навстречу ей, словно в мультфильме, выскочил низенький, выкрашенный в грязно-оранжевый цвет домик – крупная вывеска «Десять литров» светилась на нем таким же оранжевым светом.
«Остановите», – проговорил чужой, тихий и как будто севший голос.
Еще через минуту, ровно в шесть часов вечера, Холмиков сидел уже за широким деревянным столом в дальнем углу заведения, именовавшегося рестораном, а на деле же много более походившего на шумный людный трактир города N. из классических романов, – переполненный, душный, нестерпимо шумный и сумрачный из-за маленьких окон, стен, выкрашенных в темно-коричневый цвет, и приглушенного желтого света ламп. Вопреки всем правилам, сигаретный дым плыл здесь под низким потолком и окутывал всё, будто туман.
Однако Холмиков, точно не замечая ни тумана, ни гомона, ни криков, сидел на потрепанном черном диване и пил – стопку за стопкой он пил водку, а через некоторое время ему принесли и пиво.
«Десять литров» располагался на полупустой Тупиковой улице (которая и действительно была тупиком) небольшого поселка Воробьи в московской области. Около сорока километров железной дороги Курского направления заботливо тянулось через не слишком живописные земли и станцией Комариная соединяло поселок со столицей. Общее число жителей, населяющих Воробьи, не было слишком велико, но не было и мало. В целом поселок этот совсем ничем не отличался от всех прочих, таких похожих друг на друга, кроме одного весьма необычного факта: он был удивительно тихим. Для жизни спокойной, размеренной и уединенной, для здорового, крепкого сна, не нарушаемого ничем, ни единым звуком, пожалуй, трудно было бы отыскать – не в удалении от цивилизации – место более подходящее. Этому много способствовало отсутствие в Воробьях круглосуточных заведений, баров, ресторанов и кафе, в которых наливали бы алкоголь. Не считая небольших закусочных, которые все, точно по сигналу, закрывались в девять часов вечера, в Воробьях вообще не было каких-либо увеселительных заведений, работающих по ночам. Местный кинотеатр и цирк также, казалось, пребывали в тайном сговоре с закусочными. Магазины, большие и маленькие, подвальчики и палатки, прячущиеся за углом и в далеких дворах, вызвали бы усмешку презрения у точно таких же магазинчиков и палаток по всей России: вероятно, что Воробьи было единственным местом во всей стране, где действительно невозможно было ночью приобрести алкоголь. И, кроме того, во всем поселке лишь один продуктовый магазин вообще нарушил условия всеобщего сговора о Девяти Часах Вечера. Однако дюди, бόльшую часть жизни прожившие в Воробьях, любили поселок именно за это. Они, местные жители, сами точно воробьи, просыпались с рассветом, оживленно переговариваясь, наполняли воздух будничными, бодрыми, дневными звуками, затем трудились каждый на своем месте, пока не садилось солнце, а на ночь затихали, прячась в тени, и звуки смолкали, и даже освещение улиц, тусклое, слабое, не мешало звездам мягко сиять в черном небе и в тишине.
И только одно спасение находилось для страждущих, и только один ночной кошмар терзал городок – кошмар, носящий название «Десять литров». Незаметно и неожиданно открывшись несколько лет назад на одной из полупустых улиц, где никто не жил, в полузаброшенном здании, он, этот пивной ресторан, поначалу не привлек к себе совсем никакого внимания. Однако вывеска невозмутимо продолжала светиться по ночам ярким оранжевым светом, и двери оставались гостеприимно распахнуты. Ближайшие жилые дома находились на расстоянии двух улиц со всех трех сторон от «Литров» – с четвертой стороны проходила железная дорога, за которой начинались, как это чаще всего и бывает с подмосковными поселками, обыкновенные поля и лес. Таким образом, «Десять литров» находился на окраине Воробьев, хотя и невдалеке от комариной станции, а сам поселок распространялся вдаль от «Литров» однообразными неширокими улочками с домами всяческими, в том числе и дачными. Незнакомый воробьям человек открыл свое возмутительно смелое заведение и не стал гасить в нем свет с наступлением ночи.
Лишь несколько дней суждено было простоять «Десяти литрам» в тягостном, но терпеливом ожидании. И стоило только предприимчивому человеку на секунду усомниться в правильности принятого им решения, как тут же стали постепенно показываться среди сереньких воробьев птички поинтереснее. Сперва они, казалось, еще сомневались, не решались на что-то – но уже в следующую ночь заведение было полно ими, и они предстали во всей красе.
Ни одна ночь с тех пор не проходила уже в Воробьях как раньше. И лишь относительная отдаленность «Десяти литров» от тихих домиков, где мирно спали уставшие птички, охраняла их лишенный тревог сон, а заведение – от возможных на него жалоб.
Появление его в поселке, однако, не только бесцеремонно нарушило размеренность жизни. Недальновидны и весьма примитивны любые подобные обвинения в адрес предприимчивого человека и его заведения. Яблоко, предложенное змеем, лишь показало, каковы желания, таящиеся в сердце самого человека, и как плохо он умеет с ними управляться; существование возможности провести ночь на потрепанном черном диване в тусклом свете желтых ламп, в духоте и смраде никак не обязывает ею воспользоваться. Однако неисчислимое количество людей чувствует по-другому – и потому-то ни один маленький городок или поселок не мыслим в действительности без таких «Десяти литров», и потому Воробьи поначалу всякому кажутся только выдумкой; но вот проходят годы – пробегают перед глазами строки – и всё предстает в своем истинном свете. А местные жители, вдруг обнаружив, какими оказались на самом деле их сосед, коллега или знакомый, тяжело вздохнув, свыкаются постепенно и с этим, – но всё-таки сами и до сих пор продолжают обходить Тупиковую улицу стороной, хмурясь и вздыхая.
А там каждую ночь светящееся оранжевым «Десять литров» полно до краев, будто кипящий котёл ведьмы, – так, что и крышку приходится снимать с него, чтобы варево не переливалось через края, – иногда, несмотря ни на какую погоду, дверь остается открытой настежь для притока свежего воздуха. Лица всех посетителей хорошо знакомы работникам «Литров» – новых почти что не появляется, и принимаемые радушно завсегдатаи, остающиеся даже и спать на удобных черных диванах, делают заведению предприимчивого человека всю выручку. Потому со стен всякий раз заботливо снимаются работниками оленьи рога и головы, нависающие над спящими, а при свете дня, когда бурление зелья несколько утихает, на широкие деревянные столы подается и чай, и кофе, и на кухне поджариваются яичницы, – и тогда кажется, что вовсе не это место является пристанищем самых отвратительных, странных и диковинных существ с лицами и голосами едва ли человеческими. Но когда сумерки вновь сгущаются и зажигается оранжевый свет, варево тихо и незаметно начинает закипать, и, искаженное днем, всё в «Десяти литрах» вновь становится настоящим – неприкрытым и первозданным, и всё пребывает там в постоянном слиянии и движении.
– Смешно! Смешно, что все вокруг, узнав об этой истории, точно бы решили, что я это из-за нее!.. А я это вовсе не из-за нее!.. А все это совсем и не так! А эта даже фамилию мою не поменяла – поиграла именами, будто все они для нее на один лад! – говорил, стуча кружкой по столу, Холмиков, а маленький невзрачный мужчина, к которому он подсел, только лишь почувствовав, как разум его окутывается туманом и погружается куда-то в бездну, глядел на него безразлично, не выражая ничего, кроме скуки и пустоты, и иногда отводил взгляд, ничуть не меняющийся, в сторону и тонко вздыхал. В его лице было что-то ослиное, печальное и покорное. Холмиков продолжал говорить, путаясь и заплетаясь, совершенно не видя перед собой ничего. Он торопился, повышал голос, переходил на шепот, совсем затихал.
– Да ее-то я любил, и что с того! Это было, не буду отрицать, и именно любил, не так только, шутки шутил!.. А я, оказывается, жук после этого! Что ж, и черт с ним, не в том даже дело! А вот хоть кто-нибудь, кроме меня, знает ли, в чём? Конечно, нет! Подумают: из ума выжил, вспоминает!.. А я сейчас скажу, всё скажу, что да как, всё выложу! Вот отвечай мне, – настойчиво обратился он к мужику, – почему? Почему, я спрашиваю! Почему я, зачем… не написал своей книги? Зачем я всё чужие изучаю?!.. И как смела она… это сделать! – Холмиков сверкнул маленькими темными глазками из-за очков на бесцветного мужчину напротив, и продолжил тоном уже измененным, каким-то хитрым, даже радостным:
– А может и вот так: может, нет у меня ничего такого, что можно было бы «оторвать или вылить на бумагу», как там говорят, а? Где нет? – ну, в сердце, в душе, где же еще! Может, пустота там, ни одной интересной мысли, ни одного чувства, главное – ничего своего! Всё чужие мысли и чужие чувства, всё термины, всё интер… – Холмиков запнулся, его язык не послушался и не смог выговорить трудное слово. – Интер… претации… и впечатления… от того, что я прочитал у других! – он снова стукнул кружкой по столу. – А ты спросишь меня: ну Вы же, Александр Андреевич, умный человек, Вы же столько написали статей, Вы же, в конце концов, для чего-то поступали на этот факультет, а потом Вы же для чего-то остались там работать – значит, хотели этого? А я вот что тебе скажу на это: я, может, и не хотел. Я, может, всегда больше всего на свете любил литературу, всё другое и видеть даже не мог, но я, может, в своей душе всё одну и ту же – наивную! – мечту берег, что я смогу однажды что-нибудь свое написать! Ты скажешь: а что же Вы, Александр Андреевич, не написали тогда, раз так хотели, ведь человек Вы не глупый? – Холмиков таращил глаза и повышал голос, продолжая иногда стучать кружкой по столу, а мужчина напротив все так же тихо вздыхал, не находя в себе сил уйти. – Так и тут я отвечу: думаешь, не пытался, думаешь, не писал? Ха! Еще чего: писал, да еще как писал, пытался писать! И даже писалось, и даже выходило что-то, и пальцы стучали по клавишам, как не мои, как сумасшедшие, и думал, гениально выходит! А в итоге на следующее утро просыпался, смотрел – а там пшик один, и столько букв, тысячи, тысячи символов – а как будто белый лист! А уж вкуса-то я, по крайней мере, точно не лишен, – понизив голос, со всей серьезностью сообщил Холмиков, – так что сразу увидел это – и до того стало гадко, до того ужасно! Но я мужественно вынес эту неудачу и, не будучи человеком подлым… мелким и жалким, не будучи таким человеком, потому что я не такой человек! – он стукнул кружкой. – Я тут же и бросил эти занятия, поставил крест! И правильно поступил. Но я возвращался к этому через год, и два, и спустя много лет все равно не прекращал попыток, и все время я возвращался к этому, до сих пор, но каждый раз вновь и вновь я видел один и тот же результат, с разницей лишь в том, что по мере того, как я взрослел и читал все больше литературы – всякой, нашей, зарубежной, научной – тем лучше становился мой язык – тем полнее получалось раскрыть смысл того, что мне хотелось сказать, выразить свою мысль, – но содержание, но сама эта мысль! Какими тривиальными, какими… – Холмиков остановился вдруг, сосредоточившись и желая непременно произнести одно определенное слово. – Какими опосты…левшими всему миру они были! – вновь удар кружкой. – Каким бездарным было содержание того, что я писал – а я и не замечал этого, пока писал! Я видел это на следующий день, или в иных случаях даже позже – через месяц, но непременно видел! Всё это было сказано тысячи раз до меня, а я лишь создавал вторичный продукт, а нет ничего страшнее, чем быть посредственностью и самому понимать это, то есть обладать достаточным вкусом, интуицией, совестью, образованием, чтобы уметь увидеть это, чтобы уметь отличить хорошее от плохого, чтобы уметь честно сказать о себе: «Я посредственность!» Какое это горе для человека, который хочет быть гением, который мнит себя мыслителем, который так себя любит и превозносит! А тем не менее видит, что он – пшик! Не всем, не всем ведь свойственна эта лихорадка, это желание быть первым, что-то творить – многие довольствуются малым и живут спокойно – вот как ты, например… – добавил вдруг Холмиков, обращаясь к мужчине напротив. – Но горе тем, кто достаточно развит и достаточно самолюбив, но при этом недостаточно оригинален и самобытен! – при этом слове он поглядел мужчине прямо в глаза и сделал жест правой рукой, будто ввинчивал лампочку. – Но ты скажешь: а как же многие люди, что занимаются переводом, или историки литературы, критики и вообще все те, кто изучает то, что другие люди создают! Ты скажешь, что же, им всем, получается, нужно дружно забраться на подоконники? Скажешь: ведь их деятельность полезна, необходима для человечества, и будешь прав! Только одно лишь здесь не сходится: меня всё это в какой-то момент – уже пару лет как – перестало удовлетворять, совершенно перестало. Я чувствую, что занимаюсь ерундой, которая никому не нужна: обсуждаю со всех сторон какие-то книжки, трактую их так и эдак, спорю об истинном смысле, обсуждаю возможные методологии анализа! – а зачем? Раньше я думал, это нужно тем, кто сам не в состоянии разобраться в том, что он прочитал, – якобы, на помощь ему придет критическая статья. Так-то оно так, но мне опротивело всё это. И все те, кто не может понять литературу без анализа и критической статьи! А как же биографии писателей, комментарии к их книгам? Да, все это нужно, – но я не хочу больше этим заниматься, я недавно понял, что все, чего бы я истинно хотел, – это создать что-то свое. И коль скоро я честно признался себе в этом и одновременно в невозможности этого, жизнь показалась мне бесполезной. Мне тридцать пять лет. И дальше ничего не изменится – я ничего не создам, потому что моя душа не способна к этому, – и к чему тогда жить? Все, на что я гожусь, это жаловаться и заниматься… самоанализом. Даже семья не принесет мне полного счастья, я это знаю точно. Чувство, как будто мне не нужна обычная жизнь, а необычной у меня никогда не будет!.. И как смела эта!..
Мужчина напротив продолжал глядеть бесцветно и безучастно, изредка поглядывая на Холмикова пустыми серыми глазками. Холмиков замолк и вновь поглядел на него как в самом начале – мрачно, недоверчиво. Вдруг что-то в нем зашевелилось, задрожало, пальцы сжали ручку пивной кружки, и вены вздулись на руках и шее. Он начал глубоко дышать, сердце у него забилось, и он, повысив голос, закричал, смеясь и смотря мужику прямо в маленькие бесцветные глазки:
– Ну и рожа у тебя! Ну и дурак! Вот же осёл! Тебе бы уши, и будешь совсем осёл! Ха! Бывают же такие в природе, ну настоящая ослиная рожа!..
После этой фразы всё для Холмикова вдруг вспыхнуло и померкло вокруг, опускаясь куда-то на сумрачное дно. Схватившись за стол, Холмиков рухнул на пол, чувствуя, как что-то теплое течет по его губам и подбородку. Бесцветный мужчина, недолго думая, так же горестно и тонко вздохнув, вдруг встал и выразил свое мнение по поводу ослиной рожи тяжелым мясистым кулаком.