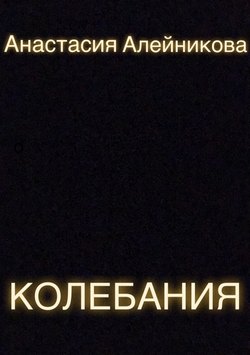Читать книгу Колебания - Анастасия Романовна Алейникова - Страница 4
Часть первая
Глава 3,
в которой Яна придается воспоминаниям об уже пройденном пути; говорится обо всех ее противоречивых увлечениях, стремлениях и тревогах, а также о современной литературе и сетевой поэзии
ОглавлениеНад маленьким тихим кафе на Чистых прудах постепенно рассеивающаяся тьма, ненадолго уступавшая место бледному дневному свету, казалось, решила задержаться. Но город уже проснулся, и каждую минуту в конце кафе раздавался мелодичный звон колокольчиков – посетители заходили, несмотря на выходной, закутанные в пестрые шарфы, раскрасневшиеся, уже успевшие замерзнуть, и покупали кофе. Воскресенье в Москве ничем не отличалось от остальных дней.
За маленьким круглым столиком в уголке кафе, наиболее отдаленном от входа, сидела Яна Астрина, перед которой стыл свежезаваренный капучино в такой же кругленькой белой чашке. За полностью стеклянной стеной по сырой улице спешили под пушистым падающим снегом пешеходы, а проносящиеся мимо машины раскрашивали их отсветами фар.
За соседним столиком две девушки сдвигали такие же маленькие белые чашечки ближе друг к другу, переставляли местами тарелки с чизкейком и пончиком, поправляли лежавшие рядом на терракотовых салфетках серебристые ложечки. Яна мельком бросила взгляд на девушек, и они привлекли ее рассеянное внимание, и она невольно стала наблюдать за ними, хотя и знала наперед каждое действие. Вот на круглом столике всё было сдвинуто и поправлено так, чтобы ни одна ложечка не лежала под неверным углом по отношению к тарелке, чтобы ручки у чашечек смотрели в разные стороны, чтоб провод от белоснежных наушников тоненькой змейкой как бы случайно тянулся между блюдцами и проходил по краешку темной салфетки. Вот одна из девушек, кивнув второй, отодвинулась назад, как бы уклоняясь от чего-то. Тогда вторая привстала, приподнялась на носки, вся вытянулась вперед, насколько могла, и, изображая ломаную букву «Г», наклонилась над столом, так, чтобы телефон, зажатый в тонких пальцах, оказался точно над ним посередине. Не имея возможности заглянуть сверху в экран и проконтролировать таким образом экспозицию, девушка явно делала кадры наугад, отчего напряженно морщилась. Нажав на белую кнопку несколько раз, она с облегчением опустила успевшие устать уже руки и быстро взглянула на результат. Однако пролистав фото, она явно осталась недовольна ими и тогда вновь повторила все прежние действия. Вторая девушка сидела всё так же, слегка отодвинувшись назад, и терпеливо ждала. Наконец она тоже встала и, поменяв местами чизкейк и пончик, проделала то же самое, что и ее подруга. После этого обе, смеясь, уселись, придвинувшись поближе к столику, и вторая девушка взялась уже было за маленькую серебряную ложку, как тут первая о чем-то ее попросила. Через секунду до Яны донеслось: «Нет, не так. Сделай, чтобы было видно только кофе, мои волосы и часть лица, губы, подожди – я повернусь в профиль. Свет нормальный? Да, и чтобы чизкейк попал в кадр частично, не весь, а только его широкая часть… Постой, я пододвину…»
Точно очнувшись, Яна отвернулась, наконец, от девушек за соседним столиком, чьи действия не вызвали у нее ровным счетом никаких эмоций, и сделала глоток горячего кофе.
Проспав в ту ночь около трех часов, Яна, однако, чувствовала себя полной сил; за стеклянной стеной перед ней давно уже было не зимнее синее утро, а далекая осень прошлого года, постепенно совершающая путешествие и превращающаяся в зиму нового года, затем весну, недавнее лето и, наконец, медленно подбирающаяся к синему московскому утру и сидящей в кафе Яне. Одновременно с воспоминаниями о последнем годе, Яна думала о дне, который был совсем недавно, – о вчерашней субботе. Оба воспоминания, одно обширное, другое короткое, были непосредственно связаны между собой.
Яна вновь представила себе предыдущую ночь и следовавший за ней день. Она подумала о сообщении, которое разбудило ее вчера вечером, в половине шестого, будто бы через секунду после того, как она, взволнованная и не спавшая ночь, смогла наконец уснуть; о том единственном слове, которое было в сообщении. Яна подумала, что это слово охватывает собой и завершает всё ее второе, обширное, воспоминание; что теперь, после того слова, оно и вправду стало воспоминанием, между тем как еще последней осенней ночью было совершавшейся и незаконченной историей.
Казалось, целая вечность прошла с той осени, когда эта история началась.
Был третий курс, неумолимо приближался конец первого семестра. Старый гуманитарный корпус стоял призрачным кораблем среди ветров и туманов, омываемый дождями, мигая большими окнами сквозь постоянную ночь; однокурсники Яны курили на мокром темном крыльце, и туман смешивался с дымом их сигарет; казалось, каждый из них повзрослел за те два года на целый век; изредка проходили мимо них некоторые знакомые Яне преподаватели – их лица остались неизменными, такими же, как и далекой осенью, когда Яна впервые познакомилась с ними; время для них будто бы замерло, чтобы обрушиться вдруг в один момент – через месяц, год или десяток лет, и ураганом сбить с ног. Главное здание мерцало вдалеке за силуэтами голых черных деревьев; каркали, будто в лесу, вороны. Таким был тот далекий день, тот неуловимый момент, когда всё вдруг стало меняться.
Остался запах сигарет, смех однокурсников, серьезные лица преподавателей, остался звенящий и несмолкающий голос Лизы где-то рядом, – но всё, даже сам воздух, вокруг Яны с того дня навсегда стало другим.
Два года понадобилось ей для того, чтобы произошло это изменение и началась история. За те два года она, сама о том не подозревая, хранила в душе и множила неясные, противоречивые чувства, туманные образы, воспоминания и фантазии. Два года она жила, будто не замечая этого, лишь изредка делясь некоторыми мыслями с Лизой, обсуждая с ней многообразие характеров и типажей, открывшихся им среди студентов и преподавателей и будто созданных для описания их на страницах книги, смеясь над удивительной разрухой корпуса, которую некоторые находили романтичной. И вот в начале третьего курса Яна вдруг почувствовала себя как бы хуже, чем обычно; ее стало мучить что-то, чему она не могла найти объяснение, ее стало особенно беспокоить какое-то неуловимое ощущение, преследующее ее в коридорах Старого гуманитарного корпуса; она стала всё чаще останавливаться у его больших окон и смотреть на разноцветный намокший лес и на линию горизонта, закутанную в туман. Несколько раз ей стало душно от слез на лекциях и семинарах, когда пожилые преподаватели заходили в аудиторию, опираясь на палку, когда они писали на выцветших досках различные слова, казавшиеся им бесконечно важными, когда их глаза горели любовью – и желанием донести эту любовь и знания до каждого сидящего в аудитории, даже если всем было плевать.
И вот в тот осенний день Яна, придя домой, поняла, что не может более и вздохнуть. В ее душе, несмотря на обсуждения, насмешки и понимающие взгляды, которыми обменивались они с Лизой, перестало помещаться всё, что накапливалось там незаметно два года. Проведи Яна те два года в совершенно ином месте, в самой далекой точке планеты, на острове в океане или в маленьком пригороде Японии, с ней, вероятно, произошло бы то же самое. Тогда она стала бы описывать красоту пальм, безоблачное небо, белоснежный песок и диковинных птиц, раскосые глаза, поражающее своеобразие языка.
Но тогда Яна пришла домой и, не до конца еще понимая, что ею движет и что она делает, села за стол – и через полтора часа закончила свой самый первый очерк о факультете. Она не встала с глазами, полными слез, но она встала другим человеком. Опустошенная, обессиленная даже – она действительно почувствовала вдруг счастье, освобождение. Это перестало быть красивыми, но бессмысленными словами.
С того момента всё своё время, которого у нее было более, чем достаточно, в связи с тем, что учеба на филологическом факультете не требует постоянного присутствия на парах, Яна стала посвящать созданию очерков, рассказов и заметок.
Каждую секунду она упрекала себя за это. Мысль о студентке филологического факультета, которая начала сочинять, марать бумагу в порывах вдохновения, казалась Яне отвратительной. Зная, что вслух это прозвучало бы еще в несколько раз отвратительней, Яна молчала и скрывала происходившие с ней изменения ото всех. Она проверяла себя. Она перечитывала свои первые очерки по прошествии времени и с облегчением замечала, помимо некоторых удачных оборотов и интересных мыслей, что очерки в целом действительно нескладны, местами смешны, что создаваемые образы не раскрыты до конца, что мысль не передана так, как следовало, – всё это говорило Яне о том, что она учится, учится сама, без чьей-либо помощи, руководствуясь лишь интуицией, что она не лишена вкуса и не слепа к собственным ошибкам; всё это говорило Яне, что она может стать лучше, умнее, внимательнее; она сравнивала старые и новые свои работы и ясно видела разницу; однако ни разу Яна не усомнилась – и была предельно честной с собой в этом – что сами мысли и образы, которые она стремилась передать в тех очерках, стоили того. Продолжая спрашивать себя каждый день, что же значат для нее всё-таки эти долгие часы, посвященные созданию заметки или очерка, Яна, заглядывая внутрь своей души, всматриваясь в нее честными, ищущими глазами, неизменно убеждалась: они значат всё. Они значат всё, в то время как прежде ещё ни одно занятие не значило для неё ничего. За столом Яна, погруженная в мир образов и идей, не замечала, как гас дневной свет, как в окна вливалась тьма, как кто-то входил и выходил, хлопая дверью, как крутились стрелки часов.
Однако читателю кажется странным тот факт, что в свои двадцать лет столько времени Яна с легкостью тратила на обдумывание, написание и редактирование; и это заслуживает отдельного объяснения. Действительно, это выглядит странно, теперь, в XXI веке, когда общение между людьми происходит непрерывно, когда новые знакомства возникают вдруг посреди ночи из-за одного случайного – или замаскированного под случайность – лайка; когда столько удивительно красивых, уютных кафе с верандами, выходящими на крышу, с цветами в окнах и лампочками на стенах, предлагают бесконечный выбор напитков, закусок, салатов, стейков, кальянов; когда чистые улочки центра становятся чудесным фоном для фотографий, на которые впоследствии случайно будет поставлен лайк; когда магазины сияют неоновыми лампами витрин и ослепляют зеркалами и белизной полов внутри, а взгляд теряется среди лабиринтов свисающих платьев, брюк и футболок; когда большинству молодых людей не приходится работать в то время, пока они получают образование; когда ежедневно сотни мероприятий проходят под небом столицы – выставок, фестивалей, представлений; когда, наконец, можно найти развлечение на любой вкус – есть библиотеки, кино, концерты, клубы, музеи, спортзалы, массовые забеги, театры, флешмобы, мастер-классы, бары, заброшенные дома, вписки на окраине города в старых квартирах, курение кальяна в машине с видом на набережную; когда обо всём этом можно узнать за секунду, проведя по экрану пальцем, а уже в следующий момент, проведя еще раз, вызвать такси – или спуститься под землю и пронестись под ней на другой конец города за час; когда есть путешествия – самолеты, поезда – были бы деньги; когда есть, наконец, автостоп; действительно, кажется странным, что в XXI веке, когда есть всё это и многое другое, Яна оставалась дома, чтобы написать, обдумать или отредактировать новый очерк. Живи она в другое время, раньше, поступок ее всё равно показался бы странным – но скорее из-за того, что женщине не подобало заниматься такими вещами; теперь же, в XXI веке, Яне никто не запретил бы писать; осудить – осудили бы, стали бы критиковать – как и всех и всё всегда критикуют… Хотя, вероятно, всё же сильнее. Вероятно, начни она излишне философствовать, начни писать о любви – и сказали бы: ну, женская проза! бабская литература! Начни она писать о политике – «и куда это лезет?» Думая о подобном, Яна чувствовала, как ее подхватывает и почти что уже уносит волна феминизма… Однако по-настоящему осудить себя могла лишь она же сама – и, парадоксальным образом, как раз таки оттого, что в глубине души понимала: чтобы написать вещь действительно стоящую, хорошую, нужно быть вроде не совсем женщиной, немного неполноценной – как бы оскорбительно для феминисток это ни прозвучало, а Яна была в этом совершенно твердо уверена. Но не сказать, чтобы такое положение вещей устраивало ее, – всякий раз вновь возникал перед ней вопрос о том, как же совместить в себе всё и возможно ли это.
Яна, всегда вдумчивая, внимательная и любопытная, успела уже за свою небольшую жизнь почувствовать себя многими разными людьми; становясь ленивой, нервной и раздражительной от утомительных и вредных для организма занятий гуманитарными науками, она всякий раз торопилась в спортзал, и, таким образом, бывала и в дорогих фитнес-клубах, и ей нравилась яркая спортивная одежда, нравились красивые девушки, фитнес-бикини, инстаграм-блогерши, и на некоторое время Яна приближалась к ним, понимая, что ими движет, и сама надевала новые дорогие кроссовки, фотографируя их на себе; она бывала и на рок-фестивалях, промокая под летними ливнями, разрисовывая лицо красками и срывая голос; она бывала и на заброшенных железных дорогах, фотографируя исписанные гаражи и неподвижно застывшие старые поезда; со знакомыми каталась Яна по Москве на машине, гуляла по набережным, курила кальян, много смеялась и говорила о пустом, будто радуясь всему происходящему – и действительно она радовалась; она ходила в салон и делала маникюр; точно так же, как и многие ее однокурсницы, она когда-то плела цветные фенечки и носила их на запястье, и Яна понимала всех хиппи, всех панков, всех бродяг и уличных музыкантов; она смотрела на женщин, работавших в библиотеке их корпуса, потом на некоторых своих однокурсниц и хорошо представляла себе процесс превращения; она смотрела на преподавателей, которые приходили в ярость и впадали в тоску оттого, что никто не знал ответа на заданный ими вопрос, – и тогда вспоминала собственные чувства, испытанные ею, когда она рассказывала кому-то о чем-то, что было бесконечно важно и дорого ей, а никто не понимал. И таким образом она знала, что движет ими всеми, всеми людьми, которых она встречала, – она каждого могла понять, будто полностью встав на его место; она и вставала – иногда мысленно, иногда физически; и единственное, что неизменно и невыносимо пугало ее, была мысль о том, что ни один из них не соединил в себе черты более чем двух или трех типажей. Каждый кем-то являлся – кем-то определенным; один не мог полностью понять другого; а Яна могла – но ни в одном занятии прежде, как бы оно ни увлекало ее, и ни в одном человеке, как бы он ей ни нравился, она не находила и не видела себя, и в конце концов ей становилось скучно.
Она знала, что в чем-то однажды найдет свое отражение.
Так случилось, когда она стала писать. Это было трудно и даже страшно признать – из-за всего, что она видела вокруг, из-за того одиночества, на которое себя обрекала, из-за неотвязной мысли о несовместимости женской природы и литературного труда.
Возможно ли молодой девушке, рожденной в XXI веке, понимающей этот век и любящей его, знающей различные типажи людей, действительно стать писателем, в произведениях которого круг тем не ограничивался бы семейными драмами, кухонными войнами, сплетнями, любовными треугольниками, больным детством, подростковыми переживаниями, проблемами ЛГБТ-сообщества, суицидами; нет, таким писателем, который бы, навсегда храня в душе любовь к классике, стремясь к такому же богатству языка, сумел бы обратиться к современности и честно рассказать о ней; при этом – не стать одной из тех женщин, что царствуют в библиотеке; не собрать волосы в пучок, не купить очки, не достать с верхней полки шкафа вязаную кофту; нет, всё же «думать о красе ногтей», пользоваться всеми благами XXI века, оставаться женщиной, не разлюбить косметику, одежду и мужское общество; выглядеть так, как выглядят девушки, регулярно посещающие дорогие фитнес-клубы; выглядеть так, чтобы никто и в жизни не смог бы подумать, не зная ее, что она – писатель. Воображение рисовало ей картины практически невозможные.
Но Яна продолжала проводить время за столом, всей душой стремясь к тому, чтобы попытаться стать той, кем хотела быть; она чувствовала в себе скрытые силы, верила себе, хотя и сомневалась. Порой ей бывало всё-таки сложно сосредоточиться, и затруднения мучили ее, и тогда случалось, что и полдня могла она провести, листая бездумно соц. сети, растворяясь в потоке информации, поглощая ее и тут же о ней забывая. Она гипнотизировала Яну, отвлекала внимание, успокаивала…
Однако читатель может прервать этот рассказ и задать еще один вопрос – один из самых ожидаемых, один из важных. Он непременно удивится – что же она, никого не любила, или ее никто не любил? И, вероятно, даже не совсем об этом подумает читатель; он помнит, что принято в современном ему обществе, какие отношения связывают многих людей и что у них в мыслях; читатель помнит, как гуляют, как обнимаются в парках, как одновременно выходят в туалет в неоновом полумраке кафе; и тогда он, подумав, перефразирует свой вопрос: получается, она была странной?
И здесь придется ответить ему – да, Яна была до известной степени странной: она, от природы склонная к одиночеству, на филфаке и вовсе оказалась в окружении девушек, будто в женском монастыре. Некоторым кажется, это преувеличение, – но отчего же тогда на этажах филологического факультета даже и два мужских туалета переделали однажды в женские – если не за острой нехваткой одних и совершенной ненадобностью других, то почему?
За всю свою жизнь никого еще Яна – как, она знала, и многие другие, – не встретила под стать себе. Жить же ради веселья никогда не было свойственно ей; Яна любила в каждом своем действии и вообще во всём, что происходило, находить определенный смысл; и если на этих строчках читатель не стал еще зевать от скуки и не уснул – для него и его живого воображения имеется небольшой поощрительный приз. Яна, как ни странно, вовсе не была неопытной девочкой, краснеющей от каждого двусмысленного взгляда. В ее душе было много темного, тайного, того, что, как ей казалось, просто ждало своего часа, чтобы как-то проявиться внешне, а пока, неуловимое для окружающих, действовало скрыто, изнутри, не давая смущаться и краснеть, словно шепча ей: «Мы с тобой еще и не о таком думали…»
Оттого, однако, что человеку, склонному к рефлексии, становятся предельно ясны мотивы собственного поведения, они не становятся таковыми для окружающих; и потому Яна неизбежно ощущала себя периодически пресловутой белой вороной – даже и на филфаке, даже и тогда, когда никто ничего не говорил ей – для чуткой и обладающей обостренной интуицией Яны было достаточно одного лишь молчаливого наблюдения за жизнью других, чтобы затем сравнить себя с ними и несколько смутиться.
Но в XXI веке едва ли может явиться на свет книга о противостоянии личности и общества – несмотря на то, что такие попытки осуществляются; не может потому, что общество теперь состоит из тысячи различных типажей, сочетает в себе их все, и только подросток может чувствовать себя лишним, непонятым, не таким, как все; даже Яна, безусловно сознавая, что во многом кардинально отличается от всех ее знакомых (она отличается даже от однокурсников неким презрением к излишней важности и неизбежной мышиности всего, что связано с филологией), всё равно не считала себя особенной – поскольку знала, как много умещается под московским небом совершенно разных людей.
Стремление к обществу потребления, ощущение его где-то рядом. Детская неразборчивость и очарованность блеском рекламы.
Недостижимая игрушка за стеклом на витрине.
Нет массового потребления, нет болезни, о которой пишут западные авторы. У нас – только путь к ней, желание обладать, и в этом борьба, и в этом трудности, лишения, и это всё – простое желание быть счастливым, гонка за счастьем, гонка человека, ещё не уставшего от этого счастья, не привыкшего к нему.
Нам рано читать Паланика. Мы не найдём там себя.
Мы работаем на никчемных работах, получая копейки, выживаем от пятницы к пятнице, листая смешные мемы, потому что мы шутим над собственной бедностью. Шутим над одиночеством, холодом, темнотой. Так хотим благополучия, стабильности, солнца, тепла. Так хотим – но хотим ли? Но хотим ли – в душе?
Как нам противны разговоры о душе! Как нас тошнит от вопросов экзистенциальных, как мы устали! – Нам бы только в гамак, к океану, да коктейль со льдом. К черту всю философию, филологию, Достоевского, мы и слышать не можем этого имени. Что нам душа, если дырка в пальто и сугроб выше крыши?
Нам рано читать Паланика. Мы не поймём и поймем его. Согласимся и нет.
Мы почувствуем противоречие.
Да, мы знаем: и нáс опьяняет реклама, и нáм диктуют, как жить, и нáс соблазняют, заманивают, дразнят, заставляют стремиться к материальному благу. – Только нам это:
1) в радость, поскольку не обладаем ещё и имеем мечту;
2) нипочем, ведь мрачно уверены, что не ждёт ничего хорошего, что оно – не про нас.
И что, разве есть у нас проблема с тем, что мы не чувствуем себя живыми? Мы пошли бы в бойцовский клуб, подожгли бы витрину с техникой?
А что, пожалуй и да! Но не от приевшегося благополучия, не от пресыщения. А разве что как протест против того, чего мы желаем, но не можем иметь.
Чувствуем ли живыми? – это сложно сказать! Днём нам кажется, что не живы, что умерли много веков назад, и мы любим об этом шутить. Но и действительно чувствуем пустоту, горечь и мертвенность, «дыру в душе» и все прочее, ставшее уже клише. Но ведь мы ещё верим во что-то, чего-то ждём и ищем – как бы ни отрицали.
А значит – живы, и нет, не сонное царство, не войско зомби, кочующее из офиса в магазин за чипсами, а оттуда домой к дивану. Но и таких много! И всяких полно. И мечтателей миллион. И борцов, и создателей. И имеющих собственный самолёт. Наше общество всех вмещает. Так что с ним?
Жуткая смесь из всего, мы сумбурное начало нового века, пережитки прошлого, обломки союза, на которые сверху нагромождается все подряд, что красиво блеснёт с запада. И мы действительно одиноки как никогда, как не был никто одинок, даже не умеющие говорить первобытные люди. Нам ведь приелось это «одиночество в толпе», нам ведь кажется, что про это писали три тысячи раз? А только теперь мы ещё более одиноки, чем те, из XX века.
XXI – век иллюзий и призраков. Сто лет одиночества. Важные слова, которые более нет мужества произнести. Как ни крути, а отдаление от реальности и естественных чувств.
Неудачно так жить – на заре… всего.
Интересно, но неудачно – снова кажется, что лучшее лишь впереди. Что разрешение конфликта возможно лишь в воображаемом обществе будущего, когда условия 'благополучные', 'человеческие' и 'стабильные' сделаются настолько привычной реальностью, что никем уже, ни одним поколением не будут восприниматься как чудо, как нечто из ряда вон, или даже хотя бы как то, что следует 'ценить'. Вот когда абсолютно всё – вплоть от средств связи до транспорта – принципиально нового (по сегодняшним меркам) – эти люди будущего перестанут ценить, то есть когда появится даже некое свинское отношение, но в зачаточной форме, только как отголосок – ведь недостатки прошлого будут почти изжиты – вот тогда действительно начнётся новая эра, расцвет человечества. Кончатся все конфликты "души" и "тела", "материального" и "духовного". Завершится извечный спор. Уважение человека к самому себе станет достаточным для того, чтобы обеспечить условия для безбедной жизни, и тогда дух устремится ввысь. Тогда возможно будет это все ещё кажущееся немыслимым сочетание творчества и благополучия, сытости и полёта мысли… А впрочем – ведь это картина идеального, гладко-причесанного мира, и от неё веет чем-то нездоровым. Или это кажется нам так с нашей теперешней точки зрения, с нашей сегодняшней надорванной психологией? И она говорит нам: где нет трещины, где нет червоточины – не может быть ничего духовного, честного, стоящего. А многим, многим из нас она говорит: отлично, пусть будет так, и не нужно никаких трещин, равно как и стремления какого-то духа в какую-то высь.
Нам предстоит ещё долгий путь. И к чему этот путь – неизвестно, а только мы всё идём и стремимся, и каждый верит во что-то своё, сколько бы ни отрицал, и мы все ещё спорим – нет, спорим как никогда – где наш путь и какой он в сравнении с западным, всё мы спорим с пеной у рта, и никто не придумал ответа. Да и есть ли он? А покуда ищется – мы идём и идём, раздражаясь, бодрствуя, стремясь. Смеясь, мечтая и веря. Разочаровываясь, потребляя, бросая. Обманываясь и снова желая. Не думая совершенно – и становясь учеными. Посещая церковь – и напиваясь в барах. Безумное, чуднόе общество, его не приведешь к общему знаменателю… Какая книга могла бы охватить, отразить все тенденции, все стремления? Автор бы должен был иметь раздвоение личности, а иначе он просто не справится.
Но, так или иначе, почти всё свое время Яна стала посвящать созданию рассказов и очерков. Рано или поздно с ней неизбежно произошло бы это, поскольку она, рассеянная и порой несправедливая к себе, забывала о том, что родилась на свет с тем особенным чувством поэзии, которое нельзя воспитать или привить; она родилась со взглядом, словно подернутым дымкой; она смотрела по сторонам каждый миг будто только что прозревшая, будто впервые видела перед собой дома, людей и улицу, между тем как ходила по ней много сотен раз. Так вглядываются лишь вглубь океана, опустив лицо в плавательной маске под воду, так некоторые смотрят лишь на звездное небо, отыскивая далекую точку красной планеты. Яна же смотрела такими глазами на всё, и в тех взглядах, которые она устремляла на растущие около дома деревья, на играющих в песочнице детей, на бегающих за палкой собак, на обыкновенные облака, даже не расцвеченные лучами закатного солнца, иной заметил бы нечто пугающее, нездоровое.
Сама же она невыразимо и нестерпимо мучилась от такого восприятия мира, от невидимой для тысяч людей красоты каждой трещинки в асфальте, и это мучение также было заметно иногда в ее взгляде. Волнами захлестывающая ее красота вся оставалась внутри, неразделенная, непереданная другим, между тем как она с трудом уже помещалась в душе у Яны, и та испытывала почти физические мучения. Кроме того, слишком уж ей не хотелось походить на всяческих типичных чудаковатых не от мира сего персонажей – и потому она прятала глаза, даже если и допускала иногда нескромную мысль, что у нее-то это по-настоящему, и потому притворяться и прятаться подло, и что всё равно она от себя не спрячется.
В детстве и особенно в подростковом возрасте Яна пробовала вести дневник, прочитав где-то, что изложение на бумаге собственных страхов и горестей таинственным образом освободит от них; однако чуда, вопреки ее ожиданиям, так и не произошло. Все неприятности были честно записаны, отмечены датами, – а настроение Яны оставалось неизменным. Также пробовала она и писать стихи, но сама понимала, что выходят они довольно посредственными. Чувства, которые она хотела выразить, никак не умещались в рамки стихотворения, слова вылезали за пределы рифмы, слова отказывались отражать те образы, которые виделись Яне. Поэтому вскоре, решив, что так будет правильнее, она прекратила попытки. Но ее восприятие мира оттого ничуть не изменилось. К ней продолжали приходить звенящие строчки еще ненаписанных стихотворений, – но всегда лишь первые, обманчивые, за которыми неизменно следовала лишь мучительная, полная чувств, тишина.
Это не прекращалось ни на секунду и не находило выхода. Стремясь хоть как-то облегчить душу, Яна стала записывать отдельные короткие фразы, не всегда связанные между собой, передающие лишь ее непосредственные впечатления и фиксирующие секундные образы:
Светящиеся окна в домах;
Сырой дождливый воздух;
Вечерний ветер;
Дрожащее расплавленное золото фонарей в чёрно-зелёной синеве пруда;
Высокие тёмные сосны в лесах;
Кривые тени от веток на жёлто-серой ночной земле;
Красные отблески светофоров в графитово-блестящих асфальтовых лужах;
Сиреневый весенний вечер;
И дрожащие тени от резного забора, освещаемого бледным жёлтым светом;
И небо дымчато-сиреневого, перламутрового оттенка;
И деревья темно-зеленые, между которыми призрачными золотистыми звёздами сияют фонари и лампочки в окнах домов;
А там, где они сияют ярким белым светом, темная листва окрашивается в изумрудный оттенок летней травы, сияющей на солнце;
И окна в старых подъездах, открытые настежь, в улицу, в весну, с ветвями деревьев, заглядывающими в них;
Большие прохладные арки в старых домах, полные летнего воздуха.
Этот список увеличивался с каждым днем.
Однажды она поймала себя на мысли, что никакая картина не может заменить ей словесных образов и их силу; светлая лазурь вечереющих небес казалась лучше, чем изображение ее на картине – пусть даже самое правдоподобное. Может быть, лучше даже, чем сама эта лазурь и эти небеса.
Потому-то и в общем настроении, создаваемом обстановкой в спортивных залах, на стадионах и на соревнованиях, казалось Яне что-то особенное, поэтичное, удивительное. Ее очаровывал тот огонь, который видела она в глазах спортсменов, и, словно проникая в их мысли и становясь на их место, она чувствовала, как сильно бьется сердце у гимнасток, выходящих на помост, у ждущих свистка пловцов, у отрывающихся ото льда в сумасшествии прыжка фигуристов. Она верила в красоту и смысл спорта, она видела и себя в нем, она иногда жалела, что с детства не связала свою жизнь с ним, – но тут неустанно трудящиеся ее мысли подкидывали Яне новый вопрос, требующий решения: возможно ли сочетать творчество и здоровье, творчество и счастье? Вопрос, который за всю свою историю не сумело решить человечество, остался загадкой и для Яны. Она знала о редких исключениях, о людях-парадоксах, чьи жизни вызывали у многих лишь восхищение, удивление и скрытую зависть, о художниках, чьи улыбки освещали солнцем всё вокруг, стоило им лишь зайти в комнату, о писателях, счастливо живущих со своими семьями и думающих, что подарить внукам на новый год, о музыкантах, славящих радость бытия; иногда Яна, мечтательная и полная светлой веры в чудеса будущего, думала о величии человека, думала, что возможно научиться и совместить в себе всё. Отчасти и это стремление – стремление к совершенству – объединяющее всех спортсменов со всего мира, и их вера и сила воли вызывали в Яне неугасающую любовь к спорту. Но в глубине души Яна знала – что-то в самом человеке есть определяющее, что-то, до чего каждый может добраться, ухватить и рассмотреть, что-то, что прямо сообщит ему, кем он должен быть, кем он будет и будет ли счастлив. И, заглядывая так в свою душу, Яна с ужасом замечала всякий раз, что всё смутное, концентрирующееся в ней, если однажды обретет физическую форму, если станет картиной, рассказом или песней, раз навсегда обречет ее на еще большие страдания, поиски и трудности. Она пугалась этого предчувствия, но тут же и корила себя за мелочность, слабину, готовая мужественно принять всё, что случится, если это будет необходимо; тут же она и смеялась над тем, какими преувеличенными, надуманными и нелепыми казались ей вдруг эти помыслы о чем-то великом. Она смотрела в зеркало, вглядываясь в светло-карие, ореховые глаза с аккуратно очерченными темными бровями над ними, разглядывая тень, ложащуюся на высокий лоб от длинных темно-русых волос, и говорила себе: «Что ты, маленькая девочка, Яна, пробыв в этом мире всего двадцать лет, можешь дать ему – ему, даже уставшему уже от великих дел, от свершений и сдвинутых гор? О чем же ты думаешь, чего вымышленного и несуществующего пугаешься, вместо того, чтобы просто жить?»
Но всё это за один день навсегда вдруг отброшено было назад, всё это забылось, и постепенно перед Яной стал возникать её путь, тот, который она долго искала, боясь никогда не найти. Теперь же стали на глазах происходить чудеса – чем больше она писала, создавая образы, персонажей, придумывая сюжеты, – тем больше освобождалась. Все, что ее мучило, – своей ли пошлостью, или, наоборот, красотой, – все это, воссозданное на бумаге в форме художественного произведения, а не обычных дневниковых записей, удивительным образом очищало душу. Выдуманные персонажи и не всегда реальные ситуации, словно губки, вбирали в себя все, что происходило вокруг Яны, не давая ей спокойно жить. Это было самым важным ее открытием.
О нем, однако, Яна предпочитала ни с кем не говорить, боясь не столько непонимания, сколько самой впоследствии разочароваться, оставив весь свой пыл и всю силу в одних лишь пустых словах. Другой причиной ее скрытности была неуверенность в себе и в том, что ее намерения действительно не изменятся. Яне требовалось время, и она, от природы любящая одиночество, с легкостью умалчивала в повседневных разговорах обо всём, что на самом деле занимало ее мысли. Порой ей казалось, что она скрытная настолько, что на месте Анны Карениной в знаменитой сцене со скачками никак бы себя не выдала.
Сначала, пока Яна предавалась спокойным размышлениям о себе и о значении того, что она пишет, всё шло своим чередом; но через некоторое время Яна стала всерьез задумываться, что ждет ее впереди, если она продолжит столько времени посвящать написанию рассказов и очерков, скрываемых ото всех. Тогда она стала мрачной, и делалась лишь мрачнее от замечаний, что она похожа на тучу. Бесплодные и тяжелые мысли стали лишать ее сна.
Яна знала о бесчисленных, никому не известных людях, которые в крошечных комнатушках множат и множат по ночам свои тексты, аккуратно складывая их затем в стол, пачка за пачкой. Яна знала, какое невероятное, доводящее до ужаса количество текстов подвешено, будто в воздухе, во Всемирной паутине, в виртуальности, – в пустоте, не знающей рамок, расширяющейся, точно Вселенная, до бесконечности, готовой вместить в себя всё. С необъяснимым страхом и отчаянием Яна каждый раз закрывала интернет-ресурсы современной прозы и поэзии, находя всё новые и новые страницы никому не известных авторов. Яна видела там произведения, аккуратно рассортированные по годам или темам, подробную биографию, ссылки на другие страницы автора в соц. сетях, и она почему-то думала: «для чего это все, и кому это надо… Вот он живет, занимается этим, – Ян Фердинандов из Алма-Аты, – и что?..» Яна, понимая весь снобизм и возможную ошибочность своих мыслей, ничего не могла с ними поделать.
Конец ознакомительного фрагмента. Купить книгу