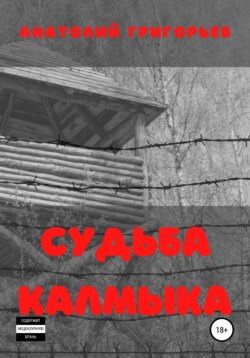Читать книгу Судьба калмыка - Анатолий Григорьев - Страница 14
Глава 13
ОглавлениеКазалось бы, и весенний месяц март начался, и солнце веселее и дольше стало висеть на небосклоне, а поди ж ты, до тепла было еще далеко. С вечера давили морозы и за день, чуть размягчивший снег смерзался за ночь в сплошную ледяную массу. Утром висел сизый туман, который к полудню растворялся солнцем, и в ясное спокойное небо, втыкались стройные струи дыма из труб, топившихся печек в немногих избах. Все трубы задымят вечером, когда весь люд поселка придет с работы. А сейчас топят лишь некоторые ребятишки, кто не учится или старые. И все-таки приход весны чувствовался. Веселее чирикали воробьи, деловито дзинькая, сновали синицы. На солнцепеке, блаженно закрыв глаза, стояла скотина, выставив на обогрев тощие ребристые бока. С кормами было очень плохо. Прошлые дождливые лето и осень напрочь сгноили заготовленные копны сена. На сенокосах в некоторых местах их даже не свозили в стога. Так они и стояли приплюснутые, накрытые шапками снега. Разве только охапку сена можно было надергать из сгнивших пластов копны.
Чуть поутихли морозы и поярче засветило солнце, хозяева не стали держать на своих подворьях голодный скот, который не выдерживал бескормицы и начал погибать. Так хоть на свободе, буравя глубокие еще снега, корова лезла в густой кустарник, обгрызая тонкие макушки его, а где показался и пучок высохшего бурьяна. Люди надеялись на авось до последнего, что скотина выживет. Размягченный солнцем снег, застывал на ночь в ледяную корку и в раннее утро или в теневой стороне на следующий день не всегда размягчался. И вот, так называемый наст, тонким слоем покрывающий основную толщу снега губительно действовал на ноги и брюхо животных. Животные проваливались сквозь ледяную корку наста – в кровь изрезая себе ноги и брюхо. Обессиленные голодом, а еще сильными ранами от наста, животные падали, гибли. Хорошо, если хозяева успевали прирезать скотину. Пища из такого животного считалась вполне съедобной. А не успел прирезать, погибшая скотина считалась дохлятиной, мертвечиной и употреблять ее в пищу считалось великим грехом. Грехи – грехами, а жрать чего-то надо было. И шкуру с животного по налогообложению государству сдать надо. Хоть с зарезанной, хоть с дохлой. Ну, а когда снимал хозяин шкуру с туши, ум за разум заходил. Не выдерживал и вырубал наиболее мясистые куски. Да пусть простит бог за грехи! А сизые ребра, торчащие гнутыми обручами грузил на санки и показушно вез в ближайший лесок на выброс. Вторым заходом вез голову и ноги, объясняя попавшимся встречным свидетелям:
– Смотри, вроде и тощая была, зараза, а вот уж третий или четвертый раз вывожу эту падаль.
Встречные долгим взглядом провожали его и запоминали место выброса падали. А как только темнело, окольным путем, с саночками, мешком и топором, спешили туда, где грызлись собаки. Случалось, находили и более целые туши, торчащие замерзшими глыбами поодаль. Это вывозили падшую скотину наиболее сытые хозяева. Единственно, кто не скрывал, и не таился, а были даже благодарны, если им указывали место нахождения падшей скотины, так это – калмыки. Особенно они любили конину. На лесоразработках работало много лошадей. Погибали они по разным причинам: часто среди таежных буреломов лошади ноги ломали, распарывали брюхо сучьями, до смерти забивались осатаневшими от нечеловеческой жизни возчиками. Их часто прибивало падающим лесом, лошади надрывались от непосильных поклаж, от бескормицы. Естественно, при разделке туши лучшие куски отправлялись в столовые, разбирали возчики, а что оставалось, забирали разные люди. Калмыкам доставалась требуха, головы, ноги. Завидев калмыков, везущих костистые остовы туш или в мешках требуху, народ интересовался:
– Махан?
– Махан, махан! – радостно кивали они и приглашали к себе – Айда, избам!
Люди брезгливо отказывались и бурчали:
– Жрите-ка сами дохлятину!
Но, проходя мимо их избы раз-другой, когда несло на всю округу аппетитными мясными запахами, удержаться не было сил, особенно, если человек был голодный. Да и местные ребятишки кругами носились вокруг их избы, пока кто-нибудь из них не высовывался из дверей и не приглашал зайти в избу. Заходили вроде как погреться, заодно посмотреть, как живут эти люди. А цель-то была одна – утолить голод. Философски рассуждая: – они едят махан – не умирают, а почему мы должны умереть? А брезгливость – чувство временное, привыкает человек. И к тем ужасным запахам в избе, от гнилой картошки и капустных листьев, от испражнений идущих из под пола, к несусветной грязи, тоже относились философски. Ну, живут так люди, что ж! Кому что. Ребятишки безвылазно сидели на нарах, свои и чужие. Вшей и клопов было не меряно. На нарах с сеном спали, ели, играли.
Избенка была маленькая, с нар на нары от одной стены до другой ребятишки прыгали как обезьяны, стараясь меньше спускаться на грязный, холодный пол без нужды. Прихожую и комнату разделяла кирпичная печка. Но эта печка плохо топилась, потому в ее дымоход подходила труба железной печурки, которую в гараже сварил Максим. Ей и пользовались и топили и день и ночь. Она оказалась удобной, и от нее быстро нагревалось в избе. Да и кирпичная печь немного грелась, пропуская от нее через себя горячий дым. Но пол был все равно холодный, так как изба стояла на крутяке, обдуваемая ветрами. Максим, как мог, подремонтировал крышу, потолки и окна. Двери, конечно, были старые. Сени вообще были как решетка без дверей. Подремонтировал их Максим, и стало в избе теплее. Нехватка одежды и обуви, морозы, болезни и смертность калмыков навели Максима на мысль: ребятишки в уборную в холода бегают почти раздетые, простуживаются. От плохой пищи часто болят животы. И он устроил уборную-туалет дома.
В сибирских избах под полом всегда выкопаны большие ямы – подполья. В них зимой от морозов сохраняют картошку и все овощи и соленья. Можно неделями не выходить из избы и быть сытыми. Необходимые продукты в подполе. Но это у кого-то. А у калмыков запасов никаких не было. По косогору было построено несколько таких избенок и несколько бараков. Бараки еще до приезда калмыков были заселены под завязку тоже спец. переселенцами литовцами, немцами, украинцами и непонятно кем. Раньше, при создании леспромхоза, в бараках жили заключенные, в избах, очевидно, начальство и охрана. И место это называлось колония, а теперь после ухода заключенных называлось в народе Колонка. Так вот, все избы в более лучшем состоянии были заселены русскими и украинцами, а одна, совсем обвалившаяся, досталась калмыкам. Поскольку каждый хозяин в своей избе распоряжался, как хотел, то Максим тоже решил устроить жизнь своим жильцам как можно лучше. И в пустом подполье, выдрав одну доску из пола, он устроил уборную-туалет. Да, немного смердело, зато ребятишки и старухи не морозили зады в трескучие морозы. Доска при необходимости свободно открывалась и закрывалась, и ребятишки часто усаживались в ряд, и только трескотня стояла по избенке. Зловоние частично уменьшалось тем, что старухи исправно посыпали золой из печки свежие автографы ребятишек. Если кто-нибудь заходил к ним и морщил нос: «Ну и дух у вас, друзья!», старухи, дымя при этом трубками, старались нейтрализовать зловоние табачным дымом, заключали:
– Ничава, вися свая!
Против этого возразить было нечего. Выживали, как могли. С падежом скота все чаще у них появлялась мясная пища. Но чаще расстраивались и животы. Но жить все-таки было можно.
Когда хозяева подворий стали выпускать скот на волю, падеж заметно прекратился – коровы все-таки находили кой-какой корм в окрестным лесах. Да и морозы заметно поубавились. Завхоз подсобного хозяйства, поняв свою оплошность с кормами, и тут запоздал. Давно бы надо было уж выпустить коров на свободный прокорм. Боялся – недосчитается поголовья. В загоне хозяйства если сдыхали коровы от голодухи, все было проще: шкуры в наличии, акт составил, подписали свидетелями и ветеринаром и точка. Все законно. А потеряется если корова – подсудное дело. Но все-таки рискнул – выпустил коров и пастуху – придурковатому мужику, наказал ходить, следить, считать коров. Куда там! Коровы в разные стороны, пастбищ-то нет, лезут в разные кусты по снегу, не угонишься за ними. И найдя третейский вариант, пастух грелся на солнышке на штабелях бревен, дожидаясь темноты, когда коровы сами возвращались на ферму. Тогда и он шел последним. Где только не ходили коровы в поисках пищи. И в лесу, и по селу, и по проезжим дорогам, подбирая клочья оброненного при перевозке сена. Шофера лесовозных машин остервенело ругались, сгоняя с дорог блуждающий скот.
За речкой, за кустарником шириной в несколько десятков метров, находился гараж леспромхоза. Территория его когда-то была огорожена забором из горбыля (первая доска, отпиленная от бревна) метра в три высотой. За годы войны доски забора растащили для различных нужд, и забор был только по названию, торчал кое-где сиротелыми щитами. Входи в гараж с какой хочешь стороны. То были одни ворота, а теперь дорог к нему наделали со всех сторон – и со стороны речки, моста, горы, куда он примыкал к густому осиннику и со стороны таежных лесов. Собственно в распутицу весеннюю и осеннюю, и во время разлива речки это было даже удобно. Коровы, шляясь по всем дорогам, забредали и в гараж. За котельной, где грохотал дизель и паровозик, поставленный на прикол, для выработки электроэнергии для мастерских и освещения села, когда-то была вырыта вплотную к горе яма-пещера, для выжига древесного угля для кузницы. Потом эту яму использовали для выжига извести. Впоследствии, уголь и известь жгли-готовили где-то в лесосеке, а эту яму приспособили для гашения извести. Но стройка бараков и печей скоро закончилась, известь выбрали, а яма стала использоваться под различные отходы при работе в гараже. Сюда сливали отработанные масла, кислоту от аккумуляторов, масляные растворы при мойке двигателей, выбрасывали сюда и непригодную замасленную ветошь. Дожди и снега дополняли уровень ямы, она никогда не замерзала и, пенясь белесо-бурыми пятнами, магнитно притягивала сюда пацанов, пуляющих в нее камнями и снежками. Выдумывались про эту яму невероятные истории, что там водятся, чуть ли не крокодилы и какие-то таинственные существа. Ее края обросли коричневатым пыреем, мохнатыми бородами свисали вниз и как ни странно, там многоголосо квакали лягушки, перепачканные мазутом. Особенно ранней весной.
Одна из коров подсобного хозяйства забралась сюда в поисках корма и, обнаружив пучки сухой травы по ее краям, стала их поедать. Не замечая опасности, она очень близко наступила передними копытами на подмытый край ямы, который не выдержал ее веса и отвалился вниз, увлекая за собой и корову. Ткнувшись мордой в опасную жидкость, корова не захлебнулась, а, побурлив воздухом из ноздрей, скоро появилась над поверхностью этого коктейля и жалобно замычала. Из этой жижи торчала только ее голова и часть тощего хребта. Она попыталась выбраться на противоположный край, отчаянно загребая ногами, но безуспешно. Очевидно, вниз была илистая масса, образовавшаяся за многие годы. Чувствовалось, что ей трудно передвигать ногами, их, очевидно, засасывало в своеобразную трясину. Люди узнали о падении коровы в яму, когда она, обессилев от попыток выбраться оттуда, только жалобно мычала и расфыркивала перед собой мазутную муть. О том, что корова стояла на ногах, было видно из того, что она несколько раз меняла свое местонахождение в яме. Но больше всего она подходила к месту, откуда свалилась, и здесь ее голова торчала из жижи намного выше. Обессиленная, она с трудом поднимала свою рогатую голову от поверхности жижи, выфыркивая грязные пузыри из ноздрей и жалобно смотрела на людей круглыми влажными глазами. О том, что это была корова из подсобного хозяйства, говорила о себе заклепка в правом ухе. Там все коровы были с клеймом. Люди подходили, сожалели, но действенных мер никто не принимал.
– Силантьичу сообщили? – любопытствовали бабы.
– Сообчил, сообчил, собственноручно отправлял свово пацана. Скоро прибудет, – разъяснял гаражный сторож.
– Ну, что, Кузьмич! Магарыча ждешь? – справлялся у сторожа подковылявший на деревяшке мужик, – В долг бери, я первее тебя увидел из окошка своего дома эту аварию. Да пока подрулил сюда на своих колесах ты уж тут как тут.
– Мне тут по службе положено быть и в долю кого брать – слово за мной при магарычевом деле, – важно ответил Кузьмич, – Ты, Венька, свои фронтовые замашки брось, это тебе не в атаку иттить, тут животную государственную спасать надо.
– Ух, ты футы-нуты, ножки гнуты, нашел государственное дело, ты еще скажи партейное, – подтрунивал Венька, хлопая прутиком по своей деревяшке.
– Ну-ка, скажи, как ты ее спасать будешь? И что потом будет? Вон, в прошлом году кобель у литовца во время собачьей свадьбы бултыхнулся сюда. Потеснили его кобели во время выяснения сил. И че, думаешь? Облезла шерсть на нем. Все лето в холодке обретался, а холода зимние пришли – околел. А ты «государственное животное». Ты знаешь, че в этой яме есть? То-то. Все отравлено-промазутено. Даже на мясо твоя животина не пойдет. Все Крышка корове, можно и не вытаскивать, – и вдруг радостно осклабился, увидя подходившего завхоза подсобного хозяйства, – А, Силантьич, на поминки пришел! Давай, дорогой, по-христиански помянем животину, в мир иной отходящую.
– Тьфу, на тебя! Чего мелешь? – озлился завхоз, – Где тут животина?
– Да, вон, любуйся! – указал Венька.
Силантьич обошел яму, насколько это было возможно, внимательно разглядывая корову.
– Мда! – закачал он головой, – Коровке каюк!
– Че я тебе говорил! – торжествовал Венька.
Подошел сюда и завгар. Покуривая папиросу, он покосился на столбик с надписью: «Не курить! Огнеопасно!». Поздоровавшись с Силантьичем, он усмехнулся:
– Утопился, говоришь?
– По самые уши, – зацокал языком завхоз.
– Что делать будешь? Ну, технику, допустим, я тебе дам за магарыч. Но ведь поломаем мы твою животину.
– Да хрен с ней, пусть бы тут она и околевала, да шкуру ведь с нее сдать надо. Живая она или мертвая.
– Не, милый, убирай ее отсюда, придет тепло, разлагаться начнет, вонь будет несусветная.
– А после мазута, кислоты, какая шкура с нее?
– Ты мужик опытный, с другой коровы две шкуры сдерешь, – засмеялся завгар и, хлопнув его по плечу, зашагал прочь.
– Стой, Васильич! Акт подписать надо, пока люди тут.
– Ну, надо так надо! – вернулся он, – А может тут в яме под ней еще одна корова лежит?
– А хрен его знает, может и есть, – устало махнул рукой завхоз, – Если б не отчет, так бы и хрен с ней, а так ведь в бумагах она, как и твои машины-трактора. Так что хочешь, не хочешь, а акт по форме придется составлять.
Услышав про акт, Венька поближе подковылял к завхозу, и лукаво поглядывая на сторожа, похохатывал, рассказывая ему:
– Слышь-ка, Силантьич, тут мы с Кузьмичем, не далее как вчера, баграми щупали яму, обруча на кадушки тут от ржавчины сохраняли, так и рога и копыта попадались нам. Тут, мне кажется, не одна коровка твоя кислотой разъедена.
– Иди ты? – выпучил на него глаза завхоз.
– Так, что давай, акт сразу на несколько штук подписывать будем. Пока мы свидетели, а то уйдем, поздно будет.
– Ты что меня на преступление толкаешь? – заорал он, – Может и вправду тут еще и мои коровы погибли, но пока вот одну вижу.
– Ладно, как хошь! – и мигнув сторожу Венька собрался уходить, бурча, – Сейчас пол-литру пожалеешь, потом в сто раз больше отдашь, да может еще и не возьмут.
– Что ты, что ты! Вениамин! Не уйдет от тебя и пол-литра и больше. Не до этого мне сейчас, вишь, голова кругом идет, – разволновался завхоз, ерзая рукой по планшетке, висевшей сбоку на плече. Наконец он достал нужную бумажку и послюнив огрызок карандаша, что-то на ней записал. Потом протянул планшет вместе с бланком Веньке, – Давай, вот тут свою фамилию и роспись.
Венька, растопырил в сторону руки:
– Ага, подмахни тебе бумагу и до свидания!
– Тьфу ты! Мать ее! – ругнулся завхоз и, дрожа пальцами, вынул из нагрудного кармана какие-то смятые деньги.
– Во! – выдохнул он, – Тебе этого хватит?
Венька живо сгреб с ладони завхоза деньги, а другой рукой потянулся писать на бумажке.
– Вот тут, – тыкал пальцем завхоз.
– Че пишешь-то? – заорал он, – Не надо никаких коров, фамилию только эту, как ее? – начал заикаться завхоз, – Силантьич, дорогой, Иванов, Иванов.
– Пишу, Вениамин Иванович я, – радостно юлил Венька, – Все самое российское. Я – Иванов, отец – Иванов Иван Васильевич, за что и воевали, за что отца и ногу потеряли! В гроб ее дышло! Видишь как вышло? Я ж тракторист первейший был, а теперь на бутылку у таких как ты прошу! – багровел лицом и дрожал руками Венька.
– Веня, Веня! Успокойся! Мы ж с отцом твоим вместе воевали.
– Воевать-то воевали, да лег он там под Москвой, а мы-то с тобой вот тут живые, хер с ним, что я без ноги! Я еще докажу всем и на трактор сяду!
– Вот и хорошо, Веня! – встрял завгар, – Как только с бутылочным делом закончишь, так мы с тобой чего-нибудь придумаем без всяких комиссий.
– Ну, спасибо и на этом! – заскрипел зубами Венька. И разжав кулак, омертвелым взглядом глядя на скомканные деньги, властно приказал, – Слышь, Кузьмич, потопали душу приводить в порядок, а то ведь, ей-бо, один оприходую!
– Чичас, тако акту подмахну и мигом с тобой, Веня! – засуетился тот.
– А дежурство? – напомнил ему завгар.
– А дык, я только сменился, слободный до завтрева. Силантьич! Иде тут крестик поставить на документе.
– Тьфу ты! С твоим крестиком, иди, тут роспись нужна. Крестик… – забурчал завхоз.
Мужики и бабы хохотали:
– Глянь, магарыч сорвали, а как дело до подписки дошло – крестиком расписаться.
Завхоз молча протянул акт завгару.
– Да пусть сначала народные массы подписывают – им веры больше, – задумчиво ответил завгар, глядя на мычащую корову.
Подписали акт несколько мужиков, а бабы боком и ушли незаметно. Осталась только бойкая на язык Кудриха. Она подержала в руках карандаш и съязвила:
– А курица не птица – баба не человек, не поверят мне!
– Да ты че? – смутился Силантьич.
– А ни че, через плечо! Сам вылезешь, не впервой. Моим ребятишкам жрать нечего, а твоя баба вчерашние щи на помойку выливает. Вот чего! – И она сунула ему огрызок карандаша, бойко зашагала по дороге.
– Вот те раз! – вконец смутился завхоз.
– Не озлобляй народные массы, а то ими же и бит будешь, – как-то по-библейски сказал завгар, подписывая акт.
– А может, здесь ее оставим? А, Васильич! – просяще, чуть не плача выдавил завхоз, – Все равно, через час другой пропадет животина.
– Э, нет! – замотал головой завгар, – Яма-то дело не шуточное. Не-ровен час человек какой, а, скорее всего, ребятишки попадут сюда. Тюрьма тогда. Мне давно уже начальство талдычит: откачивай ее да засыпь от греха подальше. Нет, Силантьич, при всем к тебе уважении. Вытащить техникой помогу, и сани тракторные дам, только увози ее куда-нибудь, ради бога.
– Оно-то так, – протянул завхоз, – Давай тогда трактор или чего, не соображу прямо как эту пропадлину отсюда вытащить.
Завгар обернулся и увидел разворачивающуюся машину.
– Э-э-э! – замахал он руками и быстро зашагал туда. Водитель заметил своего начальника и подрулил к нему.
Сзади кузовной машины был прицеплен лесовозный прицеп.
– На ловца и зверь бежит! – обратился он к выпрыгивающему из кабины калмыку, – Максим, посоветуй, как тут быть! – и он подвел его к яме.
– Ну и ну, попала бедняжка! – присел на корточки Максим и стал рассматривать корову, – А чего вы ее тут держите? – спросил он, вставая, – Вытаскивать ее надо.
– Да куда спешить? Хоть так она падаль, хоть этак – списывать придется, – Силантьич протянул ему акт, – Подпиши-ка, лучше.
Максим расплылся в лучистой улыбке и вытирая ладони рук о фуфайку ответил:
– Спасибо за честь, но моя подпись не боеспособна.
– Как это? – не понял завхоз.
– Враг народа я – лишен права голоса.
– Да, брось ты ломаться, мы, что не знаем, что ты передовой труженик? – поддержал завхоза завгар.
– Ну, смотри, сам себе приговор подписываешь, – и Максим, размашисто и быстро расписался.
– Лихо, – завхоз спрятал акт в планшетку.
– Чего привез? – осведомился завгар.
– Да вот, две лебедки на ремонт привез, и трех женщин захватил. Выходной им дали первый раз за месяц, – и он что-то крикнул в кузов по калмыцки.
Из кузова неуклюже спустились три молодые калмычки и, застеснявшись, отошли кучей сторону.
– Где твои красавицы работают? – осведомился завгар.
– В Моховом чурочку для тракторов пилят.
Услышав мычание коровы, калмычки несмело стали подходить к яме.
– Ях, ях! – зажалковали они, увидев бедную корову, и стали что-то бурно обсуждать между собой шепотом.
Одетые в фуфайки и ватные брюки, и большие валенки, в обыкновенных солдатских шапках, они походили на мальчишек-подростков. В другой одежде в жесточайшие сибирские морозы работать в тайге было просто нельзя. Многие были одеты хуже.
Силантьич ткнул рукой на яму и спросил Максима:
– Как ты думаешь, вытащить ее оттуда можно?
– Конечно можно. А куда вы ее хотите деть?
– Да вот, по акту она падежная, тут в яме и кислота и мазут, в общем, она все равно не жилец. Вытащить отсюда, вон, завгар настаивает. Ну, отвезу ее в овраг да и сожгу.
– Стоп, стоп! – начал что-то соображать Максим и, нагнувшись, зачерпнул в ладонь бурую жидкость и понюхал ее. Потом вылил ее, но так и остался с грязной рукой на отлете.
– Вытри руки-то, – забеспокоился завгар, – сожгешь.
Максим только тер руку снегом, что-то обдумывая.
– Значит, по акту этой коровы уже нет?
– Точно, сам подписывал, – пожал плечами завхоз, – Ну час, полчаса протянет и сдохнет.
– Так, что она никому не нужна? – продолжал допытываться калмык.
– Смешной ты, ей-богу! – закипятился завхоз, – Она не жилец. Мясо отравленное кислота и всякая срань тут. Самому сдохнуть можно. Ее бы тут оставить и не возиться, да предписание яму откачать спущено.
– А если я ее возьму себе? – несмело глянул на завгара Максим.
– Зачем она тебе? На махан не годится – отравленная, нажретесь сами посдыхаете, меня таскать будут.
– Нет, есть не будем, расписку дам о том, что ты предупредил меня.
– Давай, давай, только уж тогда сам потрудись вытащить ее и обязуйся сжечь ее или закопать.
– Значит, если я возьму ее, я не украл ее? – гнул свое Максим.
– Чего воровать? Нету ее! Давай, действуй! – и завхоз засобирался уходить.
– Погоди, Силантьич! Ты же знаешь, на каком я положении. Пиши бумагу, что доверяешь мне достать из ямы и распорядиться с нею по своему усмотрению с соблюдением санитарных норм.
– Как это? – опешил завхоз, – Откуда такое знаешь?
– Зоотехником я работал в родной Калмыкии.
– А-а-а, – протянул, глядя на него, завхоз, – Ну, тем более, знаешь, что с такой животиной делать. Может, мыло надумал из нее сделать? Ну, дело твое. Значит надо тебе – бери так.
– Нет, Силантьич! Без бумаги не возьму.
– Тьфу ты! То возьму, то не возьму! – вконец рассердился завхоз.
– Да дай ты ему бумагу, корова вот-вот сдохнет, – заходился в смехе Васильич.
Завхоз уселся на бревно поодаль и стал рыться в планшетке, выискивая нужную бумагу. Максим подошел сбоку и показал на бланк со штампом.
– На, с водительского удостоверения спиши мои данные.
Мусоля карандаш в губах, он натужно писал, вконец зафиолетив губы и щеки. Максим диктовал.
– Распишись пожалуйста, и полную фамилию.
Силантьич аж вспотел, пока писал.
– Ты бы милый пришел на днях в подсобное хозяйство ко мне, поглядел бы, как там и что со скотиной. Я ж не животновод – пришел с войны, партия поставила, бабу свою зоотехником сам поставил. А из нее какой зоотехник? Телку от быка еще может отличить и все.
– Ладно, зайду, если Васильич отпустит, – пряча бумагу в нагрудный карман, ответил Максим, – Ну и конечно, если доверяешь. Да, Силантьич! А корова-то стельная, телочку могла бы принести.
– Да ты что? Откуда знаешь?
– Да по рогам и морде видно.
– Ишь ты! – опять удивился завхоз, – Не судьба, значит! Вот видишь? Ты даже это понимаешь, зайди, а, ко мне!
– Ладно, зайду обязательно. Да, Силантьич, какого цвета корова?
– Да не один ли тебе хрен? Цвет, возраст.
– Вот, вот, – вновь достал бумагу из кармана Максим, – Вот тут допиши. Корова стельная, четырех лет, красного цвета.
– Ты, что-то Максим, не в ту сторону гнешь. На кой тебе все это? Не все ли равно какого цвета дохлятина и сколько ей лет?
– Не все равно, Силантьич, спасибо. Остальное я все сделаю сам. Васильич! Ты главный свидетель, на твоей территории случилось это. Твоя подпись была бы не лишняя.
– А хоть сто раз расписаться, – и завгар расписался.
– А мы чо, лыком шиты? – подковылял Венька в обнимку с Кузьмичем, – Все пишите? И нам хоть сто раз расписаться, как плюнуть. Вот Силантьич – человек, нам услужил и мы тоже, – и Венька отхлебнул из бутылки, – Будешь? – протянул он Максиму.
– Нет, спасибо, не пью.
– Как это? – не понял Венька.
– Просто. Ты знаешь про эту историю? – кивнул Максим на яму.
– Дык, мы с Кузьмичем и увидели. Если бы не мы…
– И акту подписывали, – подсказал Кузьмич.
– Ну, тогда, и на этом акте распишитесь, а то мне эту корову доставать поручили.
– Завсегда рады, хоть ты и калмык.
– Калмык, калмык я! – засмеялся Максим и Венька, нахмурившись серьезно, писал свою фамилию.
Кузьмич тоже, было кинулся поставить свой крестик, но Венька отстранил его рукой:
– Вишь печать на акте? Дело сурьезное, тут брат, грамотно писать надо.
– Эх, растудыть твою! – вздыхал Кузьмич, – Без грамотности вроде как и не человек!
– На, глотни, подумаешь крестик!
Завгар с завхозом, постояв поодаль, пошли к конторе.
– Слышь, Высильич! У этого калмыка с мозгами все в порядке?
– Да ты сам все видел, – уклончиво ответил завгар.
А Максим отцепил лесовозный прицеп, открыл задний борт и ближе подогнал машину к яме. Он залез в кузов и спустил оттуда длинный и широкий настил. Выкинул моток толстой веревки. Пока женщины разматывали веревку, Максим перевернул настил, загнул хорошо все торчащие гвозди, прибил к нему еще несколько поперечин. Получился трап, по которому можно было подниматься и спускаться не соскальзывая. По косой части настила затаскивали лебедки в кузов машины и по нему также должны были спустить их для ремонта. Взяв веревку и сделав петлю на одном ее конце, Максим легонько кинул ее на рога коровы на манер лассо. Потянув ее, он затянул петлю и потащил на себя. Корова это почувствовала, напряглась и, подняв голову, сделала движение вперед. Это ей плохо удалось. Очевидно от долгого стояния на месте ее ноги засосало в ил. Максим передал веревку одной женщине, а сам двумя остальными стал спускать трап под морду коровы, с целью достичь нижним его концом ног ее. Установив трап, он попрыгал на нем в верхней его части и приказал женщинам тянуть веревку. Те, по команде Максима, потянули веревку, Максим в это время все направлял трап, давя его вниз. Корова дергалась из стороны в сторону, месила ногами где-то внизу, но на трап никак не попадала. Потом, обессилев, зарылась мордой в жижу, хватанула ее ноздрями и фыркнула грязью в сторону женщин. Те засмеялись и отскочили дальше. Потянули веревку опять, Максим опять продолжал елозить трапом, подталкивая его под ноги коровы. Наконец трап задергался от глухих ударов и Максим почувствовал, что корова наступила на трап и удерживается копытами о перекладину. Голова стала выше и показалась часть ее хребта.
– Тяните! – кричал Максим, но у женщин не хватало сил.
Тогда он кинулся помогать им. Корова поднялась еще на несколько перекладин, показались ее грудь и передние копыта. Но она никак не могла наступить на трап задними копытами. Она обессилено покачивалась по сторонам, высунув язык и закрыв глаза. Грязные тягучие потоки жижи стекали с ее груди и холки. «Если она сейчас упадет с трапа на бок, она не поднимется и захлебнется» – мелькнуло в голове Максима. Приказав женщинам держать веревку натянутой, Максим быстро побежал к машине, развернул ее передом и стал подъезжать к яме. Остановившись, он выскочил и быстро набросил веревку на крюки бампера, объяснил женщинам, что пока не натянет машиной веревку, ее не отпускать. И вот совместными усилиями женщин и машины, корова, лихорадочно скребя копытами по трапу, пошла вверх. Мощные потоки мазутной жижи стекали с ее тощих боков. Очевидно добрая половина ее веса сейчас составляла эта грязь. Натужно хрипя и мыча с высунутым языком, корова наконец перешагнула передними ногами через верхний конец трапа и ступила на край ямы. Снег враз почернел от стекающей с нее грязи. Скребя задними ногами по трапу, она медленно поднималась вверх. Задняя скорость у машины постоянно выбивалась и, невероятными усилиями и мастерством он сумел все-таки плавно и тихо отъезжать назад, таща за собой животное. Наконец и задние подогнутые дрожащие ее ноги коснулись верха трапа и соскользнули на край ямы. Натянутая как струна веревка вдруг лопнула именно в этот момент, как раз на середине между ее рогами и первой к ней калмычкой. Все три женщины разом опрокинулись назад, на спины и покатились к передним колесам машины. Растеряйся Максим – не миновать беды. Или попадали бы калмычки под колеса машины, или затылками испробовали бы прочность искореженного бампера лесовозного ЗИСа. Но Максим сумел дать больше газа и машина убежала от них, немного протащив их за собой. Так как они добросовестно крепко держались за веревку. Когда опасность миновала, Максим выскочил из кабины и кинулся к корове и ухватился за обрывок веревки на ее рогах и стал тянуть подальше от ямы. Но обессиленное животное не могло сделать и шага, готовое рухнуть назад на дрожащих ногах.
– Скорей ко мне! Она упадет назад в яму! – орал Максим.
Но его сородичи не понимали русского языка, на котором он кричал. Пока не сообразил и не позвал их по калмыцки.
Наконец общими усилиями они оттянули корову метра на два от края ямы и корова, не выдержав всех мытарств, тяжело вздохнув, легла на снег. Максим побежал к машине, отвязал от нее веревку и привязал ее к обрывку на рогах. Приказал калмычкам держать веревку и не спускать с коровы глаз, а сам побежал в котельную, которая находилась отсюда буквально в десяти метрах. И скоро из разбитого окошка змеей полез шланг, из которого лилась вода. Максим дотянул шланг до лежащей коровы и крикнул в окно:
– Дай горячей!
Упруго задвигался шланг, получив добавочную струю воды. Максим пробовал рукой воду и крикнул:
– Так оставь!
И направив струю на корову, начал ее обмывать. Калмычки тряпками и пучками сорванного бурьяна стали елозить по хребту и ребристым бокам. Корова блаженно закатила глаза от теплых струй воды после холодного и неприятного купания. Лужи грязной воды стекали в яму и, казалось, грязи не будет конца. Надо было вымыть брюхо коровы, но она не хотела и не могла встать. Тянули ее за веревку, подстегивали прутьями, кричали, но корова лежала. С большим трудом, наконец, удалось поднять ее на ноги. Корова стояла сгорбатившись, шатаясь на ногах, дрожала.
Уже вечерело и холодало. На ночь обязательно должен быть мороз. Таковы уж правила начинающейся весны. Надо было спешить. Вымыв брюхо и вымя от грязи, стали вытирать ее насухо отжатыми тряпками и мешковиной.
– Надо вести ее скорее в котельную, а то замерзнет, простудится!
Потянули ее за веревку, корова ни с места. Не ходила корова на веревке!
– Несите сюда мешок с сеном!
Откуда? Где его взять?
– Да вы же ехали на мешках с сеном, вместо скамеек.
– А-а-а, – заулыбались калмычки и одна из них, более шустрая, забралась в кузов и сбросила вниз несколько мешков-скамеек.
Сено в мешках было уже почти трухой, но как только развязали мешок и поднесли горсть этого корма корове, она жадно слизнула его с ладони. Так, протягивая ей горсть за горстью этого сена-трухи, заманили в грохочущую от дизеля котельную, точнее в прируб, где хранился разный инструмент. Здесь было тепло. Вытряхнув в угол три мешка трухи-сена, Максим привязал ее, и уехал разгружать лебедки. Когда он вернулся назад, корова подбирала из угла последние веточки-стебельки корма.
– Бедная ты моя! – обнял ее за шею Максим. Он принес ведро теплой воды, которую корова с жадностью выпила.
– Ну, жить будешь! – похлопал он ее по холке.
Корова в тепле быстро высохла, и цвет ее действительно был темно-красный. Максим взял щипцы и осторожно вынул заклепку из уха коровы и, подумав, достал из кармана красный шнурок и продел его в дырочку вместо заклепки и завязал на бантик.
– Красулей будешь! – засмеялся Максим.
Подошел машинист котельной и, посмотрев на хлопоты Максима, сказал:
– До утра можно тут побыть, а утром какого начальства тут не бывает, сам знаешь.
– А мы, люди благодарные и за это. Отчалим. Главное было горячей водички на мытье, да и обсохнуть в тепле. Так что я у тебя в долгу.
– Да брось ты! Думаешь, выживет?
– Попытаемся помочь. И как только отелится, и молоко будет годное для питья, первая бутылка молока – тебе. А пока – такая вот! – и Максим достал из-за пазухи фуфайки бутылку водки.
– Да ты что? Разве ты бы не помог? – отмахивался машинист.
– Да, я бы помог, слов нет. Но важнее другое – ты помог. Спасибо.
– Ну, и тебе спасибо, – взял машинист бутылку.
– Я тут на полчасика отойду, схожу домой за пацанами.
Максим ушел и когда дома объявил, что у них, возможно, будет своя корова, восторга не было конца, особенно ребятишек.
– Ну, а сейчас Мутул, как старший из вас и вот ты, Басанг, пойдемте со мной, поможете пригнать корову.
– А мы, а мы? Мы тоже хотим!
– Ребята, Мутул старший, от него помощи больше будет, а у Басанга валенки на ногах, хоть и старенькие, фуфайки, шапки оденут и готовы. А у вас с одеждой слабовато. Зато вы каждый день будете помогать бабушкам ухаживать за коровой. Идет?
Ребятня нехотя согласилась. С большим трудом удалось перегнать Красулю из гаража на калмыцкое подворье. Сараюшка, кособоко стоявшая недалеко от избы, была ветхая и дырявая. Полночи Максим потратил, пока заколотил все дыры и убрал из нее снег. Хорошо, что еще осенью он привез добрую охапку сена, которую раскидал для просушки. Время от времени он брал охапки сена и добавлял на нары, где спали ребятишки. О простынях речи не было, сено прикрывали любыми тряпками и мешками, закрывались тогда чем придется. Куча сена в углу, произвольно стала кормушкой коровы, объедки пошли на подстилку и через час-другой, насытившись, корова по-хозяйски уже лежала на подстилке, закуржавев на морозе, мирно пережевывая жвачку. Заперев сарай-стайку на подпорку, Максим забылся коротким сном до утреннего гудка и первым делом, когда проснулся, понес ведро теплой воды корове. Она была уже на ногах и деловито хрумкала сеном. Напоив ее, он объяснил старухам, что это теперь их корова и дня два-три ее надо усиленно покормить. Негодные капустные листья и разные очистки от картошки могут быть неплохим кормом для животного. Старухи успокоили его, что на своем веку они ухаживали за многими коровами и даст бог выходят и эту.
– Вези какого-нибудь сена, даже плохого, мы отпарим его – корм будет! – заверили они его.
Утром, раньше обычного, проснулись ребятишки и первым делом бегали по очереди смотреть на корову.
Через день два о том, что у калмыков появилась корова, узнали и соседи. Любопытные бабы смотрели на костлявую животину, и первым вопросом был:
– А где вы взяли ее? Не украли?
И к своему недовольству получив ответ, что корова их на законном основании небрежно давали советы:
– Да прирежьте вы ее, сдохнет ведь, кожа да кости.
Старухи, растопырив руки, возражали:
– Болшго! Сен, Красулька! (Нельзя! Хорошо, Красулька!)
Наперекор всем прогнозам злоязычников корова с каждым днем становилась все бодрее и полнее. Злые языки донесли участковому, что у калмыков невесть откуда появилась корова, и кормят они ее ворованными капустными листьями и картошкой с подсобного хозяйства. Донеслись слухи и до завхоза, что мертвая корова из ямы гаража выздоровела, раздобрела у калмыков на харчах. А харчи-то подсобные! Заволновался-задумался Силантьич, что дал промашку и при первой де встрече с участковым городил-мямлил об этом что-то непонятное.
– Так что, украли у тебя корову? – уже в который раз спрашивал он Силантьича.
– Да, нет!
– Так да или нет?
– Нет, – пожимал плечами завхоз, – Живые по счету в наличности. Падежные по акту оприходованы.
– А у калмыков чья, твоя?
– Моя, – констатировал Силантьич.
– Так выходит украли?
– Нет, по акту оприходовали, падежная.
– Мертвая?
– Выходит так.
– А у них-то живая?
– Живая.
– Твоя?
– Моя.
– Ничего не понимаю, – хлопал по ляжкам себя участковый.
– Пил с утра?
– Нет еще. Пойдем, возьмем для разъяснения, – приглашал завхоз.
– Ты мне это брось! – ярился участковый, – Я при исполнении, стало быть это будет взяткой.
– За что?
– За утерянную корову.
– Все у меня в наличности, согласно документов, – похлопал по планшетке Силантьич.
– А тогда, какого хера, ты тут время у меня отнимаешь?
– Для информации.
– Да пошел ты! – вконец озлился Чиков и зашагал к леспромхозовской конторе.
Разговор с завхозом не шел у него из головы. На другой день, чуть свет, он подходил к калмыцкой избе. Морозный воздух ранней весны был чист и приятен. Предстоял ясный, солнечный день. Еще не доходя до избы он почувствовал неприятный запах гниловатой капусты. Дым из калмыцкой избы весело тянулся вверх, подтверждая о предстоящем солнечном дне. У распахнутых дверей сенцев монументально восседали обе старухи на чурбачках, с трубками во рту. Одетые в какие-то лохмотья, с одинаковыми меховыми шапочками на головах, они попыхивали трубками, созерцая мир нового утреннего дня. Из раскрытой двери избы тянуло каким-то варевом, булькающем в котле. Вот этот-то кислый дух и учуял участковый при подходе к избе.
– Здорово живете! – бодро поздоровался он со старухами.
Старухи согласно кивнули головами.
– Мужики-то дома?
Старухи опять кивнули, посапывая своими трубками, выпуская кольца дыма.
– На работе или дома? – опять он задал вопрос.
Старухи молчали.
– Скоро пойду на работу, я сегодня на ремонте, – вышел из сарая Максим и широко заулыбался.
– А-а, здрастье! – участковый кивнул и с ходу спросил, – Где корова?
– Здесь, здесь, Красуля! – жестом показал Максим на сарай, – Жует все, что ни положим, – и он, зайдя вовнутрь, стал гладить по шее животину, хрумкающую бурьян, пересыпанный прелыми капустными листьями и картофельными очистками.
За несколько дней пребывания здесь корова заметно поправилась и вид у нее был веселый. Зашедший участковый мельком глянул на нее и спросил:
– А где та?
– Какая? – не понял Максим.
– Ну, та дохлятина, что из ямы вытащил?
– Вот она, – заулыбался Максим и, поняв, что к чему, полез в карман гимнастерки, вытащил оттуда вчетверо сложенный листок и протянул участковому.
– Что это?
– А дохлятина, и паспорт ее, и заодно, что я хозяин ее.
Багровея лицом участковый медленно вчитывался в бумагу, оглядел ее с другой стороны и вернул Максиму.
– Н-да, как-то непонятно. Умирала скотина с голоду, а тут стоит гладкая корова. Что-то тут не то. Сознайся, намутили вы тут с завхозом для обоюдной выгоды? Или эта корова не та?
– Почему? Та, из ямы, падежная.
– Да у меня что, глаз нет, какая же это падежная? – заорал он.
– Послушайте, уважаемый, какой упитанности она была десяток дней назад можно судить по тем коровам, которые шляются по дорогам в поисках пищи. Но эта была еще хуже, да к тому же попала в яму с кислотой и мазутом. Она умирала, ее бросили, я достал, выходил. Вот и весь секрет. Ребятишки ходят, где какой бурьян несут, где мерзлые листья, картошку – все ест. Старухи перебирают, что себе варят, отходы – корове.
– Ладно. Больше никто тут не умирал?
– Пока бог миловал.
– Фамилию той женщины и пацана узнали?
– Нет, – потускнел лицом Максим, – Спрашивал всех своих, никто не знает. Наверное из другой деревни.
– М-да! И у меня они висят безымянные. Похоронил-то где?
– Ну, там же, на десятом.
– А дома-то что?
– А зайдем, посмотрим.
– Давай зайдем, раз уж пришел.
– Пожалуйста! – и Максим шире открыл двери избы.
Участковый, пригнувшись, шагнул за порог и остановился, привыкая к полумраку. Электрического света не было. Тусклый свет пробивался из двух маленьких окошек, наполовину забитых фанерой и тряпками, позволяя видеть в избе только очертания ее внутренней утвари. Ребятишки спали, съежившись на нарах под каким-то тряпьем. Топилась печка, и через дырки в стене играли блики огня. Бурливший котел источал неприятные запахи. Участковый оглядывал нары и покачивал головой. Он чуть не оступился в щель на полу, плохо прикрытую доской.
– Подпол есть?
– Есть, – кивнул Максим и отодвинул доску.
Участковый, чиркая спичками и нагнувшись, заглядывал туда, морщил нос.
– Что там? – глянул он на Максима.
– Уборная. У детей нет одежды и обуви бегать по нужде на улицу.
Страж порядка понял откуда идет основное зловоние. Они вышли на улицу.
– Правда, что ты зоотехник? – пытливо глядел он на Максима.
– Правда. До войны закончил ветеринарный факультет, давал стране мясо, кожу и шерсть, – глядя куда-то на вершины гор ответил Максим.
– Ладно, живи как-то! – и хлопнув его по плечу пошагал к баракам, – Пацанов береги! – крикнул он на ходу.