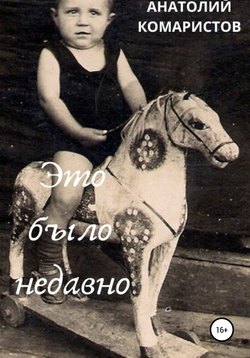Читать книгу Это было недавно - Анатолий Комаристов - Страница 3
Воспоминания о войне
ОглавлениеВсё, что изложено ниже я видел своими глазами, слышал сам лично или получил достоверную информацию от близких и родных мне людей, которым я не могу не доверять. Я ничего не сочинял, не придумывал эти события, факты, а просто рассказал о том, что помнил о войне. Здесь нет ни одного вымышленного персонажа, эпизода. Только, правда… Писатель Валентин Распутин писал: «Правда в памяти. У кого нет памяти, у того нет жизни».
…Я родился в 1930 году в небольшом городе Короча Курской области, расположенном недалеко от Белгорода. Родителей своих практически не помню. Отца в 1937 году осудили на четыре года, как «вредителя», а мать бросила нас – старшего брата Васю, меня и младшую сестру Валю – ещё до войны и исчезла в неизвестном направлении.
Тёти и бабушка отдавать нас, как сирот, в детский дом не стали. Решили, что будут воспитывать сами. Тем более что по неизвестным мне причинам, мы жили не с родителями, а с ними. Нас с сестрой воспитывали тётя Беликова Екатерина Николаевна и бабушка Косилова Ирина Антоновна. Никто из нас не смог бы раньше и тем более теперь, когда прошло столько лет, объяснить самим себе и другим, почему именно так сложилась жизнь нашей семьи. Видно, так было угодно Богу…Правильно писал Лев Толстой: «Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему». Небольшое отступление по этому поводу. На улице Интернациональной, выше больницы, жил Феофилакт Дмитриевич Сафонов. Народ звал его «Филя—Гадальщик». Я видел его несколько раз. Было в нем что-то цыганское —густые черные волосы, такая же борода, яркая рубашка и черная шляпа с большими полями. Народ ходил к нему гадать. Говорили, что он абсолютно точно предсказывает судьбу человека. Как рассказывала бабушка Ирина, якобы, перед войной наша мать ходила к нему гадать и что он предсказал что будет с нашей семьей в будущем.
Старшего брата Васю в 1937 году забрала к себе тётя Косилова Александра Андреевна. В город Малоархангельск Орловской области Васю отвезла её сводная сестра тётя Пуголовкина Мария Николаевна. После окончания в 1935 году Тамбовского педагогического института тётя Шура работала преподавателем физики и математики в педучилище города Малоархангельск. Васю она любила, как родного сына.
В 1941 году я окончил четыре класса. Наступили летние каникулы. Мы вдоволь играли в разные игры: футбол, «пристенок», «буц», «клёп», городки. Ходили на речку, в лес, а иногда и на пруды за селом Погореловка.
Многие события детских лет забыты, но я, почему-то, очень хорошо помню теплое, тихое солнечное утро 22 июня 1941 года. Я сидел на крыльце в тени листьев дикого винограда, который полностью закрывал веранду. Бабушка что-то делала во дворе. Тётя Катя рано утром ушла на базар. Пришел мой друг Гай Вольдейт. Он жил на нашей улице. Его мать работала врачом в районной больнице. Говорили, что они чистокровные немцы. Как они попали в наш город, сказать не могу. С Гаем мы дружили, он хорошо играл в шахматы. Несмотря на проживание в России, учёбе в советской школе, Гай говорил с акцентом. Например, не «тётка», а «тётька». Хорошо помню, что, когда мы учились уже в старших классах, немецкий язык он знал, примерно так же, как и все мы, то есть никак. Отца его я никогда не видел.
…Небольшое отступление. Когда через много лет я приехал в отпуск с Дальнего Востока, тётя рассказала мне, что Гай недавно приезжал в Корочу, что работает он главным инженером строительного управления на Братской ГЭС. Расспрашивал обо всех нас, мечтал о встрече… После долгих поисков в интернете я нашел информацию о том, что Указом Президиума ВС СССР от 23 февраля 1966 года Гай Вольдейт был награжден орденом Трудового Красного Знамени…
…Открывается калитка во двор, входит тётя Катя. Глаза заплаканные. На руке сумка из камыша. С ними раньше ходили по воскресеньям на базар. Тихим срывающимся голосом тётя сказала бабушке:
– Мама! Сейчас на базаре по радио передали, что сегодня Германия напала на нас. Немцы утром бомбили Севастополь, Минск, Киев и ещё какие-то города. На границе идут бои…
Мы с Гаем притихли, слушая, что говорит тётя. Многое мы не очень хорошо понимали и не задумывались над тем, что произошло. Но заплаканное лицо тёти говорило о том, что эта новость её очень расстроила. Возможно, она думала, что теперь делать со мной, сестрой, старенькой мамой. Сестре исполнилось всего шесть лет. Возраст бабушки я не знал.
Тётя сказала, что народ на базаре ждал выступление по радио Сталина, но он не выступил. И только днем (это потом рассказала соседка), с речью выступил Молотов. Началась Великая Отечественная война.
Вот так и окончилось наше детство. Радио, электричества на нашей улице тогда не было. Новости мы узнавали на базаре, где на столбе висел хрипящий большой репродуктор, из районной газеты «Колхозная жизнь» и от соседей. О тревожном сообщении радио на базаре тётя рассказала соседке, и вскоре на лавочке у нашего дома собрались жители соседних домов, старики, старушки и тётя Катя снова и снова рассказывала о том, что передали по радио.
Она обладала хорошим даром информатора. Кстати, в своих записках, которые тётя Шура написала незадолго до своей смерти, она пишет, что в молодости тётя Катя была революционно настроена, руководила кружком, за что преследовалась полицией. Такая же прогрессивная молодежь, как тётя, якобы, тогда собиралась именно в нашем доме.
Расстроенные и плачущие женщины спрашивали тётю, дойдут ли немцы до нашего городка (откуда ей было это знать!). Спрашивали:
– Катя! Что же мы будем делать? Господи! Горе-то, какое…
Как-будто моя тётя имел чёткий план действий!
Старики успокаивали бабушек. Утверждали, что Красная Армия разгромит немецкие войска ещё на границе. Вспоминали бои на озере Хасан, реке Халхин-Гол в 1939 году и войну с Финляндией. Говорили о какой-то «линии Маннергейма». О ней я услышал впервые. Успокаивали друг друга, как могли, и, обменявшись мнениями, потихоньку, молча, расходились по домам.
Как только тётя Катя сказала, что началась война, Гай побежал домой сообщить эту ужасную новость своим родным.
Всё лето 1941 года жители Корочи жили в тревожном ожидании. Сведения о ходе боёв, продвижении немецких войск вглубь страны, были противоречивыми. Ходить каждый день на базар, чтобы послушать по радио очередную сводку Совинформбюро, тётя не могла. Она работала в пошивочном ателье, как говорили раньше, «модисткой». А для нас мальчишек это слово было новое, сложное и не очень понятное. Иногда мы с ребятами бегали на базар, и, возвращаясь, домой, пытались своими словами передать, что сообщило «бюро» по радио. Нам трудно было запомнить название фронтов, городов и населенных пунктов, которые каждый день оставляли наши войска.
Лето прошло совсем иначе, чем раньше. Мы меньше болтались по городу, не бегали на речку, реже играли на улицах. Все повзрослели, помогали матерям, бабушкам. Практически всех мужчин призвали в армию. Улицы опустели, появлялись только женщины и дети. Мужчин мы видели редко. В городе остались лица, признанные не годными к военной службе и имевшие, так называемую «бронь».
Наш город стал прифронтовым в октябре 1941 года, когда немцы заняли Белгород. Линия фронта проходила по селам: Мелихово, Шеино, Шляхово, Сажное, Признанное. Задолго до этого население города стали готовить к возможным боевым действиям на его территории. Возвращаясь с работы, тётя рассказывала, что в городе формируются отряды самообороны (что это такое я не совсем понимал), что военкомат продолжает призывать мужчин на фронт. Во всех учреждениях и жилых домах стекла на окнах приказали заклеить крест-накрест полосками газет или бумаги. Делалось это для того, чтобы от взрывной волны во время бомбёжки, они не вылетели. У нас в большой комнате было пять окон. Два выходили во двор, а три – на улицу. Я помогал тёте Кате резать газету полосками, мазать их клейстером и клеить на стекла.
Многие жители нашей улицы во дворах и на огородах рыли щели, где планировали прятаться во время возможных бомбёжек города немцами. Мы решили, что копать щель не будем, а в случае необходимости спрячемся в большой, накрытой толстыми бревнами яме, куда закапывали картофель на зиму.
Было как-то тревожно, мы перестали играть с ребятами в веселые игры и смеяться. Тётя говорила бабушке, что многие районные учреждения и некоторые жители города стали собираться в эвакуацию. Поскольку тётя Катя работала мастером в пошивочном ателье, расположенном в центре города рядом с райисполкомом, она, возвращаясь, домой с работы, рассказывала бабушке, что творится в городе. Начались перебои с продовольствием. На рынке поднялись цены. Полки в магазинах опустели. Народ скупал сахар, соль, крупы, спички. Запасались керосином.
Кроме работы в ателье, тётя подрабатывала в соседнем детском доме. Учила девочек-воспитанниц детдома шить. Детей из детского дома стали готовить к эвакуации. Тёте Кате, как сотруднице, предоставили место на повозке для отъезда в эвакуацию. Она собрала два небольших узла каких-то вещей, посадила меня на повозку и летом 1942 года мы поехали с ней и детдомовцами на Восток.
Мы не могли взять с собой бабушку и сестру. Бабушка была уже старая, и ехать никуда не хотела, а сестре было семь лет и для неё почему-то места на повозке не нашлось.
Тётя Катя могла бы оставить меня с бабушкой и взять с собой мою сестру, но она, взяла именно меня.
Ехали мы сутки или двое, ночевали в селах, в каких-то сараях, и тётя, наверное, взвесив всё за и против, решила, что поступили мы по отношению к бабушке и моей сестре неправильно. В городе осталась старушка и маленькая девочка. Что они будут делать? Как жить? И мы повернули обратно – погибать так всем вместе.
Домой мы добирались пешком. На Запад никто не ехал. Навстречу нам шли беженцы, войска, ехали машины, иногда танки. Лошади тащили орудия. Как ни странно, но немецкие самолеты не атаковали эти колонны.
Через один или два дня мы добрались домой. Бабушка и сестрёнка были рады нашему возвращению. На этом наша эвакуация закончилась.
В июне 1942 года через наш город на Восток шли беженцы с Украины, из западных районов страны. Личных машин тогда никто не имел. Кто-то ехал на телеге, кто-то катил тачку или тележку, а кто и просто шел с мешком на плече.
Детей тащили за руки, кого-то несли на руках. Стариков и больных везли на тачках. Картина была страшная. Жара стояла ужасная. Воды и еды беженцы не имели. Жители Корочи делились с ними последним, не зная, что будет с ними.
Беженцы шли со стороны Белгорода, в основном, по улице Дорошенко и днем и ночью, когда спадала жара, по направлению на Восток. Переходили мост у речки Короча. В селе за речкой, оно называлось Бехтеевка, некоторые поворачивали налево, в сторону Старого Оскола, Воронежа, а другие шли направо – в сторону Нового Оскола. Периодически через Корочу на Восток гнали большие стада рогатого скота, свиней, овец.
Во время редких налетов на город немцы бросали бомбы наугад. Недалеко от нашего дома, на краю выгона, рядом с дорогой упала большая бомба. Судя по диаметру дыры, примерно сантиметров 40-50, а может быть и больше. Бомба ушла глубоко в землю, но не взорвалась. Мы с ребятами бегали смотреть «в дыру». К месту падения бомбы никто из военных не пришел, и мы быстро ушли по домам.
Иногда, еще до вступления в город, немцы бомбили город ночью, хотя никаких войск в самом городе и ближайшей округе мы не видели. Может быть, войска хорошо маскировались в наших небольших лесах, но мы туда не добирались.
Самолеты кружили над городом и сбрасывали осветительные ракеты на парашютах. Становилось видно, как днем. Горели эти ракеты достаточно долго.
Летом 1942 года мы с ребятами наблюдали воздушный бой над Корочей. Наши тупоносые истребители (потом я узнал, что именовались они «И-16») отчаянно сражались с немецкими «Мессершмиттами», но силы были явно неравны. Немцы сбили два наших самолета. Они упали в поле за селом Бехтеевка. Через два дня мы с ребятами добрались до места падения наших самолетов. Они оба сгорели, но хвост одного лежал в отдалении и кто-то, решив проверить на прочность конструкцию, резко ударил носком старого ботинка по обшивке. Ботинок оказался внутри обломков. Вместо металла обшивка была из тонкой фанеры. Трупов летчиков и парашютов мы не нашли. Возможно, летчикам удалось спастись.
Обстановка на фронте, со слов взрослых, становилась всё сложнее. Наши войска постепенно сдавали один город за другим. Летом 1942 года немцы снова оказались в районе Харькова и Белгорода. Сводки информбюро народу оптимизма не внушали.
В центре нашего маленького базара до войны был небольшой универмаг. Одна бомба попала в него, когда там толкался народ. Мы с ребятами находились в это время на базаре и с ужасом смотрели, как из развалин горящего универмага выносят трупы людей.
Часто над городом и прилегающими сёлами кружил немецкий двух фюзеляжный самолет разведчик. Народ называл его «рама». Война началась 22 июня 1941 года, а уже 1 июля 1942 года в наш город пришли немцы.
Темп продвижения их вглубь нашей страны был очень высокий. Вспомнил, что перед войной, в 1939 или 1940 году, мы смотрели фильм «Если завтра война». Красную Армию в фильме показывали сильной и непобедимой. Особенно впечатляли наши лёгкие танки, которые играючи преодолевали неглубокие рвы.
Помню куплет из песни, которую мы тогда распевали:
В целом мире нигде нету силы такой,
Чтобы нашу страну сокрушила, -
С нами Сталин родной, и железной рукой
Нас к победе ведет Ворошилов!
…Бои на Белгородском направлении шли непрерывно. Наши войска то шли вперед, то отступали.
В своей книге «Воспоминания и размышления» Маршал Советского Союза Г.К. Жуков несколько раз упоминает город Короча. Так, в апреле 1943 года в докладе Верховному Главнокомандующему И.В. Сталину, он сообщает, что в результате вспомогательного удара с целью разгромить и окружить пять наших армий немецкие войска могут выйти на рубеж река Короча – Короча – река Тим – Тим – Дросково. Тогда же, пишет Г.К. Жуков, решили вопрос о районах сосредоточения основных резервов Ставки. Их намечалось развернуть в районе Ливны – Старый Оскол – Короча. К началу Курской битвы резервы фронта – 35-й стрелковый корпус и 2-й гвардейский танковый корпус – были расположены в районе Корочи. 7 июля 1943 года немцы бросили более 200 танков в направлении Обоянь – Прохоровка и против 7-й гвардейской армии М.С. Шумилова – в направлении на Корочу.
Люди говорили, что примерно в это время, якобы, Жуков находился в Короче. Правда это или нет, я не знаю. В своей книге он об этом не пишет.
Есть упоминание о нашем городке и в книге Маршала Советского Союза А.М. Василевского «Дело всей жизни». В докладе И.В. Сталину 19 марта 1943 года он и Жуков писали:
«…мы организовали прочную оборону по Северскому Донцу и далее через Гостищево, Быковку, Дмитриевку, Красную Яругу и Краснополье, прикрывая преимущественно направления на Обоянь и Корочу».
Перед началом Курской битвы было создано несколько оборонительных рубежей. Василевский пишет: «Первый фронтовой рубеж пересекал Ольховатку, Фатеж, Любимовку, Марьино, Корочу, Шебекино и Купянск». «Оперативные резервы и вторые эшелоны Центрального и Воронежского фронтов находились у Курска – Обояни – Прохоровки – Скородного и Корочи».
В своей книге «Генеральный штаб в годы войны» С.М. Штеменко пишет, что во время переговоров маршала Тимошенко с Верховным Главнокомандующим Сталиным – Тимошенко попросил:
– Было бы хорошо, если бы в районе Короча можно было бы от Вас получить одну стрелковую дивизию.
Сталин ответил:
– Если бы дивизии продавались на рынке, я бы купил для Вас 5-6 дивизий, а их, к сожалению, не продают.
Никаких упорных боев за наш город я не помню. После ухода наших войск в городе появились немецкие танки. Сколько их было, я не знаю. Говорили, что шесть или восемь. На большой скорости они проехали по улицам Интернациональной и Дорошенко. Открыли огонь по домам, доехали до центра, выстрелом из танка сбили статую Ленина, стоявшую на постаменте в сквере. Статуя была бетонная, стандартная. Ленин в длинном пальто с вытянутой вперед рукой. Рука показывала на отделение милиции (народ по этому поводу осторожно шутил). Вечером танки уехали в сторону Белгорода.
Через несколько дней на постаменте в сквере кто-то поставил большой коричневый деревянный крест. Немцев мы увидели на второй или третий день после «визита» танков. Сейчас в фильмах о войне их показывают такими, какими я видел их тогда. В касках, засученные рукава, короткие сапоги. Ранец на спине. Автоматы на груди, гранаты с длинными деревянными ручками и противогаз на поясе.
Через два или три дня они из города ушли. Но появилась мотопехота на тяжелых мотоциклах с колясками. Мотоциклов, с пулеметами на коляске, мы насчитали примерно пятнадцать, а может быть и двадцать. Мотоциклисты заняли все основные улицы и центр города.
Подходить к ним мы боялись. Смотрели на них издали. Некоторые немецкие солдаты ехали на велосипедах.
Наш дом на улице Дорошенко (родители купили его, примерно, в 1936 или 1937 году) и соседний дом были насквозь пробиты танковым снарядом, но он, к счастью, не взорвался.
Поскольку наши войска ушли, а немцы еще окончательно не пришли, народ, почувствовав безвластие, начал тащить все, что попадало под руку, грабить магазины, склады. Есть ведь было нечего. Мы вместе со всеми взрослыми и с другими ребятами иногда участвовали в этих безобразиях. Народ тогда называл это «мероприятие» – «грабиловка».
На каком-то пожарище (по-моему, это догорала наша районная библиотека) я подобрал три книги: «Два капитана» В. Каверина, «Белый турман» Л. Брандта и «История Гражданской войны. 2-й том». В книге о Гражданской войне тётя увидела портреты Сталина, Фрунзе, Чапаева, Блюхера. Она сказала мне, чтобы я немедленно эти листы вырвал или закрасил портреты черными чернилами.
– Придут немцы и если увидят у нас эту книгу с портретами вождей, то нам не поздоровиться. Могут всех просто расстрелять.
Я не стал вырывать листы, но портреты, на всякий случай, закрасил. А книгу прятал под крыльцом в курятнике и иногда читал там же или рассматривал картинки.
Как меня занесло к маслозаводу, он находился довольно далеко от нашего дома, я не помню. Все склады завода были открыты. Народ тащил мешки с семечками подсолнечника и жмых («макуху»). Увидел там брошенную кем-то полуживую лошадь, она еле стояла на ногах, настолько была истощена. Попытался погрузить на неё неполный мешок с семечками. Но лошадь падала от тяжести веса мешка. Я оставил это занятие, бросил мешок и пошел по городу в поисках какой-либо еды.
В доме напротив нас снимала комнату тётя Фёдора с сыном Николаем. Он был мой ровесник. Мы звали его «Колятик». Когда я вернулся домой, он рассказал мне, что с плодоягодного завода народ тащит бочки с повидлом, вареньем, джемом, мешки с сахаром и предложил мне отправиться туда.
Пока мы добирались до завода, там появился немецкий офицер верхом на лошади. Несмотря на то, что на территории завода было много людей, увидев нас, катящих бочку к дыре в заборе, немец начал стрелять из пистолета в нашу сторону.
Бочка оказалась большая и тяжелая. Спасло нас только то, что конь пугался выстрелов и не стоял на месте. Мы залегли за бочку, потом бросили её и поползли к дыре в заборе. Что в ней было мы так и не узнали. А дома я и мой друг получили «по полной программе», так как никто не знал, где мы болтаемся в городе. Тётя, сестра, соседка и бабушка сидели несколько часов в погребе, ожидая нас. В городе постоянно стреляли, что-то взрывалось. Хотя никто не знал, кто и в кого стреляет. Сколько тогда погибло или стало инвалидами моих сверстников – не пересчитать. Как только немецкие части вступили в Корочу, назначенный комендантом города староста нашей улицы хромой Кузьма Ермоленко, расселил немецких солдат и офицеров по домам. Всех жителей выгнали в сараи, погреба, пристройки, коровники. Нам повезло. Мы остались в маленькой комнате и сарае. Хорошо, что на дворе стояло лето. Немцы жили в нашей большой комнате, выбросив оттуда абсолютно всё. На пол они постелили солому, накрыли её брезентом и спали, не раздеваясь.
Вшей, блох и клопов вначале принесли немцы, которые жили в большой комнате. Когда они ушли, там поселились венгерские солдаты. Спали все на одной соломе, а потом венгры ее поменяли.
Когда пришли наши войска большую комнату занимали красноармейцы. После ухода венгров они всю солому сожгли и постелили на пол пахучее сено. Во время войны народ мучили блохи, клопы и, особенно, вши головные и нательные.
Тётя Катя и бабушка мыли головы с какой-то травой, золой. С клопами тётя боролась народным способом. Ножки кровати опускались в консервные банки с бензином. Считалось, что клоп никогда не полезет через керосин или бензин. Но народ рассказывал, шутя или серьёзно, что клоп по стене взбирается на потолок и оттуда «пикирует» на постель. Каждую неделю мы выносили во двор две кровати и обжигали факелом из керосина или бензина. Кровати у нас были железные. Блох отгоняли полынью, которую рассыпали по всем комнатам. Сложнее была борьба со вшами. Мы каждый день снимали все свое белье и давили вшей в складках, особенно в резинках на трусах, и проглаживали раскалённым утюгом.
До прихода наших войск тётя стригла меня большими портняжными ножницами, рядами, как овцу. Забегая вперед, скажу, что когда в конце августа или начале сентября 1943 года приехал брат Вася (он с 1937 по 1943 год с двумя тётями жил в городе Малоархангельск Орловской области), и он и я стриглись в городской парикмахерской только наголо. Красная Армия освободила наш городок от немцев в начале февраля 1943 года, а в марте или апреле недалеко от базара открылась парикмахерская. Какая парикмахерская была в городке до войны я, честно говоря, на помню. Новая находилась в небольшой комнате полуразрушенного здания, рядом с общепитовской столовой. Горожане называли её «забегаловка».
Тетя выдала мне несколько монет, и я самостоятельно пошел в «настоящую» парикмахерскую.
За давностью лет я не помню сколько тогда стоила стрижка мальчика наголо. Но, забегая вперёд, скажу, что после расплаты с парикмахершей у меня даже остались две или три монеты.
Интерьер тесной парикмахерской был не просто бедным, а убогим, за исключением одного предмета. В одном углу стояла старинная деревянная вешалка для одежды, в другом – две или три табуретки для посетителей. Ближе к единственному небольшому окну постоянно горела и почему-то ужасно дымила печка-буржуйка. Парикмахерша тётя Соня сама топила её и грела на ней в чайнике воду для приготовления мыльной пены, когда надо было побрить клиента.
Что поразило меня тогда в парикмахерской? Стоящие на старинном красивом резном столике, три не очень больших зеркала, соединенные между собой металлическими петельками, под углом друг к другу. Такое зеркало я увидел впервые. Много лет спустя я узнал, что это зеркало называется трельяж. Кресла для клиентов не было – стоял обычный стул. На маленьком столике на салфетке лежали опасные бритвы, помазки, чашка с маленьким кусочком мыла, расчески, ножницы, ржавая машинка для стрижки волос и большой деревянный гребень.
Тётя Соня усадила меня на стул, накрыла белой простынёй не первой свежести. Я посмотрел в зеркало и ужаснулся… Я не один! Я вижу себя сразу в трех зеркалах – спереди в анфас, слева и справа – в профиль. Это было так необычно и интересно! Я давно не видел себя в хорошем зеркале.
Дома у нас в большой комнате на старом комоде всегда стояло небольшое старинное зеркало, с потемневшей и местами отслоившейся амальгамой. Смотреть в то зеркало было не очень приятно. Своё лицо я видел очень бледным, как в тумане, и даже слегка искаженным. Зеркало исчезло после того, как в комнате, перед отступлением из городка, спали немецкие солдаты. Зачем оно понадобилось им я не знаю…
А зеркало – трельяж, так понравилось мне, что я каждый месяц, а иногда и чаще, стал просить денег у тёти и ходить в парикмахерскую не столько с целью подстричься, а скорее просто полюбоваться на свое отражение в трех зеркалах. Уж больно интересно было видеть себя сразу с трех сторон! Перед походом в парикмахерскую мы дома мыли голову кусочком хозяйственного мыла, которое где-то доставала тётя Катя, а после стрижки нам еще раз дома мыли головы жидким зелёным мылом. Запах у этого мыла был специфический…
Баня в городе не работала. Мы все мылись в оцинкованном корыте. Бабушка стричь сестру Валю наголо не хотела. Она без конца копалась в её волосах, отлавливая паразитов.
…После того, как немецкие войска ушли на Восток, в городе разместились венгерские части. Комендантом города остался немецкий офицер. Через некоторое время заработал наш базар. Прилавки, которые были до войны, сгорели, а новые были грубо сколочены из горбыля. Навесы над прилавками были с огромными дырами, и практически не спасали людей от дождя. Появились инвалиды, играющие на деньги в «веревочку» или «цепочку» и «наперсточники». Зевак около них всегда было много. Некоторые мужики пробовали играть с ними, но, как правило, всегда проигрывали. Игроки настолько ловко и быстро укладывали цепочку или перемещали по фанере напёрстки, что уследить за ними и угадать куда поставить палец или где находится шарик, было невозможно.
На базаре продавали всякий ширпотреб. Сейчас бы сказали – «блошиный рынок». Там имелось все: иголки, нитки, самодельные мыло и спички, зажигалки, сделанные из гильз от патронов. Продавали какие-то железные запчасти, гребешки, гребенки, кресало. Ходовым товаром были «лампы», сделанные из гильз от снарядов, сахарин, тряпье. Все продавалось, все покупалось, все менялось.
С утра до вечера на базаре толкался контуженый матрос. Все звали его «полундра». Связно говорить он не мог, но мог прекрасно кричать на весь базар:
– Полундра! Вашу мать…
Ходил он в порванном бушлате, грязной бескозырке, черной от грязи тельняшке, обросший. Где он жил, были ли у него родственники, я не знаю. Но я никогда не видел его пьяным.
Если в июне 1942 года толпы беженцев шли на Восток, то через некоторое время на Запад потянулись колонны наших военнопленных красноармейцев и командиров. Конвоировали их не немцы, а наши предатели. Свирепствовали они ужасно. Были хуже немцев. В отличие от немцев одежда у них была темно-синего цвета. Разговаривали и ругались они на русском языке. Каждый из них, кроме винтовки, имел плетку из толстого черного провода. Пленных подгоняли прикладами, а за малейшее неповиновение избивали плетками до крови. Мы видели с ребятами, как больного или раненого, он не мог самостоятельно идти, расстреляли здесь же на обочине дороги, на улице Дорошенко. Я не знаю, кто и где его потом хоронил.
На выгоне (пустырь между селом Погореловка и городом) немцы устроили временный лагерь для наших военнопленных. В начале июля 1942 года сюда за колючую проволоку сгоняли захваченных в плен красноармейцев и командиров. Всего их было человек пятьсот, а может быть и больше. В тридцатиградусную жару пленным не давали ни еды, ни питья, а умерших от голода, ран, а также расстрелянных за неподчинение, складывали в повозки и, как рассказывали люди, ночами вывозили куда-то в район Белой горы. Условия в лагере были невыносимые. Военнопленные всё время находились на ногах, лежали лишь раненые, им не оказывали никакой медицинской помощи. Воду привозили в бочке на лошади. Когда приезжала бочка, а жара стояла ужасная, нельзя было без боли смотреть, как за кружку или флягу воды, люди буквально убивали друг друга. Жители города, близлежащих сел бросали через ограду военнопленным хлеб, сало, огурцы, фляжки с водой. Мы с ребятами тоже пытались через колючую проволоку передавать пленным воду в бутылках, но охранники криками, а иногда и выстрелами вверх, отгоняли нас. Люди рассказывали, что некоторые местные жительницы, с разрешения коменданта лагеря, в качестве «родственников» или под видом «невест» забирали военнопленных к себе домой.
…Недавно в интернете я прочитал, что на месте, где находился этот лагерь, 9 мая 2013 года установили мемориальный памятный камень с надписью: «На этом месте летом 1942 года располагался временный немецкий лагерь, в котором содержались пленные советские солдаты и офицеры».…
До сих пор не могу забыть, как в саду нашей соседки, старенькой учительницы Екатерины Алексеевны Черноглазовой, пленного заставили вырыть себе могилу и тут же расстреляли. Наверное, кто-то в лагере сказал, что он коммунист или политработник. Маленького роста, заросший, грязный, он плакал, становился на колени, что-то говорил о детях. В зарослях, каких кустарников мы прятались, что нас предатели не видели –, не помню.
Позже, когда в город пришли венгры, мы с ребятами из зарослей бурьяна и кустов видели, как венгерская жандармерия в саду детского дома (недалеко от нашего дома), за небольшим курганом, расстреляла цыганский табор. Расстреляли всех – мужчин, детей, женщин, стариков, якобы, за то, что цыгане увели у них несколько лошадей. Перед расстрелом жандармы заставили цыган выкопать себе могилу.
После этого я еле пришел домой. Тётя Катя рассказывала, что я два или три дня ничего не ел. Была рвота. Так тяжело повлияла на меня картина расстрела табора цыган, хотя я до того уже видел много смертей. Я и сейчас отлично помню место, где находится этот курган.
Когда я учился в восьмом классе, у меня на затылке появился клок седых волос. Пожалуй, я слишком рано стал седым, потому что видел для своего возраста, а мне было тогда 12 лет, слишком много ужасов.
В сентябре 1942 года новые городские власти (в городе был бургомистр) открыли школу в небольшом одноэтажном доме напротив входа в храм Рождества Пресвятой Богородицы. Дома решили, что лучше мне ходить в эту школу, чем бродить с ребятами по городу и базару. Сколько открыли классов – не знаю, но хорошо помню, что девочек в школе я не видел. Ввели урок «Закон божий», заставили выучить молитву «Отче наш» (я помнил её с детства, когда с сестрой ходил к бабушке – маме отца). Перед началом уроков мы всем классом читали ее и молились. Занятия по географии, истории с нами проводил батюшка. В «учебнике» географии СССР на картах отсутствовал. Когда и где были отпечатаны эти учебники мне неизвестно. Писать нас учили почему-то со знаком «ъ». Письменных принадлежностей не было. Вместо тетрадей мы писали бледными фиолетовыми чернилами на каких-то советских книгах между типографскими строчками. Какие предметы были еще, я забыл. К счастью, ходили мы в эту школу недолго.
Территория детского дома (рядом с которым мы жили) была превращена в лагерь для наших военнопленных и евреев. Евреи ремонтировали дороги. У каждого из них на одежде красовалась надпись белой краской – JUDE. Охраняли лагерь венгерские солдаты. Наш огород от двора детского дома отделяли жиденький забор из досок, колючей проволоки и густые заросли малины. Она разрослась выше человеческого роста.
Надо отдать должное венграм. Они относились к нашим пленным и населению более гуманно, чем немцы. Например, заступая на пост, часовой мог поднять колючую проволоку напротив нашей малины, и пропустить пленного к ближайшим домам, чтобы он мог попросить у жителей какую-нибудь еду или воду. Существовало только одно условие: пленный обязан вернуться до момента смены часовых и тогда он попадал в лагерь без проблем. Если кто-то не мог вернуться в условленное время, он лежал в нашей малине, ожидая «своего часового». Я слышал, как кто-то из наших пленных, лежа в малине, шепотом говорил об этом бабушке.
Когда лагерь ликвидировали, от малины практически ничего не осталось. Её всю сломали и вытоптали. О побегах из этого лагеря я ничего не слышал, хотя для этого имелись все условия.
Как ни странно, но красивое здание бывшей женской гимназии в центре города во время боев, прихода немцев и венгров осталось целым. Или его не успели, или просто не хотели разрушать.
Венгры устраивали там вечера танцев в зале с большим балконом. С этого балкона, мы с ребятами, проникнув внутрь гимназии через подвал или окна, плевали и бросали окурки на танцующих внизу венгров и наших девушек, которых приводили венгерские солдаты. Иногда нам за это хорошо влетало от охраны. Перед уходом из города немцы (а может быть и венгры) здание бывшей женской гимназии сожгли. В 1942 году я, подражая старшим ребятам, попробовал курить.
Поскольку ни папирос, ни сигарет или даже простой махорки достать мы не могли – курили «бычки». Делалось это так – на палочку крепилась обычная швейная игла. Увидел на земле окурок, накалываешь его на иглу, затем складываешь в пакетик. Вылущивали из окурка остатки табака, просушивали его, и курили. Так и собирали на папиросу или «козью ножку».
Дома запах табака от меня почувствовали сразу же. Тётя серьезно говорила со мной, но я с ребятами все равно потихоньку курил. Один раз у оврага мы увидели открытую венгерскую машину. Внутри ее лежала коробка с сигаретами. Венгров вблизи не увидели, и коробка оказалась у нас. В овраге мы ее открыли и удивились. Таких сигарет никто из нас никогда не видел. Они были в золотой обертке, в красивых пачках, ароматные. Мы спрятали коробку в какую-то яму и потом потихоньку наслаждались этими сигаретами. Если бы мы попались на воровстве, «концовочка» ждала нас веселая – могли убить на месте, или основательно избить. Я закурил в возрасте 12 лет и курил почти двадцать лет.
…Бои на Белгородском направлении шли непрерывно. То наши войска шли вперед, то вынуждены были отступать. Зимой 1943 года я попал в несколько историй, которые могли для меня окончиться трагически. В одном из разрушенных домов, недалеко от школы и городского сквера, ниже Дома культуры была типография нашей районной газеты «Колхозная жизнь». Мы с ребятами забрались внутрь здания, и нашли на полу рассыпанные литеры – шрифт. Здесь же валялась пустая металлическая коробка от пулеметных лент. Мы стали набивать ее шрифтом, толком еще не зная, зачем он нам нужен. Кто-то из ребят сказал, что будем печатать книгу.
Выходим из здания, а навстречу идет немец. Увидел у нас в руках коробку от пулеметных лент и поманил пальцем к себе. Заставил открыть коробку, а я взялся ему объяснять, что это шрифт и что мы будем печатать книгу. Он долго рассматривал литеры, пытаясь понять, что это такое. Потом до него, наверное, дошло, что это не патроны. Или немец попался тупой, или я уж очень убедительно все ему объяснил, но он бросил литеру в коробку и жестом показал нам, что мы можем идти и отпустил нас. Хотя все могло быть иначе. Нас могли обвинить в чем угодно, в том числе и печатании листовок, передаче шрифта партизанам. Но никаких листовок против немцев, за время оккупации, я в городе не видел.
До оккупации города немцы с самолета разбрасывали листовки. Я читал их. Немцы предлагали нашим солдатам сдаваться в плен. Помню, что в них было написано: «Штыки в землю! Прочти и передай товарищу!» и нарисована бегущая свастика, от которой убегают наши солдаты.
Вторая история произошла дома. У нас в большой комнате жили немцы. Немецкий офицер сидел около печки и сжигал топографические карты. Я был рядом и попытался из кипы карт вытащить одну, чтобы просто посмотреть. Раньше я их не видел. Теперь я понимаю, что на ней была нанесена оперативная обстановка. Карта была разрисована цветными карандашами. Немец посмотрел на меня со злостью, подозрительно, и я тут же получил от него по шее. Хотя никаких крамольных мыслей у меня в тот момент не было. Передать карты нашим военным или партизанам я не мог, поскольку их в нашем районе не было.
И еще одна история – это уже совсем серьезно. Когда немцы ушли у нас в большой комнате на полу ночевали венгры. Как только они тоже совсем ушли из дома, я заглянул в комнату и на подоконнике увидел, как сейчас бы сказали «растяжку». У окна висели часы ходики с гирьками и цепочкой. На краю подоконника стояла ручная венгерская граната фугасного действия. Тогда я уже разбирался в них. Темно-красного цвета, по виду похожа на современную банку с пивом, но меньше по высоте и объему. Чека из кусочка кожи или кожзаменителя, выдернута, но не до конца, а граната обмотана часовой цепочкой.
Расчет был простой, ходики потянут цепочку, та опрокинет гранату с окна на пол, и взрыв в комнате обеспечен. Стену могло и не повредить (дом кирпичный), а все окна взрывной волной могло выбить. Если бы кто-то из нас, не дай Бог, потянул цепочку, конечно бы погиб.
Я, придавив взрыватель и чеку пальцем, размотал цепочку. Вышел в огород за сарай, и чтобы никто не видел, бросил гранату подальше, насколько мог, от дома. Бросать венгерские гранаты меня научили старшие ребята, а мне тогда еще не исполнилось 13 лет! На взрыв гранаты никто не обратил внимания. Стрельба и взрывы были слышны постоянно. Дома об этом я никому не сказал.
И снова я забегаю вперед. Когда в конце августа или в первых числах сентября 1943 года брат Вася вернулся в Корочу, я сказал ему, что у меня в сарае спрятана венгерская граната (я спрятал её ещё зимой) и он может бросить её в огороде. Он согласился, и после моего инструктажа мы пошли с ним в огород, и он бросил её гораздо дальше, чем бросал я. Перед броском мы убедились, что на соседних огородах и во дворе детского дома нет людей.
…Во время оккупации меня мучили фурункулы и карбункулы шеи и спины. Тётя Катя прикладывала мне на шею ошпаренные кипятком листья подорожника для очистки ран от гноя. Мазей, лекарств и бинтов не было. Перевязывала шею какими-то тряпками.
Простуда тогда лечилась просто. Горчичники или медицинские банки отсутствовали. Разводили сухую горчицу, смазывали тряпки, прикладывали к спине и забинтовывали теплым шерстяным платком, пока я не начинал кричать от жжения и боли.
В военный госпиталь – его развернули в районной больнице – практически никто из людей не обращался. Да там и не принимали население. Все лечились народными средствами дома, кто, как умел, что знал раньше, или слышал от соседей.
В середине зимы наши войска стали оттеснять немцев за Белгород в сторону Харькова. Немцы готовились к отступлению, но сопротивлялись. На крыше детского дома (он был двухэтажный) сняли несколько листов железа и посадили там наблюдателя с биноклем, а несколько больших орудий поставили во дворе детского дома и в саду. Огонь вели в сторону села Бехтеевка за речку, где по их расчетам, наверное, должны находиться наши войска. На время стрельбы тётя прятала нас с сестрой в яму, в которой зимой хранили картошку. Она боялась, что наши наблюдатели могут засечь точку, откуда ведется стрельба из орудий, и мы можем попасть под обстрел.
На выгоне, где был лагерь для пленных, немцы установили несколько своих минометов. Потом мы узнали, что солдаты и народ звали их «Ванюша». Когда они ночью стреляли, вой стоял жуткий, как от нашей «Катюши». Здание детского дома, как это ни странно, осталось целым. Его не взорвали и не сожгли. Но целых стекол осталось мало.
После того, как немцы поняли, что наши войска окружают их, они бросили пушки в саду детского дома, извлекли из них замки, и забрали оставшиеся снаряды. Нам с ребятами было раздолье. Мы крутились около пушек, смотрели в ствол, вертели какие-то ручки, вращали стволы, пытались снять что-то с пушек.