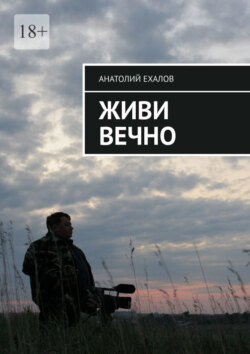Читать книгу Живи вечно - Анатолий Константинович Ехалов - Страница 3
ПОТЕРЯЕВО
ОглавлениеЯ давно городской житель, но как только оплавятся по дорогам снега, вселяется в мою душу страсть свидания:
– Домой! В деревню!
…Каких только удивительных названий нет у наших деревенек. А на Вологодчине что ни горушка, то и деревушка, что ни гора, то село. Среди привычных слуху Посадов, Погорелок, Новин встретишь вдруг необычную – Девять Изб или, например, деревню Чистая Баба. Волей – неволей гадаешь: кто, по какому случаю дал ей такое название?
Наша деревня называется тоже не совсем обычно. Потеряево.
Можно подумать, что это, Бог весть, какая глубинка за лесами да болотами. Ничуть не бывало. Издавна была наша деревня на слуху и в почете. Видимо, какой-либо рукастый и жадный до работы Потеряй основал много веков назад ее, выбрав красивое место при впадении речки Имаи в полноводную Шексну.
Десять километров от райцентра до Потеряева. Добираюсь то пешком, то с трактором – почтовиком, то с хлебной подводой тетушки Музы. Сколько лет уже каждый день, и в дождь, и в пургу, в жару и стужу, торит она путь в Шексну и обратно. В брезентовом не очень продуваемом и несгибаемом плаще, закутавшись до глаз в полушалок, в задумчивом достоинстве сидит на грядке телеги тетушка Муза, и голова ее покачивается в такт мерному переступу одноглазого мерина.
Шипят под колесами в колеях воды, проплывают мимо знакомые и родные картины. Береза у мосточка с разбитой в грозу вершиной, под ней не раз укрывался от проливных дождей, рябины по канавам, одаривавшие по осени терпкой ягодой, разлапистая ель, на которой в далеком детстве просидел часа три, спасаясь от волков, пока не появился попутный трактор.
Дорога ползет в гору, втягивается в Большой лес, в котором теперь так же трудно заблудиться, как в московском метро – сплошные дороги и просеки. И вот уже видны с угора рассыпанные дома. Еще километра три перелесками, полями, и – у цели!
На спуске догоняем человека в броднях с тощим рюкзаком. Он улыбается и радостно машет рукой.
– О, так это старый приятель, Витюшка Кошкин!
Я оставляю пропахшую теплым хлебом телегу, и мы шагаем рядом, весело болтая.
Виктор вообще-то не деревенский житель. Родители его жили в Шексне, но он пропадал все каникулы у дядьки в деревне. За родину ее и считает.
– Тянет?
– Что ты! Смену ночную закончил и – в деревню. К ночи опять надо на завод. Побуду у дядьки немного, на речку сбегаю и – обратно.
– А помнишь, как маленький из дому-то сбежал в деревню?
– Что ты! Поди, лет пять было. Так в деревню охота – до слез. А батьке все недосуг свезти. Надумал сам идти. А страшно. В деревнях – ребята большие обидят, собаки покусают, в лесу – волки, разбойники… Ножик – складешок для обороны взял, собакам – два пряника, а чтобы ребята не обидели – лампочку от фонарика. Их тогда в магазинах мало было. В рот ее запихал, чтобы не потерять. Думаю, если ребята приступятся драться, достану лампочку и отдам. Только, чтобы в деревню пропустили.
Так вот все и шел, по кустам да по обочинам хоронился. Еле приплелся. Дядя Вася увидал меня в заулке: «Ой, Витюшка пожаловал! А папка где?» Я говорю: «Папка у магазина завернулся, некогда ему». Попало потом, конечно.
– А помнишь..?
И как ловили под камнями рыбу, и как пололи на колхозном поле зачахшую кукурузу, как жгли на горе Оняве костры в масленицу и как катал нас на комбайне лучший в колхозе комбайнер дядя Саша Лебедев. И что за простор открывался с высокого штурвального мостика, как пахло спелым хлебом и близкой осенью, уже сулившей скорые перемены…
Одного не могу понять, как получилось, что все мы оказались лишь гостями в своей родной и любимой деревне и что деревенские старики зовут нас отчужденно холодно: «городовые».
* * *
…Дом наш стоял в центре деревни. Был он не так уж красив и нов, но это был мой дом, где вырос, где прошли счастливые, безгрешные, а потому лучшие годы. Лет десять, как мы уехали из деревни и дом остался под начальную школу, служил еще недолго
людям, но как-то быстро осиротел, выстыл. Зачахли кусты и яблони в саду, заросли и сровнялись ухоженные грядки, и лишь малинник, принесенный нами из лесу, одичал снова, в буйной силе захлестнул, заполонил дворик.
Несколько квартир сменили мы после. С удобствами и без них, но ни одна так и не стала родным домом.
Я подхожу к обветшавшему своему (по закону, уже чужому) дому, пробираюсь, как вор, на крылечко и сижу тихо, виноватый в отступничестве и ревности.
Далеко на реке гукнул теплоход, запоздало простучал колодезный ворот, бумкнуло в стылой глубине ведро и снова густая тишина отстаивается на деревне. И лишь за дальними разливами Судьбицы темный бархат неба изредка отсвечивает, словно кто-то большой пытается там зажечь огромную спичку и все никак не может ее вздуть…
Было. Утро выходного дня. Я лежу на печи и слушаю, как трещат дрова в топке. Тепло расползается по углам дома. Кошка, вернувшаяся с осенней улицы, вылизывает шерсть языком и, приведя себя в порядок, прыгает ко мне на печь, затевая на ухо песенку-мурчалку.
За окном сыплет дождь, барабанит под застрехой. Ветер срывает листья с березы, и они, словно солнечные брызги, устилают деревенский мир, видимый в окне.
Я вижу, как по улице проходит лошадь, запряженная в телегу с хлебным фургоном, рядом с ней в длинном плаще с капюшоном, резиновых сапогах шагает наша деревенская хлебовозка Муза Яковлевна, поповская дочь, за ней бежит Грозный – большой рыжий пес – охрана. До хлебозавода – десять километров, да десять обратно. Понедельник – выходной.
Муза ездит за хлебом много лет. Еще и меня не было на этом свете, а она ездила. Говорят, что скоро Музе на пенсию и что заменить ее не кем. Кто еще согласится за такие деньги в дождь и метель, стужу и зной ходить «на Усьё»…
Муза была тиха и немногословна. Высокая статная, но большей частью закутанная в полушалок и дождевик, она будто бы тешила в этом коконе давнюю обиду. Рассказывали, что отца ее в тридцатые годы выслали из деревни куда-то далеко на Севера, что будто бы там он и погиб. А церковь разорили, крест свергли, скоро и сам подтопленный храм рухнул. Поповский дом уплыл по волнам нового рукотворного моря, а поповская дочь, не выходившая замуж, купила у нас в Потеряеве крохотную избушку и жила там отстраненно от деревенского мира.
Я вижу, как Муза с лошадью скрылись за поворотом, но вот из подгорья, от фермы на деревенскую площадь, укрытую березовым золотом, поднялись наши героические доярки, идущие с утренней дойки. Дояркам нужно встать в четыре утра, истопить печи, сготовить завтрак для семьи, а в пять, половине шестого уже придти на ферму. Надо подоить вручную двадцать пять коров, процедить молоко, отправить с молоковозом Ваней Фунтиковым бидоны на сепараторное отделение…
Ваня тоже не молод. Но мужик в нем не умер еще. Ваня пишет дояркам лирические куплеты и исполняет их, пока грузит бидоны:
«Я вожу бачки и банки,
А доярки, девки, манки…»
Первой выходит на улицу тетка Соля, вдова, и долго смотрит во вслед уходящей в непогоду хлебовозке. Все знают, что между Солей и Музой давно уже пробежала кошка. Не выносят они друг друга. На первых порах этой вражды будто бы Соля пыталась на повышенных тонах разобраться с супостаткой. Но Муза Яковлевна презрела скандал и молчаливо пронесла свое достоинство… Только козу свою назвала Солей.
А уязвленная соседка крестьянского происхождения не придумала другого способа ответить на оскорбление, как свою козу назвать Музой.
Вот была потеха для злословов. Вечером выходят хозяйки встречать стадо.
– Малька! Белянка! Бяшка! – Шумит многоголосьем угор.
И в хоре том :
– Соля! Соля!
И среди всей этой деревенской прозы звучит высоко:
– Муза, Муза…
Козы, задрав хвосты, бегут навстречу хозяйкам…
– Ме-е-е!
Что было причиной распри меж этими седыми уже соседками, не ведомо мне. Молодым и юным вчерашняя жизнь уже кажется такой далекой и невсамделишной, замытой песком забвения, как замыла вода Рыбинки прежние селища и могилы.
И мое молодое время так же уже уносит Лета, хотя и было это всего лет тридцать назад.
…Рядом со мной на печке подходит квашня с тестом. Всю ночь тесто что-то нашептывало мне, вздыхало, словно пыталось рассказать какую-то длинную жизненную историю.
Сегодня бабушка печет пироги. Она уже убралась на столе, посыпала его мукой и снимает с печи квашню… До пирогов еще долго, но чудесный запах теста, масла, начинки из вареных яиц, жареной капусты, рубленых соленых грибов со сметаной, рыбы, слегка обжаренной для пирога, волнуют и разогревают аппетит… А еще будет пирог с брусникой к чаю, завариваемому из большой пачки с индийским слоном.
Хорошая пора – осеннее ненастье. Все дела по хозяйству справлены, заготовки сделаны, дрова запасены… Лежи себе на печи с книжкой. Вот она – « Жуль Верн… Таинственный остров».
Таких домов, как наш, немало уже в деревне. Каждый приезд натыкаешься на все новые и новые пустыри. Посадки напоминают сейчас вышедшее из кровопролитного боя войско, которое ждут новые и новые потери.
Единственная дорога, соединяющая Потеряево с миром, идет через Большой лес. Сейчас эти десять километров пролетишь на машине за десять минут, но еще пять лет назад была эта дорога поистине «великим путем из варяг в греки». Побито было на ней техники, поматерились шоферы и трактористы и в бога, и в председателя, и в вышестоящее начальство. Порой пешком
быстрее, чем транспортом.
Семь лет выхожено этой дорогой в школу. Померено было грязи в колдобинах, помотано слез на кулак.
Ради интереса подсчитал: за годы учебы двенадцать тысяч километров намотано по этому пути. Наверное, поэтому сейчас жалко старой, проклятой всеми, разбитой вдрызг дороги.
После затяжных октябрьских дождей вдруг расчистило, вызвездило, и на утро взору предстал преображенный первым заморозком мир: прибранный, уютный и радостный.
– Сходил бы ты за калиной, – попросила мать. – Надо отцу лекарство приготовить.
…У отца болел желудок. Он рассказывал, как везли их в эшелоне на фронт, как голодали они, как пайки закончились, а дорога растянулась на неделю и дольше. И вот на какой-то станции толпа голодных новобранцев вывалилась на перрон и в отчаянии принялась громить продовольственный склад. Замки и засовы не устояли, но продуктов в складе не было, только несколько десятков ящиков со сливочным маслом. Масло растащили по вагонам, разрезали… Каждому досталось не меньше килограмма.
Скоро, грохочущий на стыках, поезд помчался на войну. А в вагонах в страшных мучениях погибали люди. Отец все-таки сумел добраться до передовой, сдержался, съел масла немного по сравнению с другими. Потому и выжил, и вместе с ним выжил и я, не видевший этой проклятой войны. Но через много лет, тот кусок прогорклого масла дал о себе знать…
Мы лечили отца народными средствами. Столетник, мед, калина…
…Меня не надо было уговаривать. Десять минут – и я уже бежал деревенской улицей, размахивая корзиной с куском пирога, завернутым в газету. Под ногами моими хрустел ледок, дорога была суха и тверда.
Я быстро выскочил за деревню, пересек поле с еще не
убранным турнепсом и покатился под горку в речную долину, поросшую столетним ельником. Там я знал одну поляну, затянутую мшаником, на которой рос большой куст калины.
Калину я увидел издалека. Сквозь деревья она пламенела своими гроздьями. Я выскочил на поляну, но тут же, едва не задохнулся от восторга: вся поляна была усеяна ядреными боровиками. Они темнели тугими коричневыми шляпками среди прихваченной заморозком травы, словно засадный полк ушедшего от нас лета.
– Белые! – я бросился на колени. Боровики были каменными, за ночь мороз крепко прихватил их. Но это обстоятельство, ничуть, не огорчило меня. Я набил почти целую корзину грибами, а сверху положил гроздья калины…
Счастливый, я сел на пенек, развернул пирог и принялся уписывать его за обе щеки, прислушиваясь к редким звукам осеннего леса.
– Крук! —раздалось над головой. Огромный ворон косил на меня черным зрачком с высокой ели. Он разглядывал меня так бесцеремонно, что даже не прореагировал на мое движение к палке.
– Крук! – снова сказал ворон и наклонился в мою сторону, словно собирался пикировать. Мне стало не по себе. Я впервые видел эту, овеянную легендами и сказками, птицу, вестника смерти.
– Крук, – еще раз прохрипел ворон и спустился по дереву ниже.
И тут веселая злость охватила меня. Бабушка частенько напевала старинную песню про ворона и солдата. И я тоже звонко запел:
Под высокою ракитой
Русский раненый лежал.
Он к груди, штыком пронзенной,
Крест свой медный прижимал.
Кровь лилась из свежей раны
На истоптанный песок.
Над ним черный ворон вился,
Чуя лакомый кусок.
Ты не вейся, черный ворон,
Над моею головой…
Ты добычи не добьешься,
Я солдат еще живой…
– Крук! – ворон взмахнул крыльями и поплыл над лесом.
Недобрые предчувствия ворохнулись у меня под сердцем. Я подхватил корзину и побежал домой. И только подбегая к дому, оглянулся: надо мной неотступно кружил ворон.
Двери дома были полы. Я поставил корзину у печки, и подошел к столу.
– Толя! – писала на обрывке тетрадного листа мать. – У отца порвалась язва желудка. Увезли на «скорой» в район. Нужна операция. Я с ним.
Меня словно ударили по голове. Я сел и заплакал… Напротив. буквально на глазах, таяла и проседала моя корзинка с боровиками, и только калина пламенела, как кровь.
– Ты не вейся, черный ворон, – шептал я вновь и вновь, как заклинание. – Ты добычи не добьешься.
Отец лежал в больнице месяц. Поправился он за два. Я с седьмого класса был направлен им в деревню учить второ- и четырех классников. Получилось. Отец радовался.
– Толька, вставай! – Отец тормошит меня за плечо. – Баню топить пора.
Спать хочется невероятно, но я превозмогаю себя и поднимаюсь из полуобморочного состояния утреннего сна.
Сам напросился вчера топить баню. А баню топят часов пять, дают выстояться еще, а потому затоплять надо затемно, чтобы люди засветло помылись.
На улице морозно. Над головой сияние звезд, темно, на рассвет
и намека.
Я гружу деревянные чунки березовыми дровами, перевязываю их веревкой, чтобы дорогой не рассыпались, прикрепляю сверху два цинковых ведра – носить воду – и выезжаю на улицу.
Деревня еще спит. Я первым тревожу ее утреннюю тишину. Снег под полозьями моих санок скрипит оглушительно и отдается в заиндевевших домах звонким эхом.
Мне надо пройти мимо дома молоковоза Вани Фунтикова, печника Олеши Ефремова к домику доярки тетки Нины Родионовой, живущей одиноко, мимо ее заснеженного огорода и там дальше в поле уже на берегу пруда будет колхозная баня, в которой моется все наше Подгорье.
Деревня у нас большая – 100 дворов. Своих бань почти ни у кого нет. Есть четыре колхозные. По бане на каждый край. И топятся эти бани по чередам.
Сегодня – наша очередь. Вернее, моя… Добровольная очередь идти в кромешной темноте, при одном свете звезд в волчье поле за деревню, где угрюмо стоит черный силуэт черной бани.
Я представляю эту картину, и мне делается страшно. И сразу в голову лезут всякие жуткие истории.
Старухи не раз на посиделках рассказывали, что в банях водится нечистая сила, баннушки и банны обдерихи, и что один мужик нагрешил много и выйти из бани не мог. И двери не открывались и даже окошко не мог разбить – оно словно из стали сделалось… А на утро его нашли распластанным на полу.
И еще, горькие пьяницы любят вешаться в банях – тоже рассказывали…
Я шел, а сердце мое обмирало от страха. Но шел.
…Кажется, я разбудил скрипом своих чунок тетку Нину. В ее окошке, как спасение, вспыхнул свет. Пора ей на утреннюю дойку выходить.
– Вот вернется она с обеденной дойки, – думал я, – и пойдет с бабами в баню, которую я истоплю… И все будут спрашивать:
– Кто сегодня баню топил? И жаркая, и не угарная…
И кто-нибудь скажет:
– Это Толька Ехалов топил. Молодец, парнёк. Ловкой.
…Вот она, наша баня. Превозмогая страх, я разгребаю снег перед входом и выгружаю в предбаннике дрова. Теперь надо открыть саму баню. А вдруг там кто повесился? Я прислушиваюсь, нет ли там каких звуков? Тишина, вроде, только сердце мое гулко молотит в груди.
Я решительно дергаю на себя низкую банную дверь.
В бане почти такой же холод, что и на улице. И еще кромешный мрак. Но в нос ударяет горький запах осевшего на стены дыма и родной – березовых веников. И сразу же страхи уходят.
Я укладываю под каменкой дрова, ложусь на пол и поджигаю бересту. Она весело трещит, чуть освещая своим огоньком черное нутро бани, перебрасывая огонек на поленья. И вот они уже полыхают, рождая свет и тепло. Дым клубами покидает баню через распахнутые двери. И мне становится весело. Я топлю баню!
Я беру в предбаннике пешню, ведра и бегу на пруд за водой. Я останавливаюсь на какое-то время и гляжу на небо. Звезды бледнеют с каждой минутой. А деревня уже светит огнями.
Я вижу, как нижней дорогой идут с фонарями на ферму доярки, слышу, как в заулке у Олеши Родионова заверещал пускач, потом ровно застучал двигатель трактора. Мужики собираются в лес по дрова.
Тут на тропе скрипит снег. Рыбак Андрей Круглов с чунками и пешней идет к своим сетям на реке.
– Что, Толька, – спрашивает он. – Баню топишь?
– Да вот, – отвечаю я по-взрослому, – баню топлю…
– Ну-ну. А я думал, баню топишь…
– Дядя, Андрей! – Говорю я. – Как вернешься, так приходи париться
– Приду. Я тебе за это щуку изловлю. Мамка в пирог ее завернет. Пойдешь в интернат со щучьей заготовкой.
В конце шестидесятых годов по ней ушли из деревни последние молодые силы. Ушли и не вернулись. Моих сверстников, плюс – минус два года, было в то время человек тридцать. Помню светлые ночи на горе Оняве, туманную реку, дальние гудки пароходов, костры и беспокойные, тревожные мысли, одолевавшие, наверное, каждого. Учеба в школе подходила к концу, и требовалось сделать выбор. Нет, уезжать нам не хотелось. Каждому была дорога своя деревня, расставание с ней страшило. И вот кто-нибудь подавал голос:
– А что, ребята, не поедем никуда! Останемся.
И тут же откликался хор голосов:
– Остаемся, только, чур, все.
Не остался ни один. Сегодня трудно найти в деревне человека моложе пятидесяти лет.
Чем занять, что могла в то время предложить нам деревня? Навозный скребок или вилы. Да и этой работы на всех не хватило бы. В бригаде был пяток тракторов, но на них работали отцы и замены не просили, на ферме матери были в силе.
Деревня в какой-то момент остановилась в своем развитии, и не могла определить к своему делу подрост. Вот на этом экономическом ухабе и выбило молодежь из деревенской подводы на городской асфальт.
Более того, весь психологический настрой тех лет волей-неволей воспитывал пренебрежительное отношение к деревне с ее архаичным, отсталым производством. На первый план выходили профессии покорителей морских глубин и горных вершин, строителей новых городов, космонавтов. Мы грозились развести сады на Марсе, а своя земля, отвоеванная у диких лесов предками, вновь зарастала. Как будто люди в космосе ели не тот же земной хлеб…
После третьего класса я летами пас колхозных телят. И, надо сказать, это занятие пришлось мне по душе.
Понятно, что осенью в традиционном сочинении «Кем я хочу стать» совершенно искренне написал: пастухом.
Меня не поняли, слишком уж примитивными показались устремления. Сочинение заставили переписать, и во втором варианте я нес какую-то галиматью про штормящее море, летающих рыб, которых в жизни никогда не видел.
Мало-помалу в сознании деревенской молодежи сформировалось представление об ущербности, даже постыдности деревенского труда и живущих на селе людей.
Последние корни, связывающие молодежь с родиной, обрывались, и несло ее перекати-полем по просторам большой Родины.
В те годы я один задержался в деревне. Выйдешь зимним вечером на улицу – ни души, все спать улеглось, даже собак не слышно. И такая, право, накатывала волчья тоска, что готов был проклясть родное гнездовье и двинуть напрямик через леса и болота к далекому городу.
* * *
В истории российских деревень было немало разорений и бед. Но они возрождались из пепла, отстраивались и крепли, пока народ держался земли, видел в ней единственный источник и смысл существования. Источник и смысл – два неразделимых понятия.
Однажды писатель Ярослав Голованов попросил меня показать ему Вологодчину. Он готовил книгу о Нечерноземье. И я решил свезти его не только в передовые хозяйства, но и показать ему иную деревню.
…Дресвище давно попала в разряд неперспективных и не только по планам, но и по существу. Давно поразъехались ее обитатели. Кто в войну погиб. Кто в безвестье канул. Но оставшиеся дома крепки, для жилья пригодны. Деревеньку облюбовали художники и литераторы. Здесь и рыбалка знатная, и грибы, и ягоды.
Из коренных жителей одна единственная бабка Ульяна. В Дресвище родилась, ходила по нянькам, батрачила, замужем за вдовцом оказалась. Четверо приемных детей да пятеро своих. Теперь они давно уже сами внуков имеют, живут по новым местам, родину свою оставили. А бабка зацепилась за родной порог и ни у тех, ни у других жить не желает. Дома-то каждый сучок свой, у каждого гвоздя своя история. А пуще всего боится Ульяна в зависимость попасть, самостоятельности лишиться, лишней себя почувствовать.
– Хоть и черен кусок, да не обжуренной.
С лета начинает бабка Ульяна к зиме готовиться. Сушняк из лесу таскает, пилой шаркает. Хлеб сушит, грибы солит, бруснику томит – зима все приберет.
С первыми холодными дождями пустеет Дресвище, и только Ульяна все еще хлопочет по хозяйству. Переметет снегами и метелями дороги и тропки, навалит к крыльцу сугробов – бабка, словно медведь, в берлогу залегает. У нее даже колодец в крыльце. Истопит русскую печь в зимовке – первые два дня на кровати, как барыня, спит, потом да печь перебирается, а потом и вовсе в печь переселится. Пройдет неделя – снова праздник – печь топит.\
Так до масленой перезимует – там уже солнышко пригревать начнет, пора к весне готовиться, картошку перебирать, яровизировать, рассаду высаживать.
Первая огород свой вскопает, соседям поможет, пока они еще в городских квартирах нежатся. Хозяйка. Набольшая.
Завернули мы в Дресвище, печь топили, рыбачили, уху варили, рыжиками пробавлялись. Бабка Ульяна на огонек завернула, про жизнь свою рассказала, песен старинных напела.
Расчувствовались мы:
– Благодать-то какая! Покой дорогой. Остаться бы тут навсегда, огород копать, рыбу удить, корову бы завести на коллектив!
Слушала, слушала бабка Ульяна эти речи и загоралась вся:
– А что, ребята, надо корову-то, ой как надо! Глядите-ко, по второй год лучкаря в нашей деревне стога ставят. Слыхано ли дело, чтобы лучкаря да на дресвянских покосах хозяйничали! А коли корову-то заведем, так и сена хватит, а зиму-то я за ней догляжу. Места на дворе вдосталь, да и мне поваднее будет…
И столько было в ее словах веры, хозяйской тоски по еще несостоявшейся корове, что мы пристыженно языки прикусили.
Так как же все-таки велика способность к возрождению у
людей, живущих на земле, если даже в этакой старухе, битой и согнутой жизнью, при одном только намеке расцвела в душе мечта. Да что там мечта – реальный план!
…В истории нашего Потеряева тоже было несколько периодов наибольшего оттока людей. Сильно сказалась на нем послевоенная разруха. Потом Череповец, где начиналось строительство металлургического гиганта, вытянул народ. Строительство Волго-Балта… И значительно раньше мог бы наступить для него сегодняшний кадровый кризис, а вслед за ним и упадок, если бы не стал во главе тогдашнего колхоза деятельный, по-крестьянски расчетливый и дальновидный мужик из наших деревенских Александр Иванович Кошкин.
В конце шестидесятых, начале семидесятых годов он так сумел поставить дело, что многие из тех, кто подался в город, стали возвращаться. Нужно сказать, что урожаи в наших краях были исконно высокие, фермы из передовых не выходили.
Но и этих достижений было бы недостаточно для развития деревни. Выручил лен. Раскорчевали под него солидный кусок новины, который дал замечательный урожай и семян, и тресты. Маленький колхоз получил солидные прибыли и премии. В кассе зазвенели деньги, которые хозяйство уже могло ссужать тем, кто возвращался, под застройку. Запахло смолистой щепой, на пустырях начали подниматься свежие срубы. Веселое и радостное было время.
В нашем деревенском клубе, во время самодеятельных концертов было не протолкнуться, помню шумные соревнования молодежи на школьной спортивной площадке, поездки агитбригад нашего колхоза на областные смотры художественной самодеятельности на бортовых машинах с кумачовыми транспарантами.
В Вологде была даже выпущена брошюра «Из опыта работы Потеряевского клуба». Брошюра была маленькая, серенькая, с плохо оттиснутым клише, на котором изображался в аккуратном палисаднике наш маленький деревянный клуб, казавшийся тогда настоящим дворцом.
Кошкин был талантливым организатором. Есть у нас за Имаей обширные заливные луга, с которых брали основной запас сена. Но луга из-за топкости использовались частично. В то время в районе уже образовалась своя лугомелиоративная станция, и Кошкин вынашивал идею осушения имайских покосов. Сколько же можно было тогда снимать с них клеверов, хлеба, льна! По натуре своей большой демократ, Кошкин нес эту идею в народ. Колхозники же, народ достаточно консервативный, поначалу опасались за колхозную кассу, боясь пустить деньги в распыл. Кошкин же был горяч и настойчив, так что порой дело доходило до жарких стычек. Но ни та ни другая сторона обиды не держала, и как бы то ни было, а скоро идея осушения Имаи жила в душе каждого колхозника. Это была хорошая перспектива для нашего колхоза.
Но кончился взлет Потеряева как-то сразу и нелепо. Началась кампания укрупнения колхозов. Потеряево объединили с другими колхозами, а центр вновь созданного определили в Шексне. Кошкина же перевели в другое, дальнее хозяйство. Не отпускали его колхозники, противились всячески, да и сам он не хотел бросать начатого дела, но район был непреклонен.
Новое хозяйство, колхоз «Шексна», вобрало в себя десятки деревень и раскинулось на десятки километров. О многих деревнях потеряевцы едва ли слышали. Противились они укрупнению, не хотели в одной упряжи с чужаками работать, поскольку во все времена было Потеряево деревней независимой и даже чопорной. Не прочь на счет своих соседей проехаться, которые победней жили: «Не беда, что нет сохи, была бы балалайка».
Что говорить, как нет людей одинаковых, так нет и одинаковых деревень. И если уж в Потеряеве дом-то хоромы, если картошка-то «в колесо».
С того времени и началось захирение нашей деревни, превратившейся из самостоятельного колхоза в рядовую бригаду. Колхозные средства вкладывались в развитие других, более близких деревень. Новый председатель был родом с зареченской стороны, а своя рубашка, что ни говори, все равно ближе к телу.
Развитие нашей деревни застопорилось, захирела дорога, новостроек не стало, и превратилось Потеряево в захолустье, вполне оправдывающее свое название, в неперспективную деревню. На этот период и пришелся наиболее опустошительный отток молодежи.
* * *
…Утром солнце лучится в мокрой, только что проклюнувшейся траве, на первых листочках деревьев дрожат и переливаются капли ночного дождя. В промытых окнах играют солнечные блики, и вся деревня кажется помолодевшей и праздничной.
Города начинаются с вокзалов, а наша деревня с «галдареи», это и вокзал, и вечевая площадь, торговый и административный центр. Здесь на свайных мостках, среди резных осиновых колонн, как и прежде, обсуждаются все основные события: деревенские новости, международное положение, здесь собираются на бригадный наряд и рядят пастуха на лето, а раньше по праздникам устраивали перепляс – «топотуху».
Правильно было бы назвать это сооружение галереей, да не любит деревенский язык иноземных слов, от своего корня, от слова «галдеть» и пошла «галдарея».
Строили ее еще при председателе Кошкине, любившем во всем широкий размах, хотя и колхоз против нынешнего был с рукавицу.
Других памятников ни один из новых председателей в Потеряеве не оставил. Наоборот, начавшееся укрупнение привело к тому, что здесь стали закрываться роддом школа, фермы, ветлечебница и т. д.
Обошли деревню новостройки. Животноводческий комплекс вымахал в стороне, перетянув к себе оставшееся трудоспособное население, закрылись сыроварня, лесопилка, мастерские, кузня, гаражи…
Но, как и прежде, собираются на «галдарее», пусть не людные, но беседы, и текут неторопливые разговоры про нового председателя, что «больно тороват, да неласков», про то, что «житье у коров настало необыкновенное, кажин день на каруселях катают», про житье новое и старое…
И кажется мне, что вечно будет жива моя деревня что не может она так вот просто уйти в никуда, не оставив после себя ни следа, ни тропинки.
А что за интереснейший народ – деревенские старики вынесшие на своем горбу, казалось бы, непосильную ношу, но не потерявшие ни оптимизма, ни способности мужественно и с юмором преодолевать горести и трудности. Сколько забавных историй хранит деревенская беседа.
Конец марта. На дороге вытаивают кругляши конского помета, и деловитые грачи долбят эти славные кулебяки желтыми носами. Пахнет весной, под снегом тоненько вызванивают первые ручьи, ищущие дорогу к речке. В душе у меня подъем и радостное чувство перспективы.
Я иду домой на каникулы. В моем рюкзаке дневник, в котором «кол» по русскому языку переправлен на «четверку». Я уверен на все «сто», что никто и не узнает об этом моем грехе. Потому, что возвращаясь с каникул, я вновь уберу лишнюю палочку в дневнике и снова «четверка» станет «единицей».
А пока можно кататься на лыжах по склонам заброшенного карьера, бегать на рыбалку, гонять шайбу на пруду, или, как говорит моя мать «бить шерсть на собаках». А что до кола, то в следующей четверти я его исправлю непременно.
К нам на русский и литературу приходит молоденькая училка, с которой я найду общий язык, а старая, вредная и злющая, уходит в декретный отпуск.
Старая в этой четверти устроила нам контрольный диктант по Тургеневу с массой авторских знаков препинания. И все написали этот диктант отвратительно. Были всего две или три «двойки», остальные получили «колы».
Учительница устроила публичный разбор ошибок и издевалась на нами по полной. Я своему соседу по парте Ваське Фунтикову заметил, играючи:
– А у тебя, Васька, наверное, и «жи», «ши» с буквой «ы» написаны. – Откуда прилетела ко мне в голову эта мысль, убей, не знаю, но только я успел закрыть рот, как учительница, ядовито ухмыляясь, произнесла:
– А вот Фунтиков… – тут она сделала трагическую паузу. – А вот Фунтиков даже «жи», «ши» написал с буквой «ы».
Васька повернулся ко мне и побагровел:
– Гад, – прохрипел он со свистом. – Ты видел и не сказал!
Мы бились с ним все оставшиеся перемены. Правда была на моей стороне и я пару раз сумел расквасить Ваське нос. Но он затаил обиду.
А учительница, чтобы морально добить класс, задала выучить всем описание дуба из романа Льва Николаевича «Война и мир».
Как там, дайте вспомнить: « Князь Андрей, возвращаясь из имения сына, въехал в березовую рощу…» И далее по тексту на целую страницу, где было столько знаков препинания, что после первой переписки под приглядом нашей мучительницы, вырваться на свободу смогли только два-три человека.
И так мы оставались изо дня в день переписывать классика с его описанием березовой рощи, в центре которой рос этот окаянный дуб.
Мы уже все одубели от этого описания, но осилить синтаксис Толстого так и не смогли.
Наконец, мне все это изрядно надоело, я на промокашке написал первые буквы слов из описания, расставив между ними нужные знаки.
И вот когда я написал текст в очередной раз, и, не таясь расставлял с промокашки знаки препинания, к нам с Васькой подошла учительница. Она взяла промокашку в руки, повертела ее и уже положила обратно, как Васька, сжигаемый жаждой мести, ехидно заметил учительнице:
– А вам ни за что не догадаться, что это за бумажка!
Учительница взяла ее снова и догадалась:
– Вон! – Закричала она с визгом, как-будто я покусился на самое дорогое, что у нее есть, и пока я собирал портфель, проставила против моей фамилии в журнале в каждой клеточке до конца четверти сплошные «колы».
С Васькой мы бились до самого вечера.
Надо сказать, что никто грамотнее от этого описания дуба не стал. Класс маялся с описанием до конца четверти, но осилить его не смог. И только декретный отпуск злобной учительницы спас всех от дальнейших мук и унижений. Но вот пришла новая учительница с веселой и радостной улыбкой. И уже в первых сочинениях у меня стояли «пятерки» и за литературу, и за русский язык.
Года через два я работал уже в районной газете, лихо писал репортажи и очерки на радость читателям. И только моя старая учительница не радовалась этому обстоятельству:
«И как только таких безграмотных людей берут работать в газету? Помню, у него по русскому была «единица.»
* * *
В июле наша деревня опустела. Почти все, кто мог в руках косу да грабли держать, отправлялись на имайские покосы, разбивая там долговременный стан.
…Вечером становой повар – армейская профессия – Иван Михайлович Фунтиков раскладывает косарям кашу. Его то и дело подначивают на беседу, но он упорно молчит, обстоятельно справляя свое дело.
Сытный ужин ненадолго расслабляет усталых косарей, но сон не идет. Вечерняя прохлада бодрит, наплывает из низин вязкий туман, дергачи кричат в высоких травах, жарко светят в полумраке
остатки костра… И по-прежнему тянет на разговор.
– Анна, – кричит кто-то от телеги. – Расскажи-ко, как в Череповец за мукой ездила.
История на деревне известная. В сути своей печальная. Поехала баба в город, купила муки мешок, юбку новую. На пароходе юбку сняла, чтобы не запачкать, села на мешок и уснула. Пристань свою проспала, юбку потеряла, всю ночь пешком с мешком до дому добиралась, торопилась к утренней дойке. Но в пересказе Анны она приобретает такие подробности и детали, что публика хохочет до слез.
– Да я-то что, -отвечает Анна. – Вон Захаровна как-то на базаре диван отхватила. У нее ловчее моего получилось. Пусть она и расскажет.
– Поди, за кукурузу премию отхватила, так решила мебель сменить. A-а? – подначивают Захаровну из темноты. – Вали, Захаровна, сказывай.
Надежда Захаровна перевязывает косынку, страдает лицом.
– Приехала в Череповец. Пошла на базар. Вижу, мужик диван продает. Обшивка хорошая, пружины крепкие. Шестьсот рублей просит. На старые, конечно, деньги. «Бери, -говорит, -не прогадаешь. С твоей комплекцией как раз будет.
Думала это, думала и купила. Села, посидела и смекаю: а как же это я его на пристань-то потащу? Тяжелой. А потом ведь на пароход-то меня с ним не пустят. Тут уж и базар закрывают. Сторож в колоколо брякает. «Давай, – говорит, – баба, снимайся с дивана-то».
Ох, ты мне! Чего делать? Посижу, побегаю. Хоть реви. А тут этот самый мужик и идет…
– Который диван продал?
– Этот. «Ты чего, -говорит, -расселась?
Так и так, говорю.
– А он чего?
– Ох, говорит, ты и дура. Давай, говорит, я его у тебя обратно куплю. За триста.
– Продала?
– Продала. Только что и посидела за триста-то рублей.
От хохота просыпается лес, смолкают дергачи. А завтра снова работа до красных кругов в глазах…
* * *
К обеду на «галдарее» появляется писаная чернилами афиша. Вечером в клубе демонстрируется кинокартина «Свинарка и пастух». Решаю от нечего делать сходить. К моему удивлению, собирается со мной и тетя Поля, мать моего друга детства. Давно вроде бы, не ходок она по клубам.
И еще больше удивляюсь, когда вижу, что клуб битком набит. Кажется, что собралось все деревенское население. В кои-то веки. Вот уже сколько лет подряд в кино даже на самые захватывающие фильмы ходит не больше пяти человек. Старик Ионов, крестьянин интеллигентного склада, прочитавший в библиотеке всю мемуарную литературу; заведующая почтой молодая вдова Зоя, бесшабашная доярка Верка, не уехавшая из деревни лишь потому, что с четырьмя классами образования в городе делать нечего, жена киномеханика да какой-нибудь отпускник.
И вот на экране ухоженная северная деревня, березовые перелески, высокие дома с резными крыльцами, прометенные улицы, полные молодости, веселья. Бойкая босоногая свинарка – Марина Ладынина и красавец парень – Николай Крючков, растягивающий меха гармони:
Стоит мне милашке Глашке
Левым глазом подмигнуть,
Как ко мне моя милашка
Камнем падает на грудь!
Когда закончился фильм, в зале стояла полная тишина, лишь слышно было, как трещали цигарки у мужиков, дымивших у порога. Народ не поднимался с мест. И тут раздался чей-то голос:
– Анатолей! Рязанов! Крути по новой!
И снова появились на экране Марина Ладынина и Николай Крючков с гармонью, деревенские улицы, северные дома с резными крыльцами, и снова зал затаил дыхание.
Я шел вечером разбитыми улицами деревни, средь изрядно поредевших посадов, щербатившихся пустырями, и думал о той силе, что собрала сегодня весь деревенский народ. Уж не прощание ли было это со старой деревней, несостоявшейся мечтой молодых лет? А может быть, наоборот – утверждение ее жизненных сил?
…Весь день бродил окрестностями деревни и не узнавал их. Будто бы и горушки меньше стали, в землю вросли, и речка обмелела, и поля обузились. На имайских покосах прошлогодняя в рост человека некось стояла угрюмой неприступной стеной. Луга заболачивались, подергивались болотной дурниной, ивняком. В молодых перелесках спотыкались ноги о нестертые временем борозды и межи, а у обезлюдевшей деревеньки Ванеево – деревни – спутника Потеряева, встретилась мне в кустах одичавшая лошадь и долго, испуганно и тревожно смотрела во след.
Напомнила мне деревня старика Петра Стогова, прожившего аредовы веки. Выходил он на дорогу днями, стоял опершись на отполированный рукой можжевеловый посох и выглядывал – не пойдет ли кто -нибудь, с кем бы поговорить. Рассказывал, как воевал «ерманца», участвовал в Брусиловском прорыве, самого генерала видел. Заслужил Георгия, а сына, в одной сотне служили, на глазах убило.
Работал дедушка Петро в колхозе до 95 лет. За «конями ходил, упряжь чинил, дровни, телеги.
Потом его дочка Матрена к себе забрала. Лишила старика самостоятельности.
Умирая, он жаловался:
– Я бы еще пожил, дак от всех делов отстранили.
…Утром я снова пришел на «галдарею», чтобы уехать с
попутной машиной в Шексну. И снова вспомнилось детство, закатное зимнее солнце, плывущее в студеном мареве, дымы изо всех труб, подпирающие высокое небо и звонкие крики ребятни:
«Гала, гала, гала, набирай народу боле.
Кто на галу не идет, тому в жизни не везет!»
Вспомнил разговор с энергичным секретарем парткома колхоза, утверждавшим неперспективность моей деревни.
– Жизнь права, -говорил он, – обрекая старое и отжившее на вымирание.
Пройдет всего немного времени, и я к большой радости открою для себя, что энергичный секретарь парткома был глубоко не прав. Умирают несостоятельные идеи. Земля и человек на ней – вечны.
На «галдарее» сидел старый кузнец Борис Кузнецов, видимо, собирался в город к сыну.
– A – а, тянет домой-то, -приглядевшись, спросил он.
И ответил сам себе: – Тянет. Как же. Всяк кулик по своему болоту плачет.
Мы закурили. Борис затянулся папиросой, прищурился.
– А вот, скажем, осушили болото. Куда кулику деваться? Надо новое искать. Сначала по старому плачет, а потом и новое хвалить зачнет. Вот так и мы. По старому плачем, а за новое держимся.
Борис задумался надолго. Потом вдруг оживился резко, глаза молодо блеснули:
– А ты там в районе не слыхал, будто разговор идет, что Кошкина к нам на бригаду назначают? Э-э, уж он-то, парень, порядок наведет. Не даст деревню загубить. Да мы с ним еще Имаю распашем…
…Много квартир сменили мы после. С удобствами и без них, но ни одна так и не стала родным домом.
Я подхожу к обветшавшему своему (по закону, уже чужому) дому, пробираюсь, как вор, на крылечко и сижу тихо, виноватый в отступничестве и ревности.
Далеко на реке гукнул теплоход.
Если сидеть за столом у самовара, то в окошко видна излучина большой реки. Ранним утром она обычно подернута зыбким туманом. А потом, когда ветерок разнесет его – сверкает она на солнце радостным голубым зеркалом.
Видно, как по реке то и дело плывут суда: большие сухогрузы и нефтеналивные самоходные баржи, буксиры, похожие на жуков, натужно тащат длиннющие гонки с лесом. Река трудится день и ночь…
А я выглядываю наш пассажирский теплоходик «МО-70» – «Мошку», который каждое утро и вечер курсирует из Шексны до Череповца и обратно. Весь путь занимает часа три с небольшим, и можно за малые деньги накататься по реке вдоволь, насладиться ее прохладой, наглядеться на жизнь приречных деревень, потом походить по городским магазинам, купить обновы к школе,
мороженого отведать…
А наши деревенские женщины станут брать мешками муку на пироги, дрожжи, сахар на варенье, сушки к чаю и городские батоны, как будто их пироги чем-то хуже… И все это в один день.
Вечером, когда на реке зажигаются белые и красные бакены, усталый теплоход, окутанный облаком городских запахов: ванили, глазурованных пряников, батонов и сушек, привалится к нашей пристани, выпустит на берег деревенских экспедиторов, и побежит дальше заканчивать свой рейс. Мужики перетащат муку в телегу, лошадь тронет и побредет лесной дорожкой, думая свою бесконечную думу.
О чем думает она, эта старая колхозная лошадь? Может быть, вспоминает, как я сейчас, себя молодой, играющей в росных лугах под холодным сиянием луны. Кто скажет?
– В прошлом годе, – рассказывает доярка дорогой Саня Сычова, идущая следом за подводой, – ездила за мукой, да уснула, да не на той пристани и вышла. Дак, десять километров на себе тащила мешок. На дойку, вишь, надо было успевать.
Уже темно. Лошадь останавливается и неспешно опорожняет свой пузырь. На дороге остается гора белой пены. Идущие за подводой женщины одновременно восклицают: «Мука!» и хватают руками пену. Долго еще лес носит из угла в угол их задорный смех…
…Ой, сколько историй рождается вокруг этих поездок в Череповец за мукой. Потом, соберутся сумерничать деревенские жители, и зазвенят эти рассказы, вызывая взрывы хохота.
Каждое лето приезжает в отпуск моя ленинградская тетка, родная сестра отца. Она – моя крестная, и по ярославской традиции крестных зовут почему-то – коками. Кока Лиза.
Деревенские ребята ухохатываются, когда я говорю: «кока». В деревнях по Шексне, куда направили работать моего отца, крестных благородно зовут «бобками»… А крестных мужского рода – «божатками». На гулянках парни плясали и пели:
– А мы гуляли, били, резали
И сыпали золой.
Вся милиция знакома,
Прокурор -«божатко» мой.
…Сегодня приезжает моя тетка – кока Лиза, она же «бобка», «божатка» – по-местному наречию… Переехали мы на Шексну с Ярославской области всего на каких-то пятьдесят километров, но язык, оказалось, здесь совсем другой.
«Закрыть двери», например, здесь будет «закутать лазейку», «одежду» назовут «оболочкой», «корзинку» – «зобенькой», «санки» – «чунками», «портянки» – «онучами» … «Пироги», которые стряпает сейчас моя матушка к приезду гостьи, в деревне назовут «загибенниками», «налитушками» да еще «рогушками».
Пироги уже на столе под холщевыми рукотерниками. Эти пироги для нашей любимой гостьи.
Коку мою, которую я выглядываю с утра, любят все мои домашние, ее невозможно не любить. И не потому, что она молодая и красивая, а потому, что любит меня и тешит подарками. Кто еще покупает тебе такие красивые механические заводные игрушки, каких нет ни у кого в деревне. У меня уже были заводные машинки, заводной мотоциклист, обезьяна, а сегодня она привезет что-то и вовсе необыкновенное, о чем намекала в письме, присланном родителям:
«Приеду в отпуск, Тольке везу чудесную игрушку, Косте, /это мой отец/, крючки для перемета с длинным цевьем десятый номер, мелкую сетку на сак, Нине, \это моя мать\ крепдышиновое платье и выкройки, а так же нитки „мулине“.»
…Кукушка на стенке отсчитывает девять часов. Пора идти на пристань. И я бегу вперед родителей по желтой дорожке в ржаном поле к спуску в речную долину, поросшую сумрачным ельником, чтобы первым увидеть прижавшуюся к берегу голубую пристань с красной железной крышей и спасательными кругами на стенках, строгого пристанщика, бывшего морского офицера в отставке, отбивающего «склянки» в медный колокол – рынду – о прибытии теплохода.
И вот, о, радость, улыбающаяся, тетя выходит по трапу, и мы
торопимся встретить ее, подхватить тяжелые чемоданы, в которых кроме сушек, ленинградских сладостей и копченой колбасы, крючков, сетки, крепдышина есть и заводная игрушка.
Отец продевает сквозь ручки чемоданов ремень и превращается в двугорбого верблюда. Мы идем вслед за ним, но я от волнения забегаю вперед, подпрыгиваю, хватаю то отца, то тетю за руки и гляжу умоляющими глазами.
– Игрушку хочу! – Прошу я. – Покажите…
– Так он не дойдет, – говорит отец. – Сгорит от любопытства.
– Давайте остановимся, достанем ее и запустим, – предлагает кока Лиза.
Мы останавливаемся на луговине напротив горы Онявы, срытой наполовину и превращенной когда-то в колхозный карьер. При затоплении водохранилища, карьер соединился с рекой, образуя небольшое озерко с не широкой протокой.
Тетя открывает чемодан и извлекает из него большую картонную коробку. А в коробке той! Бог ты, мой!
В коробке была ярко раскрашенная весельная модель лодки с гребцом.
Кока вставляет ключ в спину гребца, заводит его и опускает в протоку. Человечек в лодке взмахнул веслами, и лодка быстро поплыла по протоке.
Я закричал от восторга и помчался по протоке вслед за удалым гребцом. За мной бежала тетя, мать и та побежала. Только отец сохранял степенность. Ему нельзя было бегать, как мальчишке. Он был директором школы.
А на берегу стояли и смотрели за нашей потехой все, кто пришел или приплыл в то утро на пристань.
Лодка моя скоро проплыла протоку и я подхватил ее у входа в реку. Завод уже был на исходе. Я покрутил ключик на спине гребца. Пружина была большая, лодка могла плыть далеко, и снова опустил лодку в протоку, но повернув ее на обратный ход.
Гребец старательно замахал веслами, и лодка понеслась по протоке. Мы не успели и глазом моргнуть, как лодка была уже на другом конце протоки на выходе в реку.
Я бросился за ней и легко бы догнал, но споткнулся о камень и упал на песок. А когда поднялся, то увидел, что лодка моя уже плывет в большой реке. Я побежал за ней по воде, но прямо к берегу здесь подходило русло. И пробежав несколько метров, я с головой ухнул в воду.
Я растерялся, нахлебался воды, выскочил на поверхность, но тут же снова пошел под воду. Но мне было не до себя, мне нужно было спасти лодку с гребцом, а плавал я плохо.
Меня вытащила на берег тетя Лиза, вокруг меня захлопотали, стали делать искусственное дыхание, но я оттолкнул от себя чужие руки и снова бросился к берегу. Моя лодочка еле была видна. Несчастный гребец гнал и гнал ее все дальше. А прямо по курсу наперерез ей двигался мощный буксир, таща за собой груженые несамоходные баржи. Еще немного он утащит под себя мою лодочку со смелым гребцом.
И тут я увидел, что к нам бежит матрос в бескозырке, форменке с полосатым галстуком, и раздевается на ходу.
Он бросился в воду и поплыл крутыми саженками наперерез буксиру. Все, кто был на берегу, замерли. Буксир был уже недалеко от лодочки.
– Володя! Давай! —Закричал кто-то. – Жми!
Я стоял на берегу, ни жив, ни мертв. Капитан буксира, завидя пловца, дал короткий гудок, но хода не сбавил, видимо, и не мог, но пловец, буквально из-под носа буксира выхватил лодку и исчез под волной.
Прошло несколько томительных минут, а может и секунд, прежде чем люди на берегу ахнули, и вздох облегчения раздался у всех, кто видел эту развязку.
Голова пловца показалась в нескольких метрах от судна, он махнул нам рукой, в которой была зажата лодка, и поплыл к берегу, покачиваясь на волнах, бежавших от буксира.
…Какое чудесное лето случилось у нас. Уже вечером на крыльце нашего дома звучал баян. Спаситель моей лодки, недавно мобилизовавшийся с флота моряк, виртуозно владел инструмент. Вместе с моим отцом, который играл на мандолине, они
устраивали целые концерты. Приходила и мать моряка Володи – Захаровна, лучший полевод бригады. У нее даже медаль была за выращивание кукурузы.
Я слышал, как она рассказывала о своей судьбе, моему отцу.
– Хочу, чтобы меня восстановили в партии, – говорила тихо она. —Задолго до войны направили нас на целину в Ставропольский край. Муж мой, отец Володи, был секретарем райкома партии, а я возглавляла пионерскую организацию. И вот нас арестовали. Сначала мужа, потом и меня по обвинению во вредительстве. Меня обвиняли в попытке отравления детей в пионерском лагере.
Год меня держали в каменном мешке подвала. А когда выпустили – я была древней старухой. Зубы все выпали, седая, изможденная. Детей, слава Богу, прибрали соседи. И когда я шагнула им навстречу, они меня не узнали и убежали со страху. А о судьбе мужа так и не смогла узнать ничего. Словно, его и не было.
А на крыльце нашего дома звучал баян и веселилась молодежь.
…Ближе к осени моя кока Лиза стала собирать чемоданы. Они уехали в Ленинград вместе с героическим моряком, баянистом и весельчаком Володей Белоусовым. Дело шло к свадьбе.
В марте в деревню на несколько дней приехал Володя, надо было оформить какие-то документы.
Вечером в дом Захаровны, у которой мы гостевали за чаем, прибежала заведующая клубом Люба Пахомова.
– Володька! Пойдем в клуб. Поиграешь девкам, соскучились уже.
– Иди, иди! – Согласилась Захаровна.
И он надел на себя модное полупальто, кожаные туфли, закинул на плечо баян и шагнул за порог…
Больше мы его живым не видели.
Утром в школе ко мне подскочил товарищ и сказал дрожащим голосом:
– Твоего баяниста ночью зарезали.
– Врешь, – сжал я кулаки.
– Все уже знают. Один ты.
Сердце мое сжалось от горя.
И тут в класс зашел отец:
– Шел бы ты лучше к Захаровне домой. Ей поддержка нужна. Дядю Володю убили. Не надо здесь плакать. Дома поплачешь.
Уливаясь слезами, шел я к Захаровне. Мне было страшно. На улице навстречу мне выбежал растерянный Володин пес. Но он не стал, как обычно радоваться и прыгать на меня, стараясь лизнуть в нос, а вильнув коротким хвостом, повернул обратно к дому, подвывая и жалуясь.
Я постучал и шагнул в дом, страшась увидеть бездыханное тело Володи. У окна в черном платке сидела суровая Захаровна, а рядом с ней сидела завклубом Люба.
– Мы привезли в клуб новый бильярд и ребята заносили его. И Володя с ними. На крыльце стоял Серега Капитан. Он был выпивши. И Володя, руки были заняты, задел его нечаянно плечом.
И вдруг ярость такая:
– Все, Вовка, ты – не жилец! – Сказал он и куда-то исчез.
Я знал Капитана. Он жил недалеко от нашего дома. Он воевал, пришел с войны офицером, получал пенсию по ранению. Друзей у него не было. Мы, ребятишки, боялись встретить его на улице. Уж такой у него был злой взгляд.
– Мы уже расходились из клуба, – рассказывала Люба. У Володи на груди был баян, он играл и мы, девчонки шли рядом и пели. И тут из темноты вышел Серега. В руках у него был нож.
– Что девки? – Голос у него такой хриплый был, словно его кто-то душил. – Конец пришел вашему баянисту.
Мы завизжали. Володя попытался сбросить с груди баян, стал отступать, но поскользнулся на ледяной дороге и упал на спину в снег.
Серега махнул финкой и тоже упал. Но он пополз к Володе и ударил его ножом.
Мы побежали к фельдшеру, кто-то бросился запрягать лошадь, чтобы везти его в районную больницу. И не довезли. У него была перерезана паховая артерия.
…Я пошел домой, не видя дороги. У дома Капитана стоял милицейский мотоцикл с коляской. Я увидел сквозь слезы, как два милиционера вывели на высокое крыльцо Серегу. И вдруг он развернул плечи, освобождаясь от милицейских рук. С одного милиционера слетел с головы картуз, второго он одним движением сбил с ног. Тут же по лестнице покатился и второй.
Серега встряхнулся, гордо спустился с лестницы и сел в милицейскую коляску.
– Везите! – Сказал он. – Я ваш.
…На следующее лето мы получили из Ленинграда письмо:
«Еду к вам в гости. С Володей. Ему уже три месяца… Тольке везу замечательную заводную игрушку…».
…В игрушки к тому времени я уже не играл. Повзрослел.
Таких домов, как наш, немало уже в деревне. Каждый приезд натыкаешься на все новые и новые пустыри. Посадки напоминают сейчас вышедшее из кровопролитного боя войско, которое ждут новые и новые потери.
Единственная дорога, соединяющая Потеряево с миром, идет через Большой лес. Сейчас эти десять километров пролетишь на машине за десять минут, но еще пять лет назад была эта дорога поистине «великим путем из варяг в греки». Побито было на ней техники, матерились шоферы и трактористы и в бога, и в председателя, и в вышестоящее начальство. Порой пешком быстрее, чем транспортом.
Семь лет выхожено этой дорогой в школу. Померено было грязи в колдобинах, помотано слез на кулак.
Ради интереса подсчитал: за годы учебы двенадцать тысяч километров намотано по этому пути. Наверное, поэтому сейчас жалко старой, проклятой всеми, разбитой вдрызг дороги.
В конце шестидесятых годов по ней ушли из деревни последние молодые силы. Ушли и не вернулись. Моих сверстников, плюс – минус два года, было в то время человек тридцать. Помню светлые ночи на горе Оняве, туманную реку, дальние гудки пароходов, костры и беспокойные, тревожные мысли, одолевавшие, наверное, каждого. Учеба в школе подходила к концу, и требовалось сделать выбор. Нет, уезжать нам не хотелось. Каждому была дорога своя деревня, расставание с ней страшило. И вот кто-нибудь подавал голос:
– А что, ребята, не поедем никуда! Останемся.
И тут же откликался хор голосов:
– Остаемся, только, чур, все.
Я остался один. Сегодня трудно найти в деревне человека моложе пятидесяти лет.
Чем занять, что могла в то время предложить нам деревня? Навозный скребок или вилы. Да и этой работы на всех не хватило бы. В бригаде был пяток тракторов, но на них работали отцы и замены не просили, на ферме матери были в силе.
Деревня в какой-то момент остановилась в своем развитии, и не могла определить к своему делу подрост. Вот на этом экономическом ухабе и выбило молодежь из деревенской подводы на городской асфальт.
Но что это такое, деревня прожив лет двадцать, очнулась, и снова выросла даже больше чем была. Но не работая, а отдахая по летам.
Весь психологический настрой тех лет волей-неволей воспитывал пренебрежительное отношение к деревне с ее архаичным, отсталым производством. На первый план выходили профессии покорителей морских глубин и горных вершин, строителей новых городов, космонавтов. Мы грозились развести сады на Марсе, а своя земля, отвоеванная у диких лесов предками, вновь зарастала. Как будто люди в космосе ели не тот же земной хлеб…
После третьего класса я летами пас колхозных телят. И, надо сказать, это занятие пришлось мне по душе.
Понятно, что осенью в традиционном сочинении «Кем я хочу стать» совершенно искренне написал: пастухом.
Меня не поняли, слишком уж примитивными показались устремления. Сочинение заставили переписать, и во втором варианте я нес какую-то галиматью про штормящее море, летающих рыб, которых в жизни никогда не видел.
Мало-помалу в сознании деревенской молодежи сформировалось представление об ущербности, даже постыдности деревенского труда и живущих на селе людей.
Последние корни, связывающие молодежь с родиной, обрывались, и несло ее перекати-полем по просторам большой Родины.
В те годы я один задержался в деревне. Выйдешь зимним вечером на улицу – ни души, все спать улеглось, даже собак не слышно. И такая, право, накатывала волчья тоска, что готов был проклясть родное гнездовье и двинуть напрямик через леса и болота к далекому городу.
Ночью выстоялся первый мороз. Градусник за окном упал на минус пять.
Мокропогодный октябрь сменил, наконец, унылый шелест дождя, на беззвучный полёт белых снежных мотыльков. Высветились небеса, дали открылись, а под ногой с сочным хрустом ломается первый ледок.
Теперь можно проверить реку. Встала ли? И я бегу налегке на Имаю. В сумке удочка с кивком и мормышкой из стрелянного капсуля, репейник в коробочке, топорик за поясом, в сердце радостное предвкушение первой поклевки.
Еще с вечера темная подскотина, теперь отбелена снежной порошей, на ее фоне темнеют кусты можжевельника и молодых елок, под которыми еще месяц назад наше деревенское население набило тропы в поисках рыжиковых плён.
А березы в сельнике еще не сбросили листвы и сияют золотом в серебряном обрамлении леса. За перелеском я круто поворачиваю, и бегу через луговину к заросшему ольхой и ивняком руслу реки.
И вот оно – зеркало вставшей ночью речки, в котором отображается и синее небо с редкими облаками, и крутые берега с остатками порушенных мельниц и камышовые заросли – «утошника», и теперь сам я, скользящий по этому зеркалу оцепеневшей воды.
Подо мной проплывают рыбьи стаи, одинокий налим извивается на песчаном наволоке, настороженные щуки, словно подводные лодки на дежурстве, стоят не шелохнувшись.
А вот на омут выйти не удается, лед под ногой трещит, и трещины весело бегут от меня, ломаясь, к середине реки.
Толстая ольха, подмытая вешней еще водой, наклонилась почти к самой реке. И я пробираюсь по стволу, ложусь на него, вырубаю во льду лунку и дразню мормышкой толстых полосатых окуней. Я вижу, как один из них разворачивается к атаке, раздувая алые жабры, бросается на мою наживку и тот час оказывается на льду, яростно топорща колючки…
* * *
…В истории нашего Потеряева тоже было несколько периодов наибольшего оттока людей. Сильно сказалась на нем послевоенная разруха. Потом Череповец, где начиналось строительство металлургического гиганта, вытянул народ. Строительство Волго-Балта… И значительно раньше мог бы наступить для него сегодняшний кадровый кризис, а вслед за ним и упадок, если бы не стал во главе тогдашнего колхоза деятельный, по-крестьянски расчетливый и дальновидный мужик из наших деревенских Александр Иванович Кошкин.
В конце шестидесятых, начале семидесятых годов он так сумел поставить дело, что многие из тех, кто подался в город, стали возвращаться. Нужно сказать, что урожаи в наших краях были исконно высокие, фермы из передовых не выходили.
Но и этих достижений было бы недостаточно для развития деревни. Выручил лен. Раскорчевали под него солидный кусок новины, который дал замечательный урожай и семян, и тресты. Маленький колхоз получил солидные прибыли и премии. В кассе зазвенели деньги, которые хозяйство уже могло ссужать тем, кто возвращался, под застройку. Запахло смолистой щепой, на пустырях начали подниматься свежие срубы. Веселое и радостное было время.
В нашем деревенском клубе, во время самодеятельных концертов было не протолкнуться, помню шумные соревнования молодежи на школьной спортивной площадке, поездки агитбригад нашего колхоза на областные смотры художественной самодеятельности на бортовых. В Вологде была даже выпущена брошюра «Из опыта работы Потеряевского клубам». Брошюра была маленькая, серенькая, с плохо оттиснутым клише, на котором изображался в аккуратном палисадике наш маленький деревянный клуб, казавшийся тогда настоящим дворцом.
Кошкин был талантливым организатором. Есть у нас за Имаей обширные заливные луга, с которых брали основной запас сена. Но луга из-за топкости использовались частично. В то время в районе уже образовалась своя лугомелиоративная станция, и Кошкин вынашивал идею осушения Имайских покосов. Сколько же можно было тогда снимать с них клеверов, хлеба, льна! По натуре своей большой демократ, Кошкин нес эту идею в народ. Колхозники же, народ достаточно консервативный, поначалу опасались за колхозную кассу, боясь пустить деньги в распыл. Кошкин же был горяч и настойчив, так что порой дело доходило до жарких стычек. Но ни та ни другая сторона обиды не держала, и как бы то ни было, а скоро идея осушения Имаи жила в душе каждого колхозника. Это была хорошая перспектива для нашего колхоза.
Но кончился взлет Потеряева как-то сразу и нелепо. Началась кампания укрупнения колхозов. Потеряево объединили с другими колхозами, а центр вновь созданного определили в Шексне. Кошкина же перевели в другое, дальнее хозяйство. Не отпускали его колхозники, противились всячески, да и сам он не хотел бросать начатого дела, но район был непреклонен.
Новое хозяйство, колхоз «Шексна», вобрало в себя десятки деревень и раскинулось на десятки километров. О многих деревнях потеряевцы едва ли слышали. Противились они укрупнению, не хотели в одной упряжи с чужаками работать, поскольку во все времена было Потеряево деревней независимой и даже чопорной. Не прочь на счет своих соседей проехаться, которые победней жили: «Не беда, что нет сохи, была бы балалайка».
Что говорить, как нет людей одинаковых, так нет и одинаковых деревень. И если уж в Потеряеве дом-то хоромы, если картошка-то «в колесо».
С того времени и началось захирение нашей деревни, превратившейся из самостоятельного колхоза в рядовую бригаду. Колхозные средства вкладывались в развитие других, более близких деревень. Новый председатель был родом с зареченской стороны, а своя рубашка, что ни говори, все равно ближе к телу.
Развитие нашей деревни застопорилось, захирела дорога, новостроек не стало, и превратилось Потеряево в захолустье, вполне оправдывающее свое название, в неперспективную деревню. На этот период и пришелся наиболее опустошительный отток молодежи.
1975г.