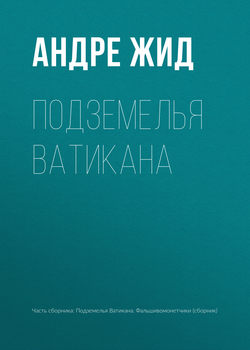Читать книгу Подземелья Ватикана - Андре Жид - Страница 4
Подземелья Ватикана
Книга первая
АНТИМ АРМАН-ДЮБУА
ОглавлениеЧто до меня, то я свой выбор сделал: я выступаю за социальный атеизм. Именно такой атеизм я полтора десятилетия развивал в ряде своих работ…
Жорж Палант.
Философская хроника «Меркюр де Франс».
Декабрь 1912 г.
I
Лета 1890-го, при понтификате Льва XIII, слава доктора X., специалиста по лечению болезней ревматического происхождения, разнесшись, призвала в Рим Антима Армана-Дюбуа, франкмасона.
– Что же это? – восклицал Жюльюс де Барайуль, свояк его. – Вы затем отправляетесь в Рим, чтоб исцелить свое тело? Если бы только вы смогли там познать, кольми паче больна душа ваша!
На что отвечал Арман-Дюбуа со снисходительным состраданием:
– Бедный друг мой, посмотрите же на мои плечи.
Барайуль, человек благодушный, невольно переводил взгляд на плечи родственника; они подрагивали, будто вздымаясь от смеха утробного, неудержимого, и, верно, велика была жалость зреть, как это пространное, полупараличное тело в таких глумливых движениях исходит остатками мускульных сил своих. Что ж! Каждый на своем они стояли прочно, и красноречие Барайуля ничего изменить не могло. Может, изменит время? Таинственное действие места святого? Не скрывая безмерного разочарованья, Жюльюс отвечал лишь одно:
– Антим, вы меня весьма огорчаете. (Плечи тотчас же прекращали пляску, ибо Антим свояка любил.) Если бы только через три года, когда я приеду к вам на торжества юбилея, – если бы только я мог обрести вас тогда в покаянии!
Вероника, нужно сказать, сопровождала супруга совсем с иными намереньями: она была столь же набожна, как и сестра ее Маргарита, как и Жюльюс, и долгое пребывание в Риме отвечало одному из самых ее сокровенных желаний; она обставляла мелкими привычками благочестия свою монотонную, разочарованную жизнь и, неплодна будучи, окружала свой идеал тем попечением, какого не требовалось от нее для детей. Увы! Она уже не имела надежды привести к Богу своего Антима. Она давно знала, сколь упрям может быть этот огромный мозг, как заперт в своем отрицании. Аббат Флонс ей так и говорил: «Нет непреклонней решений, сударыня, чем дурные решения. Теперь надейтесь только на чудо».
И даже огорчаться она уже перестала. С первых же дней, как супруги устроились в Риме, каждый из них сам для себя устроил свою одинокую жизнь: Вероника – в хозяйственных хлопотах и церковных обрядах, Антим – в научных трудах. Жили рядом друг с другом и против друг друга, друг с другом мирясь, повернувшись друг к другу спиной. Этому благодаря воцарилось меж ними какого-то рода согласие, витало над ними какого-то рода полублаженство, и каждый из них, поддерживая другого, в том находил скромное применение собственной своей добродетели.
Как и в большинстве итальянских жилищ, в их квартире, нанятой через агентство, неожиданные удобства сочетались с приметными недостатками. Она занимала весь бельэтаж палаццо Форджетти на виа ин Лючина; в ней была очень хорошая терраса, где Вероника сразу решила разводить аспидистры, столь плохо растущие в парижских квартирах, – но, чтобы попасть на террасу, непременно было нужно пройти через оранжерею, которую Антим сразу сделал своей лабораторией. Договорились, что он разрешает проход с такого-то по такой-то час.
Вероника отворяла бесшумно дверь и пробегала затем торопливо, глаза опустив долу, как молодой монах проходит мимо бесстыдных картинок на стенах, ибо ей было противно видеть, как в самом дальнем углу, возвышаясь над креслом с прислоненным к нему костылем, огромная спина Антима склонялась над неизвестно каким недобрым делом. Антим, со своей стороны, старался никак не подать вида, что слышит ее. Но как только она проходила назад, тяжело поднимался с сиденья, ковылял до двери и, полон злобы, губы поджав, властным движением пальца толкал дверную задвижку – щелк!
Скоро затем наступало время, когда через другую дверь Беппо – парнишка на побегушках – приходил спросить, какие будут распоряжения.
Уличного оборванца лет двенадцати или тринадцати, без родителей и без крова, Антим приметил через несколько дней после приезда в Рим. Беппо сидел против гостиницы на виа Бокка ди Леоне, где супруги остановились на первое время, и пытался привлечь вниманье прохожих цикадой, жившей у него на пучке травы в коробочке из камыша. Антим дал парнишке за насекомое десять сольдо и, зная по-итальянски лишь пару слов, кое-как объяснил, что завтра переезжает в квартиру на виа ин Лючина, и тогда ему понадобится несколько крыс. Все, что плавает, ползает, бегает и летает, служило ему материалом: он работал с плотью живой.
Прирожденный добытчик, Беппо достал бы ему и орла или волчицу Капитолийскую. Ему нравилась такая работа: он всегда любил что-нибудь стибрить. Платили ему десять сольдо в день; помогал он и по хозяйству. Вероника сначала смотрела на него косо, но, увидев раз, как мальчишка перекрестился, проходя мимо Мадонны на северном углу их дома, она простила ему лохмотья и позволила носить в кухню воду, уголь, дрова, растопку; носил он даже корзинку, когда провожал Веронику на рынок по вторникам и по пятницам: в эти дни у горничной Каролины, приехавшей вместе с супругами из Парижа, было слишком много хлопот в самом доме.
Вероника не нравилась Беппо, но в ученого мальчик прямо влюбился. Вскоре тот уже не спускался, мучась, во двор забрать доставленных жертв, а позволял парнишке самому являться в лабораторию. Туда проходили прямо с террасы, на которую со двора вела потайная лестница. Чуть сильней начинало биться сердце Антима в его нерушимом уединенье, когда он слышал негромкий стук босых пяточек по камням. В окно Антим не глядел: от работы его не отрывало ничто.
В застекленную дверь мальчик не стучался, а скребся; Антим, не отвечая, продолжал сидеть, сгорбленный, за столом, и тогда Беппо ступал на четыре шажка и ясным голоском ронял «permesso?»[1], наполнявшее всю комнату лазурью. По голосу приняли бы его за ангела, был же он подручным палача. Он клал на стол мешок – что за новую жертву в нем приносил он? Часто Антим, чересчур поглощенный работой, мешок открывал не сразу, а лишь мельком глядел на него; вздрагивал холст – там могла сидеть и крыса, и мышь; лягушка, воробышек – Молоху все было впрок. Иногда Беппо не приносил ничего и все равно приходил: он знал, что Арман-Дюбуа ждет его и с пустыми руками; и когда мальчик молча склонялся рядом с ученым над каким-нибудь жутким опытом – желал бы я быть уверен, что физиолог не наслаждался тщеславной радостью мнимого бога, видя, как вперяется взгляд ребенка то, с ужасом, в бедную живность, то, с восхищеньем, – в него самого!
Чтобы в дальнейшем напасть на самого человека, Антим Арман-Дюбуа пока что хотел лишь просто свести к «тропизмам» всю деятельность наблюдаемых им животных. Тропизмы! Не успели изобрести это слово, как никакого другого уже и не понимали; целый разряд психологов теперь признавал лишь «тропизмы». Тропизмы! Какой нежданный свет воссиял из этих звуков! Было ясно, что организм уступает тому же влечению, что и подсолнечник, когда лишенное воли растение поворачивается лицом к солнцу (что легко сводится к простым законам физики и термохимии). Отныне мир сей получал утешительный дар успокоения. В самых нежданных движениях существа стало возможным просто признать безусловное послушание движителю.
Чтобы достичь своей цели, чтобы от укрощенной живности добиться признания в простоте поведения, Антим Арман-Дюбуа изобрел сложную систему коробочек с коридорами, лесенками, лабиринтами, отсеками, где в одних лежала еда, в других ничего или какой-нибудь чихательный порошок, с дверцами разного цвета и формы – дьявольский инструмент, вскоре прогремевший в Германии и под именем Vexierkasten[2] ставший на службу новой психофизиологической школе, сделавшей новый шаг на путях безбожия. А чтобы действовать на то или иное чувство, тот или иной отдел мозга животного раздельно, он тех ослеплял, иных оглушал, кастрировал, декортикировал, обезмозгливал, лишал их того или иного органа, который вы сочли бы необходимым, но без которого тварь могла обойтись для Антимовых целей познания.
Его «Сообщение об условных рефлексах» перевернуло Упсальский университет; начались жесточайшие дискуссии, в которых принял участие весь цвет иностранной науки. Но в уме Антима уже взметались новые вопросы – и он, предоставив споры коллегам, повел изыскания на иных путях, надеясь выбить Бога из самых потаенных укреплений.
Ему не довольно было признать grosso modo[3], что всякая жизненная активность приводит к износу, что животное тратит силы уже одним применением мускулов. Всякий раз он спрашивал: сколько потрачено? А когда изнуренный предмет его опытов желал свои силы восстановить, Антим его не кормил, но взвешивал. Дополнительные условия чересчур усложнили бы эксперимент, а был он таков: шесть крыс, голодающих и связанных, подвергались ежедневному взвешиванию – две слепых, две кривых и две зрячих; зрению двух последних непрестанно мешала маленькая механическая мельничка. В каком отношении находилась потеря их веса после пяти дней голодовки? С торжеством добавлял Антим Арман-Дюбуа каждый день, ровно в полдень, новые цифры в заведенные для того специально таблички.
II
Юбилей начинался уже совсем скоро. Супруги Арман-Дюбуа ожидали Барайулей со дня на день. Утром пришла телеграмма с известием, что приедут они под вечер, и Антим вышел из дома купить себе галстук.
Выходил Антим редко – как можно реже: ему было трудно двигаться; Вероника все для него с удовольствием покупала, а шили у портных на заказ, приглашая на дом снять мерку. За модой Антим следить уже перестал, но хотя галстук ему был нужен самый простой (скромная ленточка черного шелка), он желал его выбрать сам. В дорогу он купил и в гостинице носил манишку из кармелитского сатина, однако она постоянно выбивалась из-под жилета, который Антим привык глубоко расстегивать; сменивший ее кремовый шейный платок Маргарита де Барайуль, несомненно, найдет неряшливым. Напрасно он изменил маленьким черным ленточкам, которые носил обыкновенно в Париже, и совсем зря не сохранил ни одной для образца. А здесь какой ему предложат фасон? Он не мог решиться, не обойдя несколько магазинов на Корсо и виа деи Кондотти. Бант был бы излишней вольностью для пятидесятилетнего человека; нет, конечно, – пойдет лишь лента с прямым узлом, черная, совершенно матовая…
Обедали только в час дня. К полудню Антим вернулся с покупкой – он успел к взвешиванию крыс.
Щеголем Антим вовсе не был, но испытал потребность примерить свой галстук, а потом уже сесть за работу. Осколок зеркала, служивший некогда для того, чтоб вызывать тропизмы, лежал на столе; Антим приставил его к клетке и склонился над собственным отражением.
Он носил до сих пор еще не поредевшие волосы бобриком – некогда рыжие, теперь же того неясного серовато-желтого цвета, какой появляется у старых вещей позолоченного серебра; над глазами его, серее и холоднее зимнего неба, брови торчали густыми кустами; бакенбарды, маленькие, коротко стриженные, были все еще рыжеватого цвета, как и неухоженные усы. Антим провел рукой по впалым щекам, по широкому квадратному подбородку.
– Ничего, ничего, – пробормотал он, – побреюсь потом.
Он достал галстук из пакета, положил перед собой, вытащил булавку с камеей, снял платок. Его тяжелый затылок был окружен полувысоким воротничком, спереди открытым; кончики его Антим опускал. Здесь, при всем моем желании говорить только о самом главном, я не могу умолчать о шишке на шее Антима Армана-Дюбуа. Ибо что я могу требовать от своего пера, кроме точности и строгости, пока не приобрету умения надежно различать второстепенное и существенное? И кто может утверждать, что эта шишка не сыграла никакой роли, не имела никакого веса в том, что Антим именовал своей «свободной» мыслью? Ишиас свой он бы, пожалуй, Богу еще простил, но вот этой пошлости простить не мог.
Шишка у него появилась, он не знал отчего, вскоре после женитьбы: сначала только чуть правей и ниже левого уха, там, где начинают расти волосы, – какой-то безобидный узелок; он рос, но Антим еще долго мог скрывать его под густой шевелюрой, начесывая кудри на шею; даже Вероника не замечала его, пока однажды ночью, лаская мужа, рукой на него не наткнулась и не вскрикнула:
– Ой, что это там у тебя?
И опухоль, словно утратив причину скрываться после разоблачения, уже через несколько месяцев сравнялась величиной сначала с перепелиным яйцом, потом с цесаркиным, потом с куриным, и такой оставалась, а волосы вокруг между тем редели и выставляли ее напоказ. В сорок шесть лет Антиму Арману-Дюбуа было уже ни к чему производить впечатление; он коротко подстригся и стал носить полувысокие воротнички такого фасона, где нечто вроде ячейки и скрывало, и выявляло шишку. На том довольно о шишке Антима.
Он обернул вокруг шеи галстук. Посередине, через узкий металлический проход, должна была проскользнуть вспомогательная ленточка, которую готовился подцепить крючок рычажка. Устройство хитроумное, но как только оно цеплялось за ленточку – сам галстук соскальзывал, падал опять на лабораторный стол. Пришлось на помощь призвать Веронику; она прибежала бегом.
– На, пришей, – сказал Антим.
– Завяжи машинкой, это ж такой пустяк, – тихонько ответила она.
– А на деле, оказалось, не держит.
У Вероники всегда под домашней кофтой, у левой груди, были приколоты две иголки со вдетыми нитками: черной и белой. Даже не присев, прямо у балконной двери она стала пришивать ленточку. Антим глядел на нее. Она была довольно грузной, с крупными чертами лица; так же упряма, как и он сам, но, в общем, довольно мила, почти всегда улыбалась, так что даже небольшие усики не делали ее лицо слишком грубым.
«Что-то в ней есть, – думал Антим, глядя, как она тянет иголку. – Мог бы я жениться и на другой: могла быть кокетка, и обманывала бы меня; могла быть ветреница, и бросила бы; могла быть болтушка – все уши бы прожужжала, или глупая курица – я бы с катушек слетел, или брюзга, как свояченица моя…»
И не так сурово, как обыкновенно, сказал он «спасибо», когда Вероника, закончив работу, ушла.
Теперь новый галстук повязан Антиму на шею, и ученый весь предался своим мыслям. Ни один голос больше не звучит для него ни снаружи, ни в сердце. Вот он уже взвесил слепых крыс. Что дальше? Крысы кривые – без перемен. Теперь надо взвесить зрячую пару. И тут он так поражен, что костыль падает на пол. Что такое! Зрячие крысы… он взвешивает их снова – но нет, никакого сомненья: со вчерашнего дня зрячие крысы прибавили в весе! Вдруг его озарило:
– Вероника!
С великим усилием он подбирает костыль и бросается к двери:
– Вероника!
Она услужливо подбегает опять. А он, на пороге стоя, величественно вопрошает:
– Кто трогал моих крыс?
Нет ответа. Он повторяет медленно, делая паузы между словами, как если бы Вероника забыла французский язык:
– Пока меня не было, кто-то им дал поесть. Уж не вы ли?
И тогда она, приободрясь, обращается к нему чуть ли не с вызовом:
– Ты морил бедных зверушек голодом. Я вовсе не мешала твоему опыту – просто…
Но он хватает ее за рукав и, хромая, подводит к столу – показывает таблицы результатов:
– Видите эти листки? Две недели я сюда заношу итоги моих наблюдений; именно их ждет от меня коллега Потье, чтобы доложить на заседании Академии наук 17 мая. Сегодня у нас 15 апреля: как я продолжу эти столбики цифр? Что напишу?
Она не проронила ни слова, и тогда он, словно кинжалом, коротким пальцем царапая неисписанную страницу, продолжает:
– Сегодня госпожа Арман-Дюбуа, супруга исследователя, слушая лишь свое нежное сердце, допустила… какое мне слово употребить? Неосторожность? Неловкость? Глупость?
– Напишите, пожалуй: пожалела несчастных зверушек, жертв безжалостного любопытства.
Он с великим достоинством выпрямляется:
– Если так вы к этому относитесь, сударыня, то поймете, почему отныне я вынужден просить вас для ухода за вашими растениями подниматься по лестнице со двора.
– Думаете, я хоть раз заходила к вам в логово для собственного удовольствия?
– Так избавьте себя от неудовольствия заходить сюда впредь.
И, подкрепляя эти слова красноречивым жестом, он хватает два листка с записями наблюдений и рвет их в клочки.
«Две недели», сказал он; по правде, крысы его голодали только четыре дня. Именно от преувеличения проступка угасло, должно быть, его раздражение: только сел он за стол, лицо его уже прояснилось; у него хватило даже философичности протянуть супруге десницу примирения. Ведь он еще более, нежели Вероника, не желает, чтоб благомыслящая чета Барайуль заметила их несогласия, вину за них во мненье своем непременно возложив на Антима.
В пять часов Вероника сменяет домашнюю кофту на черную драповую жакетку и едет встречать Жюльюса и Маргариту: они прибывали на вокзал Рима в шесть. Антим идет бриться; шейный платок он по доброй воле заменил лентой с прямым узлом: этого должно быть довольно; он терпеть не может церемоний и ради свояченицы не уронит в своих глазах альпаковую куртку, белый жилет с синим узором, тиковые панталоны и удобные черные кожаные домашние туфли без каблуков, которые надевал он даже на улицу: хромота его извиняла.
Он подбирает разорванные листки, складывает клочок к клочку и, пока не приехали Барайули, тщательно переписывает все цифры.
III
Род Барайулей (итальянское «ль» в этом слове по-французски читается «й», так же как титул герцогов Брольо читают «де Бройль») происходит из Пармы. За одного из Баральоли, а именно Алессандро, в 1514 году, вскоре после присоединения герцогства к Папскому государству, вышла замуж вторым браком Филиппа Висконти. Другой Баральоли, тоже Алессандро, отличился в битве при Лепанто, а в 1580 году был убит при загадочных до сих пор обстоятельствах. Не трудно, но не слишком интересно, было бы проследить судьбу этой фамилии до 1807 года, когда Парма была присоединена к Франции и Робер де Барайуль, дед Жюльюса, поселился в По. В 1828 году он получил от Карла X графскую корону; позднее Жюст-Аженор, его третий сын (два первых умерли во младенчестве), с достоинством носил эту корону в должности посла, где блистал его тонкий ум и одерживало победы дипломатическое искусство.
Жюльюс, второй ребенок Жюста-Аженора де Барайуля, после женитьбы жил вполне степенно, в юности же знавал иногда и сильные страсти, но мог, как бы то ни было, сказать о себе по всей справедливости, что сердце его никогда не падало низко. Глубоко вкорененное благородство натуры и особенное изящество, которым дышали его самые мимолетные писания, всегда удерживали его вожделения на краю наклонной плоскости, куда любопытство романиста, без сомненья, пустило бы их во весь опор. Кровь его в жилах текла без завихрений, но не была холодна: несколько великосветских красавиц тому быть могут свидетельницами… И я бы вовсе об этом не упомянул, если бы его первые романы не давали бы это достаточно ясно понять, чему отчасти и были обязаны громким успехом в свете. Благодаря высокому положению читателей, которые способны были ими восхищаться, появились они – первый в «Корреспондан», два других – в «Ревю де дё монд». Вот так, словно бы поневоле, Жюльюс Барайуль еще совсем молодым увидел себя у врат академии – да и статность, важный взгляд с поволокой, задумчивая бледность на челе словно предназначали его для места с бессмертными.
Антим исповедовал величайшее презрение к тому, чтобы выделяться положением в обществе, богатством, внешностью, – Жюльюса эти заботы мучили беспрестанно. Однако ученому нравились в нем некое добродушие и крайнее неумение спорить, которое часто приносило свободной мысли победу.
В шесть часов Антим слышит: экипаж гостей останавливается у подъезда. Он выходит встретить их у входа. Жюльюс поднимается на крыльцо первым. Цилиндр кронштадт, прямое пальто с шелковыми отворотами – можно подумать, он одет для визита, а не по-дорожному, не будь на руке у него шотландского пледа; долгий путь нимало на нем не сказался. Следом под руку с сестрой идет Маргарита де Барайуль – весьма, напротив, помятая: капот и шиньон сбились на сторону, на крыльцо она поднимается, покачиваясь, половина лица закрыта прижатым к лицу носовым платком… Подойдя к Антиму, Вероника шепчет тихонько:
– Маргарите в глаз попал уголек.
Дочка Барайулей Жюли, грациозная девятилетняя девочка, и горничная идут сзади в полнейшем молчанье.
У Маргариты характер такой, что к подобным вещам с легкомыслием не отнесешься. Антим предлагает послать за глазным врачом, но Маргарите известна молва, каковы коновалы в Италии; она ни за что и слышать об этом не хочет; произносит умирающим голосом:
– Холодной воды… просто немного холодной воды… Ах!
– Дорогая сестрица, – отвечает Антим, – на минутку холодная вода вам действительно принесет облегченье, ослабив приток крови к вашему глазу, но от недуга не избавит.
Он поворачивается к Жюльюсу:
– А вы заметили, что это было?
– Пожалуй, нет. Когда поезд остановился, я предложил посмотреть, но Маргарита разнервничалась…
– Что ты говоришь такое, Жюльюс! Ты был страшно неловок! Стал поднимать мне веко так, что чуть все ресницы не выдернул…
– Не позволите ли мне попробовать? – говорит Антим. – Может быть, у меня лучше получится…
Факкино поднес чемоданы. Каролина зажгла лампу с рефлектором.
– Но послушай, друг мой, не в коридоре же ты будешь делать эту операцию, – замечает Вероника и ведет Барайулей к ним в комнату.
Квартира Арманов-Дюбуа распространялась вокруг внутреннего двора; окна во двор освещали коридор, что вел из прихожей в оранжерею. В этот же коридор выходили двери сперва из столовой, потом из гостиной (огромной, плохо обставленной угловой комнаты, которой Антим с супругой не пользовались), затем из двух смежных комнат, приготовленных одна для супругов, другая, маленькая, для Жюли, рядом со спальней четы Арманов-Дюбуа. Все эти комнаты сообщались также и между собой. Кухня и два помещения для прислуги находились по другую сторону от подъезда.
– Не собирайтесь все вокруг меня, прошу вас, – стонет Маргарита. – Жюльюс, распакуй же вещи…
Вероника усадила сестру в кресло и взяла лампу. Антим вгляделся:
– Действительно, глаз воспален. Не снимете ли шляпку?
Но Маргарита, боясь, должно быть, как бы растрепанная прическа не обнаружила своих искусственных составляющих, сказала: нет, не сейчас. Шляпка без полей с завязками не помешает ей опереться затылком на изголовье.
– Так вы меня просите вынуть сучок из вашего глаза, а бревно из моего вынуть не даете, – сказал Антим с каким-то хихиканьем. – Кажется, в Евангелии заповедано как раз обратное!
– О, прошу вас, не заставляйте меня слишком дорого платить за ваши услуги!
– Молчу, молчу… Берем чистый платок… вот так, уголочком… вижу, вижу, что там… да не бойтесь, черт вас возьми! Смотрите в небо! Вот и все.
Уголком носового платка Антим вытаскивает крохотную соринку.
– Благодарю, благодарю! Теперь оставьте меня. У меня ужасная мигрень…
Маргарита теперь отдыхает, Жюльюс вместе с горничной возится с чемоданами, Вероника смотрит за приготовлением ужина, Антим же болтает с Жюли.
Он провел ее к себе в комнату. Арман-Дюбуа уехал, когда племянница была еще совсем крохой, и теперь едва узнает эту большую девочку – ее наивная улыбка уже серьезна. Они беседуют о всяких пустяках, которые, по мненью Антима, должны быть приятны ребенку, и вот его взгляд задерживается на серебряной тонкой цепочке у нее на шее. Он понимает: там, должно быть, висят образки. Беззастенчивым движением толстого пальца он выдергивает их наружу и, пряча болезненное отвращение под маской недоумения, говорит:
– А это что за штучки-дрючки?
Жюли прекрасно понимает, что он не всерьез спросил, но к чему ей сердиться?
– Как, дядя Антим, вы никогда не видели образков?
– Право слово, не видел, малышка, – лжет он. – И не особо красивые – значит, должно быть, они зачем-то нужны?
А девочка – ведь чистая вера не пугается невинных шуток – пальчиком показала на свою фотографию над каминным зеркалом и ответила:
– А вот у вас, дядюшка, висит на картинке девочка, тоже не особо красивая; зачем она вам нужна?
Не ожидал дядя Антим, что лукавая святоша не полезет за словом в карман, что у нее столько бесспорного здравого смысла!
На миг он оторопел – не заводить же с девятилетним ребенком метафизический спор. Улыбнулся. Девочка, тотчас же поняв, что перевес за ней, начинает показывать освященные медальончики:
– Вот мученица Юлия, моя святая; а это святое сердце Гос…
– А самого Господа Бога у тебя нет? – глупо перебивает ее Антим.
– Нет, его самого не делают… А вот самый хороший: Божья Матерь Лурдская, мне ее подарила тетя Лилиссуар; она ее из самого Лурда привезла, а я надела в тот день, когда папа с мамой меня посвятили Богородице…
Этого Антиму уже не перенести. Даже не дав себе труда представить, сколь неотразимо прелестно майское шествие детишек в белом и голубом, он не может удержаться от маниакальной потребности в богохульстве:
– Значит, не очень ты нужна Богородице, раз до сих пор тут, с нами?
Девочка не отвечает. Может быть, уже понимает, что на иное нахальство лучше не отвечать ничего? Но что это? Нелепый вопрос покраснеть заставил не Жюли, а масона; его легкое смущение – тайный спутник чувства неприличия; дядюшка прячет минутное замешательство, запечатлев на лбу племянницы примирительный поцелуй.
– А вы почему так сердитесь, дядя Антим?
Девочка все поняла: у этого безбожника-ученого доброе, в сущности, сердце.
А если так, что ж он упорствует?
В этот момент Адель открывает дверь:
– Барышня, вас мамаша зовет.
Маргарита де Барайуль явно боится влияния своего зятя и очень не хочет, чтоб дочь оставалась с ним долго. Это он и осмелится ей чуть позже заметить на ухо во время семейного ужина. Но Маргарита глядит на Антима еще немного воспаленными глазами:
– Я вас боюсь? Но, дорогой друг мой, Жюли могла бы привести к Богу дюжину вам подобных, прежде чем ваши насмешки коснулись ее души. Нет-нет, нас, церковных людей, так легко не пронять. И все же имейте в виду, что это еще ребенок. Она знает, каких богохульств можно ждать во времена столь испорченные, как наши, в стране, которой управляют так же постыдно, как нашей. Но очень жаль, что первый соблазн к ней приходит через вас, дядю ее, к которому мы бы хотели ее воспитать в почтении…
IV
Эти слова, столь взвешенные и разумные, смогут ли успокоить Антима?
Да, на первые две перемены (впрочем, ужин, вкусный, но простой, всего из трех блюд и был), покуда родственный разговор не касается заковыристых тем. Поговорили сначала о медицине в связи с Маргаритиным глазом (и Барайули сделали вид, будто не замечают, что шишка Антима выросла), потом об итальянской кухне из любезности к Веронике – с намеком на то, как прекрасно у нее готовят. Потом Антим спросил, как дела у Лилиссуаров, с которыми Барайули встречались недавно в По, и у графини Валентины де Сен-При, сестры Жюльюса, у которой возле По имение; наконец, осведомился о Женевьеве, очаровательной старшей дочери Барайулей – они бы ее с удовольствием взяли с собой в Рим, но она решительно не желала оставить больницу Страждущих Младенцев: каждый день она ходит туда, на улицу Севр, перевязывать язвы несчастным детишкам. Потом Жюльюс поднял важный вопрос об отчуждении имущества Антима, а именно земли, которую ученый купил в Египте, когда еще в молодости в первый раз побывал там. Эта земля была расположена неудобно и до последнего времени не имела почти никакой цены, однако недавно встал вопрос, не пройдет ли через нее железная дорога из Каира в Гелиополис; без сомнения, кошельку Арманов-Дюбуа, сильно похудевшему в рискованных спекуляциях, очень была бы кстати такая удача, но Жюльюс незадолго до поездки имел случай поговорить с Манитоном – инженером-экспертом проекта новой линии – и посоветовал свояку не возлагать на нее особенно серьезных надежд: все это может оказаться и пшиком. Но Антим кое-чего не сказал: дело это в руках Ложи, а она своих не бросает.
Затем Антим заговорил с Жюльюсом о выборах в академию, о шансах его; он говорит об этом с улыбкой, ибо совсем не верит в избрание, да и сам Жюльюс безразлично-спокоен и словно бы отстранен: к чему рассказывать, что у его сестры, вдовы графа Ги де Сен-При, в руках кардинал Андре и, стало быть, пятнадцать бессмертных, всегда голосующих заодно с кардиналом? Антим мимоходом и слегка хвалит последний роман Барайуля «Воздух вершин». На самом деле книга показалась ему отвратительной, и Жюльюс, который прекрасно все понимает, спешит возразить, чтобы не уронить самолюбия:
– А я полагал, что такая книга понравиться вам не может.
С книгой Антим еще, пожалуй, смирился бы, но вот намек на убеждения уколол его; он заявляет в ответ, что эти взгляды никак не касаются суждений, которые он выносит об искусстве вообще, а в частности о произведениях своего родича. Жюльюс улыбается примирительно и снисходительно; желая переменить тему, он спрашивает свояка о том, как себя ведет его ревматизм, и по ошибке произносит «люмбаго». Ах, лучше бы Жюльюс поинтересовался его научными опытами! Тогда Антиму было бы что ответить. Люмбаго! Так и до шишки его дойдет! Но про научные опыты свояка Барайуль ничего не знает: ему спокойней про них ничего не знать… Антим, уже готовый вскипеть и особенно больно задетый «люмбаго», усмехается и отвечает сердито:
– Как я себя чувствую? Ха-ха-ха! Если бы лучше, вы бы очень этому огорчились!
Изумленный Жюльюс просит свояка объяснить, чему он обязан, что ему приписывают такие немилосердные чувства.
– Черт побери! Когда кто-то из ваших хворает, вы тоже прекрасно умеете вызвать врача, но когда исцеляются ваши болезни – медицина тут ни при чем: все дело в молитвах, которые вы читали, пока врач вас лечил. А если выздоравливает тот, кто в церковь не ходит, это же, черт побери, нахальство с его стороны!
– Так вам лучше хворать, лишь бы не молиться? – прочувствованно говорит Маргарита.
Ну куда она лезет? Обычно никогда не участвует в разговорах на общие темы и всегда тушуется, как только рот открывает Жюльюс. У них мужской разговор, к черту все церемонии! Антим резко оборачивается к ней:
– Милейшая моя, знайте, что если бы исцеление находилось вот тут – понимаете, тут, – он остервенело тычет пальцем в солонку, – то мне, чтоб получить на него право, нужно было бы умолять об этом Господина Начальника (в дурном настроении так зовет он из озорства Верховное Существо), а не то просить его вмешаться, нарушить ради меня установленный порядок причин и следствий – порядок в высшей степени достойный – так вот, мне было бы не нужно исцеление; я бы сказал Начальнику: отцепитесь от меня с вашими чудесами – не нуждаюсь!
Он говорит, чеканя слова и слоги, возвысил голос в полную меру гнева – он ужасен.
– Не нуждаетесь? Почему же? – преспокойно спросил Жюльюс.
– Потому что это принудило бы меня поверить в того, кого нет.
При этих словах он грохает кулаком по столу.
Маргарита с Вероникой тревожно переглянулись, потом посмотрели на Жюли.
– Тебе, я думаю, девочка, пора уже спать, – говорит мать. – Ложись поскорей, мы придем к тебе пожелать спокойной ночи в кроватке.
Девочка, перепуганная страшными словами и демонским видом дяди Антима, тотчас же убегает.
– Если я исцелюсь, то хочу быть за это обязанным только себе. И точка.
– Но как же – а доктор? – посмела сказать Маргарита.
– Ему я плачу за услуги, и мы в расчете.
Но Жюльюс говорит до чрезвычайности важно:
– Что ж, если благодарность к Богу вас чересчур обязывает…
– Да, братец, потому-то я и не молюсь.
– За тебя, мой друг, молились другие…
Это говорит Вероника – до сей поры она не сказала ни слова. При звуках знакомого ласкового голоса Антим вздрагивает, теряет всякое самообладание. Доводы возражений наперебой рвутся с языка. Прежде всего никто не имеет права молиться за другого против его желания, просить для него милости без его ведома – это злоупотребление доверием. Она ничего не добилась – вот и прекрасно! Будет знать, чего они стоят, молитвы! Вот он и вышел кругом прав! А впрочем, быть может, она не так хорошо и молилась?
– Успокойтесь, я расскажу дальше, – так же ласково отвечает Вероника. Улыбаясь, как будто гневная буря ее не коснулась, она поведала Маргарите: каждый вечер, ни разу не пропустив, она зажигает за Антима две свечки и приносит к статуе Мадонны у перекрестка на северном углу их дома – той самой, у которой когда-то она увидела, как перекрестился Беппо. Ночевал мальчишка там же, неподалеку, на улице, в нише стены, и Вероника всегда наверняка могла его там застать в нужный час. Сама она до статуи достать не может – та стоит высоко для прохожих, и Беппо (теперь он стал стройным пятнадцатилетним подростком), цепляясь за камни и металлическое кольцо в стене, ставит зажженные свечки перед святым образом. И разговор неприметно ушел от Антима, сомкнулся над его головой: сестры говорили между собой, как трогательна простонародная набожность, для которой самая примитивная статуя всегда будет и самой чтимой… У Антима совсем голова пошла кругом. Как! Мало того что утром Вероника покормила его крыс! Она еще ставит за него свечки! За него! Его жена! Да еще и Беппо вмешала во всю эту жуткую чушь! Ну, погоди же!
Кровь прилила к вискам; стало душно; голова гудела как колокол. Собрав все силы, он встал, опрокинув стул, вылил стакан воды себе на салфетку, вытер мокрой салфеткой лоб… Ему плохо? Вероника спешит на помощь; он грубо ее оттолкнул, вырвался, хлопнул дверью – и вот уже слышно, как удаляются по коридору запинающиеся шаги под аккомпанемент глухо стучащего костыля.
Гости остались огорченно-растерянными столь внезапным поступком. Несколько секунд они сидели молча.
– Бедная моя! – промолвила наконец Маргарита. Но и при этом случае лишний раз проявилось, насколько различны характеры двух сестер. Душа Маргариты скроена из той необыкновенной ткани, из которой Бог делает своих мучеников. Она это знает и жаждет страдания. К несчастью, жизнь не принесла ей никаких бед; у нее все есть, и ее дар терпения вынужден искать применения по случаю мелких невзгод; всяким пустяком она пользуется, чтоб он ее оцарапал, за все хватается и ко всему цепляется. Да, она умеет устроиться так, чтоб ей всегда чего-то не хватало, вот только Жюльюс как будто нарочно желает оставить ее добродетель без употребления – что ж удивительного, что она им всегда недовольна, всегда капризна? Чего бы достигла она с мужем таким, как Антим! И ей неприятно, что Вероника этим так плохо пользуется; та вечно умеет уйти без потерь; с елеем ее непременной улыбки все проскакивает незаметно: насмешки, сарказмы… И, конечно, она давно уж решилась жить своей жизнью; к тому же Антим обходится с ней неплохо и всегда может прямо сказать, чего ему надо. Он потому так кричит, объясняет она, что ему трудно двигаться; будь он совсем без ног, то не так бы и горячился. А на вопрос Жюльюса, куда он пошел, Вероника ответила:
– В лабораторию.
Когда же Маргарита спросила, не стоит ли последовать за ним – ведь после такой вспышки гнева ему и дурно стать может! – сестра ей сказала: поверь, лучше оставить его успокоиться самому, не обращать внимания на его выходку.
– Давайте закончим ужин, – говорит она в заключение.
V
Но нет, не в лаборатории остался дядя Антим.
Как можно скорей он миновал рабочее помещение, где довершались страдания шести его крыс. Отчего не помедлил он на террасе, омытой закатным светом? Серафическое вечернее освещение умирило бы непокорную душу, быть может, преклонило бы его… Но нет: он уклонился от вразумления. По неудобной винтовой лестнице он спустился во двор, вышел на улицу. Трагедией видится поспешность калеки: мы же знаем, с каким усилием дается ему каждый шаг, ценою каких страданий – любое усилие… Когда же мы узрим, что дикая эта энергия направится на благое дело? Иногда с его губ срывается стон, сводит судорогой лицо… Так куда же ведет его богопротивное бешенство?
Эта Мадонна (с ее протянутых ладоней истекает на дом сей милость и на весь мир отраженье небесных лучей; быть может, заступничает она даже за богохульника) не то что нынешние статуи, изготовленные из пластического римского картона Блафаффаса в художественных мастерских Лилиссуар-Левикуан. Образ ее – выраженье народного благочестия – простодушен, и оттого лишь прекрасней и красноречивей для взора. Напротив статуи, но достаточно далеко, освещая бледное лицо, глянцевитые руки и голубой покров, подвешен фонарь на цинковой крыше, прикрывающей углубление, где висят на стене молитвенные подношенья. На высоте поднятой руки за железной дверцей, ключ от которой находится у церковного сторожа, скрыто крепленье веревки для фонаря. А еще перед образом этим горят день и ночь две свечи, принесенные Вероникой. При виде этих свечей вновь подымается ярость масона: он знает, что свечи горят за него. Навстречу выбежал Беппо – в своем укрытии он как раз догрызал черствую корку с парой веточек зелени. Не отвечая на его учтивый привет, Антим схватил паренька за плечо; наклонился над ним – и что ж произнес он такого, что Беппо от ужаса весь затрясся?
– Нет! Нет! – возмущенно крикнул мальчишка. Из кармана жилетки Антим достал пятилировую бумажку – Беппо вознегодовал… Быть может, когда-нибудь станет он воровать, станет даже убийцей – кто знает, каким зловонным пятном нужда покроет его чело? Но поднять руку на Пречистую Деву, которая печется о нем, по которой он каждый вечер, засыпая, вздыхает, которой, проснувшись, улыбается каждое утро! Пусть Антим убеждает, грозит, ругается, подкупает его – он получит от Беппо только отказ.
Впрочем, нам не следует заблуждаться. Не на саму Богородицу озлоблен теперь Антим, но на Вероникины свечи пред нею. Однако простая душа Беппо таких тонкостей не разбирает – да и свечи эти святые теперь, никто не имеет права их задувать…
Антим, отчаявшись, оттолкнул непреклонного паренька. Он все сделает сам. Прислонившись к стене, он берет костыль за ножку, страшно размахивается, занеся назад рукоять, и со всех сил швыряет его к небесам. Деревянный костыль рикошетит от ниши, падает с грохотом на землю, а за ним – какой-то обломок, кусок штукатурки. Антим подбирает костыль, отступает, смотрит на статую… Чертова сила! Две свечи как горели, так и горят. Но что это? У статуи на месте правой руки торчит лишь черный железный штырь.
Отрезвев, он оглядывает обидный итог своего поступка: и все оказалось ради дурацкого вандализма… Тьфу, пропасть! Он ищет глазами Беппо: мальчика нет как нет. Опускается мрак; Антим стоит один, видит на мостовой обломок, отбитый его костылем, подбирает: маленькая рука из гипса; пожав плечами, он кладет ее в жилетный карман.
Со стыдом на лице, с яростью в сердце святотатец идет обратно в лабораторию: он хотел бы теперь поработать, но непосильное напряжение надломило его: способен он только заснуть. Разумеется, он ляжет спать, ни с кем не прощаясь… Но едва он входит в свою спальню, как его останавливает чей-то голос. Дверь соседней комнаты открыта, он крадется по темному коридору…
Подобна ангелу-хранителю дома, маленькая Жюли в ночной рубашонке стоит на коленях у себя на постели; у изголовья, освещенные лампой, преклонили колени Вероника и Маргарита; чуть дальше, в изножье, стоит Жюльюс в благочестиво-мужественной позе: одну руку держит у сердца, другою прикрыл глаза; все они слушают, как молится девочка. Совершенная тишина облекает все это зрелище; оно напоминает ученому один тихий золотой вечер на берегу Нила, когда голубой дымок восходил, как восходит теперь молитва ребенка, прямо к чистому небу…
Молитве, как видно, скоро конец; девочка уже прочитала все, что положено по уставу, и теперь молится от избытка сердца, как оно ей подскажет: молится о маленьких сиротах, о страждущих и о бедных, о старшей сестре Женевьеве, о тетушке Веронике, о папе, о том, чтоб поскорей зажил глаз у дорогой мамочки… Но сердце Антима стеснено; громко, с порога, на всю комнату он произносит, желая быть ироничным:
– А о дяде у Господа мы ничего не попросим?
И тогда девочка недрогнувшим голоском, ко всеобщему изумлению, произносит:
– И еще о грехах моего дяди Антима молю тебя, Боже.
Атеиста эти слова поражают в самое сердце.
VI
В ту ночь Антиму приснился сон. Кто-то стучал в дверцу его спальни – не в коридорную дверь, не в дверь из соседней комнаты, а значит, еще в одну, которой ученый не примечал наяву: она вела прямо на улицу. Поэтому он испугался, ничего не отвечал поначалу – сидел притихший. Какое-то слабое сиянье позволяло ему ясно видеть каждую мелочь в комнате – свет неверный и тихий, как будто от ночника, однако во тьме никакая свеча не светила. Антим пытался понять, откуда исходит это сиянье, и тут постучали еще раз.
– Что вам угодно? – крикнул он дрожащим голосом.
На третий раз его охватила необычайнейшая расслабленность – такая, что всякое чувство страха растаяло в ней (позже он ее называл безропотной нежностью); потом он вдруг понял, что совсем беззащитен и что дверь сейчас отворится. Она открылась бесшумно, и какой-то миг он видел только черный проем, но вот в нем, как в нише, возникла Пречистая Дева. Маленькая белая фигурка – сначала он принял ее за свою племянницу Жюли, такую, как видел только что: с босыми ножками, чуть видными из-под рубашки, – но мгновенье спустя признал ту, кого только что оскорбил: я хотел сказать, что она имела облик статуи с перекрестка, а он различил даже рану у нее на правой руке; однако улыбка на ее бледном лице была еще прекрасней и приветливей обыкновенного. Он не видел, чтобы она переступала ногами, но она приблизилась к нему, как бы скользя, и, подойдя к самому изголовью, сказала ему:
– Ты, кто поранил меня, думаешь ли, что я нуждаюсь в руке, чтобы исцелить тебя? – И протянула к нему пустой рукав.
Ему казалось теперь, что это странное сиянье от нее и исходит. Но вдруг железный штырь вонзился ему в бок, страшная боль пронзила его, и он проснулся во тьме.
Пожалуй, с четверть часа Антим приходил в себя. Во всем теле он ощущал странное онемение, отупение, потом щекотку, довольно приятную, так что уже сомневался, вправду ли чувствовал ту острую боль в боку; он уже не понимал, где его сон начался и где кончился, наяву ли он теперь, спал ли сейчас перед тем… Он ощупал себя, ущипнул, убедился, что бодрствует, выпростал из постели руку и зажег спичку. Вероника спала рядом с ним, отвернувшись лицом к стене.
Тогда, вытащив простыню из-под матраса, откинувши одеяла, он спустил с кровати ноги и сунул в туфли пальцы. Костыль стоял тут же, прислоненный к ночному столику; он не взял его, приподнялся на руках, подвинув при этом кровать; потом надел туфли полностью; потом встал прямо на ноги; потом, еще неуверенно, протянув одну руку вперед, другую назад, сделал шаг, два шага вдоль кровати, три шага, потом через комнату… Матерь Божья! ужели?.. Бесшумно напялил штаны, надел жилет, куртку… Остановись, мое неосторожное перо! Где-то плещет теперь крылом освобожденная душа, уносимая неловким порывом тела, исцеленного от расслабления?
Через час с четвертью, пробужденная неким предчувствием, Вероника проснулась и сначала встревожилась, что Антима нет рядом с ней; еще сильней встревожилась она, когда зажгла спичку и увидала стоящий у изголовья костыль – непременного товарища калеки. Спичка догорела меж пальцев ее, ибо свечку забрал Антим, уходя; Вероника на ощупь оделась кое-как, тоже вышла из комнаты и тотчас же увидела путеводный луч из-под двери Антимова логова.
– Антим! Ты здесь, друг мой?
Ответа не было. Но Вероника, навострив уши, услыхала какой-то необычный звук. Тогда она в крайней тревоге открыла дверь – и увиденное пригвоздило ее к порогу.
Ее Антим был тут, прямо пред нею; он не сидел, не стоял; макушка, вровень с его столом, вся освещалась свечой, которую он поставил на краешек. Антим – ученый, атеист, у которого долгие годы несгибаемы оставались и покалеченная нога, и непреклонная воля (ибо, надо заметить, у него дух и тело всегда шли рядом), – Антим преклонил колени.
На коленях стоял Антим! Двумя руками держал он кусочек гипса, орошая его слезами, покрывая исступленными поцелуями. В первый миг он не пошевелился, и Вероника, в недоуменье, не смея ни войти, ни вернуться, уже собиралась сама преклонить колени прямо на пороге, напротив супруга, но тут – о чудо! – он без усилья встал, пошел к ней твердым шагом и заключил в крепких объятьях.
– Отныне, – сказал он, склонившись над ней и прижав ее к сердцу, – отныне, друг мой, ты будешь молиться со мною вместе.
VII
Обращение франкмасона не могло долго оставаться в тайне. Жюльюс де Барайуль в тот же день, не откладывая, сообщил о нем кардиналу Андре, который поделился вестью со всей Консервативной партией и высшим духовенством Франции; Вероника же объявила об этом отцу Ансельму, так что вскоре новость дошла и до ушей Ватикана.
Не было сомнений, что на Армане-Дюбуа почила особенная благодать. Что Пресвятая Дева действительно являлась ему, утверждать, пожалуй, было бы неосторожно, но даже если он видел ее только во сне, исцеление было налицо: наглядное, неоспоримое и, безусловно, чудесное.
И если Антиму, быть может, исцеления было бы и довольно, то Церкви того не хватало: она потребовала торжественного отречения от заблуждений, предполагая обставить его с чрезвычайной пышностью.
– Как же это? – говорил ему несколько дней спустя отец Ансельм. – Будучи в заблуждении, вы всеми средствами распространяли ересь, а ныне уклонитесь преподать миру высокий урок, извлеченный небом из вас самого? Сколько душ отвратил ложный свет вашей суетной науки от света истинного? Теперь в вашей власти посмеяться над прежним, и вы поколеблетесь сделать так? Что говорю: в вашей власти! Это ваш непременный долг, и я вам не нанесу оскорбления, предполагая, будто вы не чувствуете того.
Нет, Антим не уклонялся от этого долга, однако не мог не опасаться его последствий. Серьезные интересы, которые были у него в Египте, находились, как мы сказали уже, в руках франкмасонов. Что мог он сделать без поддержки Ложи? И какая могла быть надежда, что Ложа продолжит поддерживать человека, который от нее прямо отрекся? Прежде он ожидал от нее богатства, ныне же впереди видел свое совершенное разорение.
Он открылся отцу Ансельму. Тот обрадовался. Он не знал, что Антим посвящен в высокую степень: тем приметнее, думал он, будет его отречение. Два дня спустя масонство Антима уже не было тайной для читателей «Оссерваторе» и «Санта Кроче».
– Вы же меня погубите, – говорил Антим.
– Нет, сын мой, напротив, – отвечал отец Ансельм, – мы несем вам спасение. Что же до нужд материальных, о том не заботьтесь: Церковь поддержит вас. Я имел долгую беседу о вашем деле с кардиналом Пацци, а тот, верно, доложит Рамполле; скажу вам и то, что ваше отречение не безвестно и его святейшеству; Церковь не может не признать жертвы, которую вы принесете ради нее, и не допустит, чтобы вы от того понесли ущерб. Впрочем, не кажется ли вам, что вы преувеличиваете эффективность, – он улыбнулся, – масонства в таких делах? Нет, мне, конечно, известно, что с ними слишком часто приходится считаться… Наконец, есть ли у вас оценка того, что вы боитесь потерять из-за их вражды? Скажите нам примерную сумму и… – он с лукавым добродушием поднес палец левой руки к носу, – ничего не страшитесь.
Через десять дней после торжеств юбилея в чрезвычайно помпезной обстановке состоялось в церкви Иисуса торжественное покаяние Антима. Мне ни к чему говорить о подробностях церемонии, обратившей на себя внимание всех итальянских газет того времени. Отец Т., товарищ генерала ордена иезуитов, произнес по этому случаю одну из примечательнейших своих проповедей. Очевидно, что душа франкмасона мучилась до безумия, и крайний предел ненависти ее оказался предвозвещением любви. Благочестивый оратор вспомнил Савла Тарсийского, найдя между святотатственным поступком Антима и побиением камнями святого Стефана поразительную аналогию. И пока набухало и раскатывалось под сводами церкви красноречие преподобного отца, как прокатывается по гроту набухшая пена прилива, Антим припоминал звонкий голосок своей племянницы и в глубине сердца благодарил ее за то, что она призвала на грехи злочестивого дядюшки милосердие той, которой только он и желал служить впредь.
После этого дня, поглощенный высшими заботами, Антим едва замечал тот шум, что поднялся вокруг его имени. Жюльюс де Барайуль взял его страдания на себя и не мог развернуть газеты без замирания сердца. На первый восторг ортодоксальных листков отозвалось шиканье органов либеральных: на большую статью «Оссерваторе» «Новая победа Церкви» отвечала инвектива «Темпо Феличе» «Одним дураком больше». Наконец, в «Депеш де Тулуз» хроника наблюдений Антима, отправленная за два дня до его исцеления, вышла с издевательским предисловием; Жюльюс от имени свояка ответил сухим и достойным письмом, извещавшим, что «Депеш» отныне не может числить его среди своих сотрудников. «Цукунфт» сама первой вежливо поблагодарила Антима за прошлое. Тот принимал удары судьбы с ясным ликом истинно боголюбивой души.
– Слава богу, «Корреспондан» для вас будет всегда открыт, это я вам обещаю, – громко шептал ему Жюльюс.
– Но что же я туда, по-вашему, стану писать? – благодушно возражал Антим. – Все, что занимало меня вчера, сегодня уже не интересует.
Потом разговоры их прекратились. Жюльюс был должен вернуться в Париж.
Тогда же Антим под нажимом отца Ансельма покорно оставил Рим. Когда он лишился поддержки Ложи, денежный крах его наступил очень скоро, а визиты, на которые подталкивала его Вероника, полагавшаяся на поддержку Церкви, привели только к тому, что высшему духовенству он надоел, а там и стал раздражать. Ему дан был дружеский совет поехать в Милан и там дожидаться обещанного возмещения ущерба и крох от выдохшейся небесной милости.
1
Позвольте? (ит.)
2
Обманных шкатулок (нем.).
3
В общих чертах (лат.).