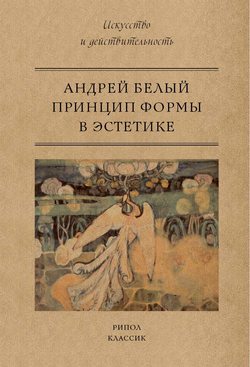Читать книгу Принцип формы в эстетике - Андрей Белый - Страница 2
Золото в лазури смысла
ОглавлениеАндрея Белого чаще всего относят ко второму, младшему поколению символистов. Старшие, как Брюсов и Бальмонт, видели символизм как школу, художественную технику, расширение возможностей выразительности – и всё. Младшие, как Белый и Вячеслав Иванов, и во многом Блок, рассмотрели в символизме мистическую технику восхождения «от реального к еще более реальному», особое миросозерцание, неповторимый взгляд на вещи и способ преодоления земной тяжести вещей.
Такая историко-литературная схема возникла из-за случайных конфликтов «Весов» и «Факелов», «Весов» и «Золотого руна», внутри редакции «Золотого руна» – все в 1905–1907 гг., стремительные годы первой революции. Как и всякая схема, порожденная в пылу ссор, она несовершенна – к старшим или младшим отнести М. Волошина, для которого равно были важны продуманный эстетизм и необычное мировоззрение? Или М. Кузмина, пришедшего в поэзию позже младших, но при этом остерегавшегося всего потустороннего? Или И. Анненского, – он был старше самых старших, но преодолевал символизм изнутри, без особого восторга относясь к новизне его техники.
Вместе с тем схема полезна, если мы захотим рассмотреть творчество Андрея Белого как единый путь исканий, удач и неудач. Андрей Белый был как никто внимателен к нюансам поэтической техники, к новым способам построения художественного образа. Но при этом для него сама эта техника была ключом к высшей реальности, устроенной по другим законам, чем привычная бытовая реальность. Если Брюсов назвал свою программную статью «Ключи тайн», имея в виду, что все тайны надо скорее отворить для читателей, то Андрей Белый настаивал, что тайна не прежде откроется человеку, чем изменит его полностью. Образ, который меняет жизнь еще до того, как мы его полностью постигнем, – вот первый и основной принцип эстетики Андрея Белого.
Конечно, Андрей Белый не был первым, кто так мыслил. Слово библейского пророка, средневекового церковного гимнографа, даже пламенного романтика должно было стать действенным прежде, чем до конца будет разобрано. Истолкование такого слова – не искусство занять отрешенную и равнодушную позицию, извлекая различные готовые смыслы, но, наоборот, искусство пережить смысл как действующий здесь и сейчас, как переопределяющий твое нынешнее действие и твой нынешний взгляд на знакомые вещи. Если средневековый гимнограф вспоминал Адама, если романтик вспоминал Прометея, слушатели должны были относиться к ним не как к персонажам, но как к тем лицам, с кем они сейчас встретились, и эта встреча оказалась значима на всю последующую жизнь.
Но Андрей Белый дополняет этот опыт веков. Символ – не просто носитель готовых образов, пусть даже самых впечатляющих и убедительных. Это еще и регламент этих встреч, не менее убедительный, чем любое расписание, определяющее порядок всей нашей жизни. Когда Пастернак сравнивает расписание поездов со Священным Писанием, или когда Ахматова велит брать «Немного у жизни лукавой, И все – у ночной тишины», тем самым установив меру творческих вдохновений, они выступают как продолжатели и толкователи Андрея Белого.
Борис Николаевич Бугаев, взявший себе псевдоним в честь мужества (Андрей) и синтеза наук (белый как синтез всех цветов спектра и одновременно символ чистого ожидания), родился в семье крупного математика, профессора Московского университета. «Профессорский сын», как вспоминала Цветаева, тоже дочь профессора, Андрей Белый переживал это как клеймо: слишком ко многому обязывает происхождение всех родственников из ученой семьи. Но парадокс: Андрей Белый отталкивался от Николая Дмитриевича Бугаева как личности, но при этом часто цитировал его математические труды, видя в исследованиях типов и форм бесконечностей одну из лучших моделей символистской теории искусства.
Андрей Белый тяготился родственными отношениями, всегда предпочитая дружбу родству. Влюблялся он самозабвенно и кошмарно, то в Нину Петровскую, возлюбленную Брюсова, то в Любовь Менделееву, законную супругу Блока. Женитьба на художнице Асе Тургеневой не принесла ему покоя: как часто бывало тогда, они мыслили свои отношения как «девственный брак», дружеский союз возвышенного служения смыслам, не оскверненный низкими движениями плоти. Такой дружеский брак был обычен среди философов-идеалистов: таковы были отношения Николая Бердяева и Лидии Трушевой-Рапп, французского богослова Жака Маритена и Раисы Уманцовой. Это было и новое понимание брака, которое выразила Раиса Маритен в одном из стихотворений: «Одинокая птица Листопад золотой Призывает напиться Своей чистой слезой. Воробей с этой веткой, Скорой встречи умы, Обвенчались в беседке Ностальгической тьмы» (перевод с фр. мой. – А. М). Но что хорошо для философов, умеющих предаваться длительным дисциплинированным размышлениям, не подходит для поэтов и художников, которым надлежит всегда самим устанавливать себе законы и нести за это ответственность. Борис и Ася стали адептами швейцарского мистика Рудольфа Штейнера, учившего о духовной эволюции человека и человечества, в ходе которой все эти законы установятся наилучшим образом. Штейнери-анство дало им покой, но не дало счастья.
При этом Андрей Белый был гением дружбы. Среди его друзей – Александр Блок, Сергей Соловьев (племянник великого философа), Павел Флоренский. В поэме «Первое свиданье» (1921) Андрей Белый подробно описал, как любой дружбе предшествовали слухи, надежды, чаяния, впечатления; как дружба возникала в наэлектризованной атмосфере ожидания новой эпохи. Эту дружбу точнее всего потом описал Павел Флоренский в главе «Дружба» своего трактата «Столп и утверждение Истины»: Флоренский сетовал, что в исторической Церкви больше раскрыт опыт братства как совершенной социальной организации, а не опыт дружбы как откровения любви. Если братство – начало исповедания веры, серьезности и строгости в делах и мыслях, то дружба – начало мученичества, непосредственное соприкосновение с Небом, священная игра и импровизация. «Один чувствует, желает, думает и говорит не потому, что так именно сказал, подумал, возжелал или почувствовал другой, а потому, что оба они чувствуют – в одно чувство, желают – в одну волю, думают – в одну думу, говорят – в один голос. Каждый живет другим, или, лучше сказать, жизнь как одного, так и другого течет, из в-себе-единого, общего центра…»
Путь Андрея Белого к художественной форме был непростым. В гимназические годы, как он и вспоминает в поэме «Первое свидание», он познакомился с семейством Михаила Сергеевича Соловьева, где впервые узнал и о философии, и о Софии-Премудрости, и о символизме, и о тайнах богословия. Избыток впечатлений переполнял молодого гимназиста: казалось, мир не просто уже не будет прежним, но непременно станет другим, и скоро, в ближайшие годы, всем предстоит сделаться свидетелями мировых событий. И искусство уже не будет просто тоже одним из занятий среди других занятий: оно станет той функцией, тем множителем, на который будет умножено наше существование.
В 1899 г. Борис Бугаев поступает на физико-математический факультет Московского университета. Более всего его интересует история живых форм: он изучает труды по эволюции природы, пытается приложить математические и статистические закономерности к развитию беспозвоночных, чертит схемы и таблицы, прогнозирующие развитие отдельных органов животных. Так он соединяет строгую науку с поэтическими озарениями: природа кажется ему царством не столько необходимости, сколько точности; не столько вынужденных действий, сколько счастливых попаданий.
Еще в студенческие годы Борис Бугаев создает «Симфонии»: отрывочную лирическую прозу, с постоянно повторяющимися мотивами, постоянно возвращающуюся к себе. Цель «Симфоний» – показать, насколько скоро в человеке могут произойти перемены, как среди неразборчивых вихрей впечатлений можно стать из извозчика монахом, из химика поэтом, из продавца ученым. Как наш мир пребывает в таком музыкальном напряжении, что мы даже не успеваем заметить, как происходят такие радикальные перемены в жизни людей.
После окончания университета Борис Бугаев пытается еще заниматься философией, под руководством Б.А. Фохта, но ему быстро надоедает отвлеченное мышление. С тех пор Андрей Белый – чистый писатель, чистый поэт, критик, редактор, издатель, путешественник, лектор, никогда не состоящий на службе, но всегда занятый серьезным научным обоснованием своей деятельности. Андрей Белый прославился постоянным переписыванием себя, переработкой корректур, после которой возникали фактически новые стихи и новые статьи: радикальная продуктивность формы не просто была его теоретическим принципом, но прямо действовала на всё, что выходило из-под его пера.
Его два великих романа, «Серебряный голубь» (1909) и «Петербург» (1913) – по сути, исследование того, как простые впечатления, бытописание, статистика, детективные сцены при такой постоянной переработке собственного опыта превращаются в свидетельства призрачности, ненадежности земного существования. Быт, привычные мысли и идеи, привычные размышления и нажитый опыт – лишь мелькнувшие моменты той зыбкости бытия, в которой только и вызревает личность. По сути, перед нами психоанализ наоборот: способ не убедиться в травматичности первичного опыта, а наоборот, перейти от страхов, каждого из которых достаточно, чтобы травмировать психику на всю жизнь, от муки неведомого существования к подлинному опыту. Только этот подлинный опыт постоянно требует переписывать себя, ставить под вопрос – и как тогда найти подлинность самой его подлинности?
В первой поэтической книге Андрея Белого, «Золото в лазури» (1904), индивидуальная мифология, осмысляющая миф о путешествии аргонавтов за золотым руном как трудный и при этом высокий путь к сверкающей истине, представлена одновременно как призма, через которую можно разглядеть уже отдаленные эпохи русской имперской истории, например, камзолы екатерининского времени или Кавказскую войну. Мифологические гномы и кентавры оказываются хранителями времен: то тяжелого прошлого, то легкомысленного настоящего. Но в книгах, созданных после поражения первой русской революции, «Урне» (1908) и особенно «Пепле» (1909), представлено другое: искусство умирать, которое Андрей Белый находит в изображении страданий у Некрасова – там, где глубокое терпение, отчаянная мука без проблесков переживаний, там только смерть может объяснить, для чего все эти состояния предназначены. Если в мире Платона эрос придавал человеку окончательную форму, делал его состоявшимся в любви, то в мире «Золота в лазури» человек становится собой, когда наконец научился общаться с нечеловеческими существами, в мире «Урны», когда встретился с собственным уже умершим прошлым, а в мире «Пепла» – когда подружился не с эросом, а с танатосом, умиранием в настоящем.
Такое движение от эроса к танатосу в мире идей не могло не сказываться и в экспериментах над формой. Русский поэтический модернизм вообще во многом был обусловлен усталостью от силлабо-тонических размеров, от привычной скороговорки. «Осенние сумерки Чехова, Чайковского и Левитана», по позднему примирительному слову поэта, переживались как время тяжкой усталости; провокационное «выспаться бы» в последней книге философа Розанова – итог целой большой эпохи. Конечно, в XIX в. была одна важнейшая реформа русского стиха: некрасовская замена двусложных размеров трехсложными, что сделало стих более эмоциональным, позволило лучше выразить надрыв и заунывность.
Но эти эмоции тоже требовали обновления: без этого тоскующий стих просто ложился на полку талисманом. Да, книга Надсона оказывалась в доме в Вильно или Варшаве, где не было других русских книг, но он не становился тем фактом жизни, которым стремились его сделать символисты.
Символисты по-разному пытались оживить стих и жизнь вокруг себя: наравне с обращением к западному средневековому стиху, восточному стиху, народной песне, они пытались провести и реформу основного стихосложения, но у всех это получалось по-разному.
Брюсов считал, что разнообразие ритмов в русском стихе надо подчинить «эвфонии», благозвучию. Анненский собирался раскрыть ритмическое разнообразие двусложных размеров, представив их как четырехсложные – пеоны, и тем самым прочитав привычные скорые ямбы и хореи совсем иначе – как неспешные размышления. Вяч. Иванов призывал ввести кроме рифмы колон – ритмическую паузу, одну на несколько строк, что позволило бы обогатить строфику, деля стихи не только на строфы и строки, но и на колоны. Бальмонт и тот же Брюсов экспериментировали со сверхдлинными строками. Обращаясь к этой эпохе, удивляешься тому, что не было ни одного поэта, равнодушного к вопросам стихосложения: даже Игорь Северянин, в котором мы бы не заподозрили научной основательности, пытался обосновать введение дополнительных слогов и цезур как реформу стиха.
Андрей Белый в своем стиховедении разделил два понятия – метр и ритм. Метр – это общая схема стиха: ямб, хорей или какой-то еще размер. Ритм – это переменчивость внутри метра, например, пропуск одного из ударений. Андрей Белый желал, чтобы ритм как можно сильнее вмешивался в ход метра, и тем самым создавал новое стихосложение, не скороговорку, а искусную мелодию.
В колеблющемся серебре
Бесшумное возникновенье
Взлетающих нетопырей, —
Их жалобное шелестенье…
Перед нами ямб, в котором мы едва узнаем ямб. Ударения стоят только на 1-й и 4-й стопе, а 2-я и 3-я стопа остаются полностью безударными. Поэтому, считал Андрей Белый, мы здесь будем слушать поразительную музыку, а не просто считывать готовые слова.
Такое понимание ритма, как заметил М.Л. Гаспаров в исследовании «Белый-стиховед и Белый-стихотворец», близко кантианской философии: явления не дают правильного представления о сути вещей, но мы должны собирать эти явления, исходя из интуиции, и только тогда мы сможем правильно отнестись к вещам и уяснить их для себя. Старые стихи с однообразным ритмом навязывают нам готовые образы, как будто бы ударяют по нам, заставляя принимать вещи так, как они представлены, тогда как разнообразие ритма требует интуитивно понимать, как можно синтезировать множество непредсказуемых явлений.
Андрей Белый вводил ритм и в свою художественную прозу: В.В. Набоков презрительно назвал такой способ письма «капустным гекзаметром», имея в виду и театральные капустники с их рифмованными шутками, и пирог с капустою: проза начинает выглядеть как будто набитой ритмами. Но эксперимент Андрея Белого был очень важен для развития искусства вообще и русской прозы в частности: он совпал с развитием экспрессионистской прозы в Европе и дополнял экспрессионистическую обрывочность, «монтаж» и грубость некоторой почти напевностью размышлений. Продолжателями традиции ритмической прозы Андрея Белого, которую он сам возводил к Гоголю, стали многие последующие прозаики: от Б. Пильняка и Вс. Иванова до современных нам авторов (так, например, написан недавно вышедший роман А. Николаенко «Убить Бобрыкина»). Монтаж (ему посвящено прекрасное исследование Ильи Кукулина «Машины зашумевшего времени») и ритмическая «орнаментальная» проза – два основных принципа высокой русской литературы XX века.
Но, как дальше пишет М.Л. Гаспаров, Андрей Белый расширял понимание ритма, пытаясь увидеть в нем инструмент воздействия на реальность. В книге «Ритм как диалектика» (1929) Андрей Белый рассмотрел «Медного Всадника» Пушкина как революционную поэму: сбои и искажения ритма не просто имитируют разыгравшуюся по сюжету бурю, но предвещают бурю социальную. Стиховеды скептически отнеслись к этим данным: ведь исследовать такое отклонение ритма от метрического стандарта можно только на фоне предыдущих строк, а как быть с тем, что Пушкин менял строки, добавлял и убирал целые части, редактировал себя – неужели он вредил смыслу собственного ритма? Но для Андрея Белого важна была не творческая история поэмы, а «диалектика» в смысле постоянных напряженных противоречий между разными формами одного и того же высказывания, а произведение искусства выступало для него как попытка снять эти противоречия.
Теория искусства Андрея Белого основана прежде всего на учении Ницше о музыке как первооснове любой драматической завязки. Музыка – не столько композиция, сколько некоторое настроение, мелодичность и гармоничность, которые позволяют в любом искусстве переучредить границы между формой и содержанием. Задача искусства, если говорить одним словом, это расширение понимания формы: форма должна включить в себя не только средства выразительности, но и темы, мотивы, даже предмет разговора. Например, когда мы смотрим на пейзаж, он тогда становится настоящим искусством, когда его краски не просто раскрывают для нас жизнь природы, но и показывают, сколь спокойным должно быть размышление о природе. В этом Андрей Белый расходился как с Брюсовым, который настаивал на самодостаточности формы, так и с Вяч. Ивановым, для которого форма – это вызов смыслу, а не ответ.
Символ для Андрея Белого – особый способ понимать мир, и здесь он тоже расходился и со старшими, и с младшими символистами. Брюсов сближал символы с научными обобщениями, формулами, считая, что символизм так же обеспечит прогресс в искусстве, как формулы и схемы дают прогресс в науке. Вячеслав Иванов видел в символах обращение безличного к личному, тот язык, на котором с человеком как уникальной и неповторимой личностью могут заговорить отвлеченные и общие понятия. Символы Андрея Белого как раз, наоборот, глубоко личные: это не формулы, не схемы, не средства общения или обращения – но главнейшие события жизни.
Даже если символом выступает точка или линия, или дерево или гора, это не расхожие вещи, а те вещи, из которых развернулся глубоко личный опыт, захвативший смотрящего прямо здесь и сейчас. Точка от этого не становится уникальной, но уникальным оказывается ее усилие по собственной символизации. Именно таким очень персональным и «интимным» подходом к символам объясняется интерес Андрея Белого к достижениям его собственного отца Н.В. Бугаева: писателю было важно, как математические объекты, одинаковые для любого места и времени, вдруг начинают определять функции, каждая из которых имеет свой «характер». О. Мандельштам в стихах памяти Андрея Белого назвал его «Собиратель пространства, экзамены сдавший птенец», тем самым указав, как работа с самыми общими законами пространства оказывается индивидуальным опытом, опытом московского гимназиста и студента.
Андрей Белый пытался найти какой-то универсальный инструмент, который превращает не-искусство в искусство. Так, в трактате «Глоссолалия» (1922, название означает спонтанное говорение на различных языках) он попытался вывести из акта произнесения звука танец, а из танца – все многообразие человеческой цивилизации. В большинстве ранних работ таким инструментом была широко понятая мелодия, в которой Андрей Белый подчеркивал не только плавность и изменчивость, но и напор – он хотел проследить, как мелодия, подражая природе, при этом превосходит природу. В поздних работах Андрей Белый говорит о «диалектике» как о принципе работы сознания, позволяющем вычленять из потока жизни смыслы и применять их в экспериментальном искусстве. Но общим для всех теорий Андрея Белого было представление о независимости этого инструмента: он возникает спонтанно, почти как жизнь природы, но он и оказывается наиболее желанным для нашего сознания.
Наследие Андрея Белого было значимо для последующих поколений ученых. Русские формалисты много спорили с Андреем Белым, но не могли обойтись без его представлений о стихах как о сложно организованной форме, не сводящейся только к членениям и перекличкам, но включающей в себя необычные деформации под действием риторических фигур. М.М. Бахтин вдохновлялся размышлениями Андрея Белого об эстетической форме, о том, что жанр или стиль становится предметом не только поэтики, но и эстетики; имеет жизненное, а не только внутрилитературное значение. Ю.М. Лотман ценил мысль Андрея Белого о том, что наше восприятие стихов всегда активно в смысловом отношении: мы не только пассивно принимаем впечатления, но и членим поэтические образы, исходя из наших ожиданий и интуиций смысла. Завершу вступление воспоминанием Ф.Е. Степуна о встрече с Андреем Белым в Берлине в 1922 г., в период недолгой эмиграции писателя; Андрей Белый тогда болел. «Но в том-то и дело, что Белый был Белым, т. е. человеком, для которого ненормальная температура была лишь внешним выражением внутренней нормы его бытия. И потому, несмотря на всю сирость, расстроенность, бедностность и болезненность в последний раз виденного мною Белого, мое последнее свидание с ним осталось в памяти верным итогом всех моих прежних встреч с этим единственным человеком, которым нельзя было не интересоваться, которым трудно было не восхищаться, которого так естественно было всегда жалеть, временами любить, но с которым никогда нельзя было попросту быть, потому что в самом существенном для нас, людей, смысле его, быть может, и не было с нами».
Посвящаю книгу светлой памяти Маргариты Ивановны Лекомцевой (Бурлаковой) (10.12.1935—29.01.2018), великого исследователя энергии слова.
Александр Марков,
профессор РГГУ и ВлГУ,
в. н.с. МГУ имени М.В. Ломоносова 29–30 января 2018 г.