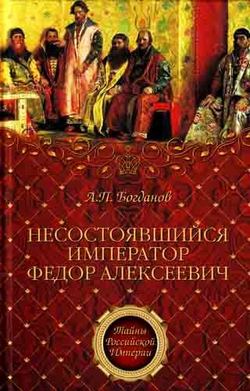Читать книгу Несостоявшийся император Федор Алексеевич - Андрей Богданов, А. П. Богданов - Страница 3
Глава 1
Катастрофа во дворце
Отец
ОглавлениеВ январе того года все шло при Московском дворе как обычно. Алексей Михайлович давал прием посольству попавших в трудное положение, осажденных врагами Нидерландов, обещал помощь. На следующий день он с царицей и вельможами слушал приехавшего с посольской свитой музыканта-виртуоза, а назавтра занемог [3]. Царь содержал большую Аптеку – целое ведомство, наполненное чиновниками и выписанными из-за границы лучшими дипломированными врачами, фармацевтами в звании не ниже доктора наук и множеством лекарей рангом пониже [4]. Царь с удовольствием беседовал с обладателями докторских дипломов знаменитых университетов о тайнах астрологии и ятроматематики (врачебной астроматематики), о лечебных свойствах растений, минералов и естественных препаратов, даже о европейской политике [5]. Но с годами все более упорно отказывался пользоваться их врачебными услугами.
Доктора не могли заставить царственного пациента принимать приготовленные по последнему слову науки лекарства. Простая простуда вскоре уложила Алексея Михайловича в постель. Страдая от лихорадки, государь требовал ледяного кваса – такого, чтобы льдинки звенели о края целебного бокала из кости инрога (бивня нарвала). На живот себе он приказывал класть толченый лед. Через неделю положение больного стало безнадежным. 29 января Алексей Михайлович исповедался и принял причастие из рук святейшего Иоакима патриарха Московского и всея Руси [6].
Это был знак, который как сигнал боевой тревоги поднял на ноги тысячи чиновников самого большого в Европе Двора [7]. Затаенное ожидание сменилось лихорадочно поспешными действиями, восстановить которые в памяти во всей полноте не могли потом и главные участники. В ночь на 30-е толпы придворных строго по чину заполняли дворы и переходы, крыльца и сени, лестницы и палаты. Все взоры были обращены к Верху – обширной и сложной по форме площадке над тяжелыми нижними этажами Дворца, где среди висячих садов и цветников высились яркие, как игрушки, царские терема. Только бояре и избранные ближние люди (см. Приложение), заранее одетые в скромных цветов платье без обычных нашивных украшений, минуя все фигурные решетки и «переграды», поднимались по Золотой лестнице к покоям, где умирал объединитель Великой, Малой и Белой России, раздвинувший границы державы от Минска и Киева до Амура и Камчатки.
В четвертом часу ночи (по-нашему – около восьми вечера 29 января, для предков зимой – это была уже глубокая ночь на 30-е) с Верху объявили, что угасла свеча страны русской, померк свет православия, прияв нашествие облака смертного, оставя царство временное отошел в жизнь вечную государь царь и великий князь Алексей Михайлович всея Великия и Малыя и Белыя России самодержец. Ударил в первый раз Большой колокол – и продолжал затем мерный набат до самого погребения русского царя.
А по Золотой лестнице уже спускалась к сеням Грановитой палаты скорбная процессия бояр, окольничих и ближних людей, ведя под руки, чуть не неся юного наследника престола. Царевич Федор Алексеевич тоже болел и лежал в своих палатах, да мачеха и не пускала ни его, ни теток и сестер к постели умирающего, верно, надеясь вымолить трон для своего маленького сына Петра. Ввалившись к нему всем скопом, бояре поволокли Федора по лестнице в одной рубахе. Тело отца еще не успело остыть, как Федор Алексеевич был усажен на спешно принесенный из казны парадный трон и обряжен в царское облачение. Широкое одеяние отца окутало юношу, подобно савану, руки больного с трудом удерживали тяжелые скипетр и державу. Но рынды в белом платье со скрещенными золотыми цепями на груди и секирами в руках уже стояли подле трона, а виднейшие люди государства один за другим приносили присягу и целовали крест новому царю.
Всю ночь присягали в Грановитой палате бояре и окольничие, думные дворяне и думные дьяки, стольники и стряпчие, дворяне московские и жильцы. Даже выборные дворяне из городов, несшие службу в Москве, стремились поцеловать крест непременно перед лицом нового государя. Лишь с рассветом 15-летнему царю позволили подняться в Верх, чтобы проститься с телом отца. Патриарх с освященным собором архиереев и архимандритов важнейших монастырей со священниками кремлевских храмов заняли места перед Дворцом, чтобы принимать присягу у стекавшихся со всех концов столицы дворян, стрелецких, солдатских, рейтарских и драгунских офицеров, дворцовых служителей и служилых иноземцев.
Одновременно целование креста происходило в приказах, ведавших разными территориями и различными категориями подданных (см. Приложение). Не только молодшие, но середние и старшие подьячие, инде даже дьяки скрипели перьями, спеша размножить текст присяги новому государю. За ворота Кремля, отбив копытами дробь по мостам, то и дело вылетали гонцы, разносившие крестоцеловальные грамоты в полки московского гарнизона, на Пушечный двор и другие государственные предприятия, в крупнейшие, а затем и во все приходские храмы столицы, к которым еще с ночи сходились православные. Пасторы и муллы тем временем принимали по своим обрядам присягу служилых иноверцев.
Около десяти часов утра (по нашему времени) процессия иерархов и священнослужителей двинулась от Патриаршего двора к царскому Дворцу, где все было уже готово к похоронам раба Божия Алексея Михайловича. День был морозный и ясный. Мерные удары Большого колокола все плыли в голубом небе над огромной толпой народа, собравшегося проводить своего государя в последний путь. Цветные кафтаны и блестящие стальные каски стрельцов расчертили на Соборной площади дорожки, выстланные посредине черным сукном.
В одиннадцать часов траурная процессия медленно потекла по лестничным пролетам и украшенным золотыми львами площадкам Красного крыльца. Перед ней двигалась в воздухе завеса или сень из драгоценной материи, затканная золотыми и серебряными цветами, щедро усыпанная жемчугом и бриллиантами. Триста или четыреста священников в великолепном облачении шли со свечами. Специальные чиновники пучками разбрасывали в народ бесчисленное множество свечей, огоньки которых слегка колебались в тихом воздухе над коленопреклоненной толпой.
Золотые хоругви известили зрителей о приближении патриарха. Перед ним несли великие сокровища Российского царства: чудотворный образ пречистой Богородицы Владимирской и святой животворящий крест Господень с животворящим древом Христовым и частицами мощей великих чудотворцев. Патриарх Иоаким шел, поддерживаемый под руки двумя боярами, во главе освященного собора, сверкавшего сказочным убранством облачений. Следом на плечах одетых в траур вельмож плыла крытая парчою крышка гроба. Сама несомая на носилках домовина была почти не видна под грудами роскошных материй, за лесом высоких белых свечей и клубами воскуряемых кругом благовоний. Крупные слезы катились по щекам и бородам старых друзей и соратников Алексея Михайловича, бояр и воевод, несущих гроб. Впрочем, рыдала и горестно вопила уже вся площадь, весь Кремль и не вместившиеся в него толпы окрест.
Страдавший в эти дни от болезни ног молодой царь Федор Алексеевич, весь в черном, с обнаженной головой, двигался вслед гробу на черных носилках [8]. Его сопровождала небольшая свита бояр, окольничих и ближних людей, надевших «смирное платье» в знак скорби. За новоиспеченным царем шла молодая вдова, царица Наталия Кирилловна, окруженная старыми боярынями своей свиты. Только ей, единственной из многочисленных женщин царской семьи, позволено было сопровождать тело Алексея Михайловича к месту его последнего упокоения в Архангельском соборе [9].
Лишь после того как процессия вошла в собор и гроб был установлен в каменной усыпальнице (из которой он будет извлечен для предания земле через шесть недель, когда окончится траур), после первой поминальной службы толпа стала расходиться из Кремля. Но суета и озабоченность при дворе не ослабевали. То и дело с Постельного крыльца выкликались царедворцы, с Конюшенного двора выводили лихих коней. Получив крестоцеловальные грамоты и казенные подорожные, дворяне отправлялись в далекий путь, чтобы привести к присяге население всех земель обширной державы.
Каждый уездный город, каждый воевода должен был получить крестоцеловальную грамоту, будь то на Дону или на Тереке, в Сибири или на берегах Ледовитого океана [10]. На месте грамота незамедлительно переписывалась в необходимом числе экземпляров и рассылалась во все приходские церкви, всем полковым священникам, в самые отдаленные поселения и отряды землепроходцев. Московские гонцы спешили. Они лично должны были привести к присяге местное военное и гражданское начальство. Князь Тимофей Афанасьевич Козловский, к примеру, одолел две с половиной тысячи верст до Тобольска за 22 дня [11].
Пока знатные гонцы летели по стране, меняя коней на ямских дворах, в Москве тщательно следили, чтобы никто не уклонился от присяги новому государю. Первым своим распоряжением Федор Алексеевич «указал: которые стольники, и стряпчие, и дворяне московские, и жильцы станут ему, великому государю, бить челом, что они больны и из-за болезни у крестного целования быть не могут, – и тех, осматривая в домах их, приводить к присяге разрядным дьякам у приходских церквей по месту жительства» [12].
И этот указ, и нервозная поспешность присяги новому царю, и недостойная скоропалительность прощания с почившим государем были не случайны. Наученные опытом Смутного времени, россияне как огня боялись замешательства, которое мог вызвать в умах незанятый трон. Недаром Алексей Михайлович постарался утвердить на своей голове унаследованную от отца корону решением Земского собора [13]. Недаром и Федора Алексеевича он еще в 1673 г. представил подданным в церкви Спаса Нерукотворного как своего законного наследника [14]. Романовы опасались выпустить из рук скипетр власти. В 1676 г. дело осложнялось тем, что раскол противоборствующих «в верхах» партий проходил через царскую семью.
3
События отражены в посольской книге – сводном документе о переговорах, составленном в Посольском приказе: РГАДА. Ф. 50. Сношения с Голландией. Оп. 1. Кн. 9. Опубл.: Ловягин А.М. Посольство Кунраада фан-Кленка к царям Алексею Михайловичу и Федору Алексеевичу. – СПб., 1900. Здесь же опубл. текст и перевод сочинения участника посольства, дворянина Балтазара Койэта: «Исторический рассказ, или описание путешествия господина Кунраада фан Кленка, чрезвычайного посла великомощных Штатов и его величества господина принца Оранского, к великому государю царю и великому князю Московскому» (вторая пагинация, с. 1–592). Отрывки из этого сочинения, ярко воссоздающего обстановку в Москве в последние дни правления Алексея и в начале царствования Федора, изданы тем же А.М. Ловягиным: Москва при смерти тишайшего государя // Русская старина. 1893. Т. 80. № 12. С. 528–538; Голландец Кленк в Московии // Исторический вестник. 1894. Т. 57. № 9. С. 760–791.
4
Материалы Аптекарского приказа, вплоть до выписанных врачами рецептов, хранятся в 143-м фонде РГАДА (с небольшим включением в ф. 396). Значительная их часть (но далеко не все) опубл.: Материалы для истории медицины в России. – СПб., 1881–1885. Вып. I–IV; Новомбергский Н.Я. Материалы по истории медицины в России. – СПб., 1905–1906. Т. I–II. См. также приложения к фундаментальным исследованиям, использованным здесь и далее для характеристики медицинских вопросов: Рихтер В. История медицины в России. – М., 1814–1820. Ч. 1–3 (первое нем. изд. – М., 1813–1817. Т. 1–3; фототип. воспр. – Leipzig, 1965); Змеев Л.Ф. Чтения по врачебной истории России. – СПб., 1896; Новомбергский Н.Я. Черты врачебной практики в Московской Руси. – СПб., 1904; он же. Врачебное строение в допетровской Руси. – Томск, 1907; Лахтин М.Ю. Медицина и врачи в Московском государстве. – М., 1906.
5
См.: Богданов А.П., Симонов Р.А. Прогностические письма доктора Андреаса Энгельгардта царю Алексею Михайловичу // Естественнонаучные представления Древней Руси. – М., 1988. С. 151–204; Богданов А.П. О рассуждении Самуила Коллинса // Там же. С. 204–208.
6
Записал связанный с врачами Аптеки Балтазар Койэт. См.: Ловягин А.М. Голландец Кленк в Московии. С. 781–782; и др.
7
О событиях в Кремле с момента смерти Алексея Михайловича см. официальные записи: Дворцовые разряды (далее – ДР). Т. III. – СПб., 1852. Стлб. 1636 и сл.
8
«А за телом несли сына его государева, великого государя царя и великого князя Феодора Алексеевича… в креслах стольники комнатные. А платье на нем, великом государе, было смирное, и кресло обито сукном черным». ДР. Т. III. Стлб. 1642–1643.
9
Все эти детали см.: Ловягин А.М. Голландец Кленк в Московии. С. 781 и сл.
10
См., например, Грамоту о воцарении Федора Алексеевича и приведении всяких чинов людей к присяге новому государю и его семье от 30 января 1676 г., посланную стольнику князю Хованскому, проводившему в момент смерти Алексея и воцарения Федора смотр и верстание (запись в чины) служилых людей Владимирского разряда: городовых дворян и детей боярских Центральной России: Полное собрание законов Российской империи с 1649 г. Серия I (далее – ПСЗ-I). – СПб., 1830. Т. II. № 619. С. 1–3.
11
Так сообщает В.Н. Берх (Берх В.Н. Царствование Федора Алексеевича и история первого стрелецкого бунта. – СПб., 1834. Ч. I–II.), опираясь на пометы в экземпляре грамоты Тимофея Афанасьевича Козловского. Согласно Сибирскому летописному своду, князь действительно прибыл в Тобольск 28 (по сокращенным редакциям свода – 29) февраля 1676 г. с крестоцеловальной грамотой, написанной в Москве после 3 февраля: под этим числом известна грамота на Дон, куда обычно писали раньше, чем в Сибирь (ПСЗ-I. Т. II. № 622), – но до 10 февраля, когдя дядя Тимофея, стольник Иван Петрович Козловский, получил крестоцеловальную грамоту в Туринск, куда писали позже (там же. № 624). Дядя объявился в Тобольске 3 марта, потратив на дорогу также около 22 дней, осчастливил племянника царским указом приводить к кресту Томск, Сургут, Нарым, Кетск, Енисейск, Красноярск и Кузнецк, а сам 12 марта выехал на Тюмень, Туринск, Пелым и Верхотурье (Полное собрание русских летописей. Т. 36. – М., 1987. Сибирские летописи. Ч. 1. С. 167–168 и др.).
12
Именной указ от 31 января 1676 г. см.: ПСЗ-I. Т.II. № 620.
13
Широта сословного представительства на этом мероприятии под вопросом (Смирнов П.П. Посадские люди и их классовая борьба до середины XVII в. – М., 1948. Т. 2. С. 10–11). Но стремление Алексея Михайловича утвердить свою власть соборным избранием сомнений не вызывает (Беляев И.Д. Земские соборы на Руси. Изд. 2. – М., 1902. С. 54; Латкин В.Н. Земские соборы древней Руси, их история и организация сравнительно с западноевропейскими представительными учреждениями. – СПб., 1885. С. 208; Черепнин Л.В. Земские соборы Русского государства в XVI–XVII вв. – М., 1978. С. 272–274; и др.). Более широко политическая ситуация представлена: Кошелева О.Е. Лето 1645 года: смена лиц на русском престоле // Казус: индивидуальное и уникальное в истории. Альманах. – М., 1997. С. 148–170.
14
См. Чин объявления царем Алексеем Михайловичем своего наследника царевича Федора Алексеевича 1 сентября 1674 г. и Образец окружной грамоты об объявлении царевича Федора Алексеевича и пожалованиях по сему случаю 5 сентября 1674 г.: Собрание государственных грамот и договоров Российской империи (далее – СГГиД). – М., 1826. Т. 4. № 97, 98. С. 316–322.