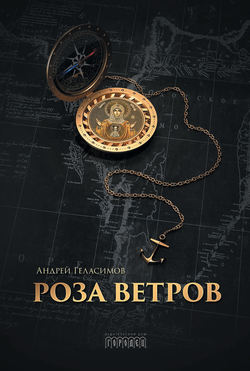Читать книгу Роза ветров - Андрей Геласимов - Страница 4
Часть первая
4 глава
ОглавлениеТем временем в Петербурге кое-кто уже просто изнывал в ожидании средиземноморского отряда. Кораблям оставалось пройти небольшое расстояние до Англии, затем – до Кронштадта, но материнское сердце императрицы Александры Федоровны[23] было не на месте. Дурные сны тревожили ее почти каждую ночь, раздражение днем зачастую находило себе выход в некрасивых сценах с участием близких, и только в присутствии мужа она внутренне собиралась и могла не думать о сыне. Маленького Константина по воле отца увозили от нее в море вот уже более десяти лет, однако ни один предыдущий поход, она чувствовала это, не был таким опасным, как нынешний. Что-то нависло над ее сыном, назрело, и Александра Федоровна просыпалась по ночам от жутких кошмаров. Скрыть свою панику от окружающих, а самое главное – от мужа, представлялось ей совершенно необходимым, поэтому она выдумывала себе одно занятие за другим.
Где-то в конце апреля императрице пришла в голову затея со Смольным. Образ невесты, из-за которой устроили для ее сына этот непривычно долгий средиземноморский поход, вызывал у нее приступы если не злобы, то явного неудовольствия, и чтобы преодолеть нарождавшееся в ней неприятное и тяжелое чувство по отношению к девушкам вообще, она, в полном соответствии со своей прямолинейной прусской природой, отправилась туда, где их было особенно много. В беседе с начальницей Смольного института государыня предложила устроить торжественный прием для своего сына и офицеров идущей домой эскадры совместно с кадетами и гардемаринами Морского корпуса. Идея начальнице крайне понравилась, и Александра Федоровна отбыла из института в значительно более приподнятом состоянии духа, нежели то, в каком она туда прибыла.
Тревога за сына, темной птицей угнездившаяся в ее сердце, нашла себе выход в странной и неожиданной форме. Супруга российского императора обрела вдруг вновь свою детскую дурную привычку, от которой смогла отучиться лишь в возрасте двенадцати лет. Тогда, на похоронах ее матушки, безвременно угасшей от унижения, горя и нищеты королевы Луизы[24], она в самых горьких за свою коротенькую жизнь слезах пообещала отцу, что никогда, ни за что на свете не станет больше теребить мочку уха, поскольку бедную матушку это без меры огорчало. Отец лишь потерянно кивнул тогда в Берлинском соборе. Он знал, что привычка у дочери возникла от страха во время бегства из Кенигсберга зимой 1806 года, и упрекать ее, разумеется, никогда бы в этом не стал. Преследуемая войсками Наполеона королева со всеми детьми бросилась в ту ночь на Куршскую косу, куда в зимнее время ни один здравомыслящий человек не заезжал, и каким образом они все там выжили, одному только Богу было понятно. Рыдая в соборе так сильно, что все ее хрупкое тельце сотрясалось от безутешной макушки до охваченных горем крошечных пят, будущая императрица российская лепетала, что не хочет больше огорчать матушку, пусть даже та теперь умерла и никогда не увидит, но все равно, все равно…
Александру Федоровну, которая по дороге из Смольного не заметила, как в задумчивости прихватила пальцами правую мочку, расстроил, конечно, этот факт, однако еще сильнее она расстроилась при мысли о том, что бессознательность жеста мистическим образом связала ее рано ушедшую мать с плывущим где-то по морю Константином, ведь думала она теперь только о нем, и значит, мальчику точно угрожает опасность. Чтобы избежать невольного повторения жеста, императрица, на несколько мгновений ставшая совсем не Александрой Федоровной, а маленькой и грустной Шарлоттой из разоренной французами Пруссии, надела свои кружевные перчатки и для верности даже стиснула обеими руками сетчатый ретикюль[25]. За окном кареты уже мелькали окна Зимнего дворца. С целью избавления от дурных предчувствий она постаралась сосредоточиться на предстоящем приеме в Смольном.
– Да, конечно, устраивай, на здоровье, – по-русски ответил ей муж, не очень любивший, когда она о чем-то спрашивала его по-немецки, но на этот раз чутко уловивший неистребимое желание супруги заговорить именно на родном языке.
– Правда? – обрадовалась она.
– Да сколько угодно. Только мне позволь не участвовать.
– О! Милый Никс! Мы отлично справимся без тебя.
– Нисколько не сомневаюсь, птичка. Но и калача московского не бери. Он дуться станет на брата. Барышни к морякам очень неравнодушны.
«Московским калачом» Николай I прозвал своего старшего сына Александра[26], считавшегося в семье престолонаследником от момента рождения. У старших братьев Николая Павловича законных сыновей не имелось. Наследник российского трона родился в Москве и с легкой руки отца среди домашних был известен под этим смешным именем. Жену из-за ее хрупкого сложения, а также по причине особой нежности император именовал то «птичкой», то по-французски «белым цветком». Самого себя мог иногда назвать «дядей с длинным носом».
Повеселевшая Александра Федоровна упорхнула из кабинета мужа, оставив его за тем занятием, которое прервала и о котором в своих тревогах не удосужилась поинтересоваться. Супруг ее читал статью сочинителя Тютчева[27], обращенную к немецкому журналисту. Дождавшись, когда за женой закроется дверь, он продолжил чтение, однако ни проницательность автора, ни его несомненное политическое остроумие уже не в силах были полностью удержать внимание императора.
– Молодец… – бормотал он, пробегая глазами строки о том, что попытки защитить Россию от нападок западных клеветников точно так же бессмысленны и нелепы, как потуги уберечь от полуденного зноя при помощи раскрытого зонтика вершину горы Монблан. – Это совсем неплохо…
Однако мысли его после вторжения любимой Бланш Флер сами собой съезжали на другое. Николай Павлович думал о матери. Покойная Мария Федоровна[28] тоже любила бывать в Смольном. Возможно, поэтому она и предпочла окружить своими симпатиями его «птичку», а не супругу старшего брата Александра[29]. Неспроста же она, как говорили, уложила в сундук траурное платье для той невестки, отправившись ей навстречу в Калугу после смерти своего первого – и долгие годы, разумеется, главного – сына в Таганроге в 1825 году. Впрочем, насчет симпатий и антипатий матушки Николай Павлович особых иллюзий не питал с раннего детства. Граф Ламсдорф, назначенный ему в воспитатели, мог запросто треснуть его за непослушание головой о стену, и происходило это с полного ведома и одобрения заботливой родительницы. Мария Федоровна регулярно читала отчеты графа о подобных методах воспитания, после чего ненавистный Ламсдорф неоднократно поощрялся ею за особое рвение в педагогике.
И все же Николай Павлович допускал, что это была любовь. Иначе отблеск чего он уловил в их последнюю встречу? Вернувшись тогда из действующей армии, которая после двухмесячной осады взяла наконец турецкую крепость Варна, он застал мать на самом пороге смерти. О дурном ее состоянии он получил известия в Одессе, откуда до этого не собирался возвращаться домой, но тут сразу же помчался в Петербург. Родных застал в маленькой часовне Зимнего дворца. Все собрались там к обедне по случаю дня рождения государыни-матери. Услышав его голос в передней, они выбежали навстречу, а затем уже все вместе опустились на колени вокруг кресла разбитой болезнью Марии Федоровны. Умирающая императрица потянула нежданно прибывшего сына за руку, и тот поднялся с пола. Николай ожидал какого-нибудь вопроса, поэтому склонился поближе к ней, но она молча продолжала тянуть его к себе, пока он не уступил и не отдался целиком во власть ее безмолвной материнской воли. Через мгновение он сидел у нее на коленях, обхватив себя за плечи, стараясь быть невесомым, а она все гладила и гладила его по пыльному рукаву, поскольку до головы дотянуться сил у нее уже не оставалось.
Мария Федоровна умерла через десять дней после возвращения сына из армии. Николай Павлович в свои тридцать два года снова ощутил себя маленьким и вспомнил все свои горькие чувства, которые охватывали его всякий раз, когда матушка велела графу Ламсдорфу увести его прочь. Правда, дверь у него за спиной закрылась теперь навсегда. На похоронах он старался убедить себя, будто уехал в действующие войска исключительно по той лишь причине, что после восстания на Сенатской площади[30] прошло всего три года, и ему непременно требовалось завоевать доверие своих офицеров и своих солдат. Отчасти это ему удалось, и угрызения совести были приглушены сознанием собственного значения для армии, народа и государства.
Николай Павлович поднялся из-за стола, подошел к огромному сводчатому окну и долго смотрел на Адмиралтейство. Вид этого здания успокаивал его, придавая уверенности в своих силах, решениях и поступках. Дождавшись, когда незваное чувство вины оставит его, он сделал несколько шагов по кабинету, а затем склонился над большим столом, стоявшим перпендикулярно тому, за которым он работал. На зеленом сукне была развернута карта Российской империи. Взгляд государя скользнул по ней вправо и остановился на восточных рубежах. Николай Павлович взял со стола карандаш, обвел им Сахалин и часть прилегавшего к нему на севере материка, после чего поставил в этом овале три вопросительных знака.
В Смольном после отъезда императрицы приключился форменный переполох. Начальница института вызвала к себе милейшую Анну Дмитриевну. Милейшая Анна Дмитриевна вызвала младших инспектрис. Младшие инспектрисы вызвали классных дам. И только одни классные дамы не вызвали никого, потому что воспитанниц решено было оставить пока в неведении.
Милейшая Анна Дмитриевна предложила некоторое время держать в секрете грядущий прием, поскольку воспитанниц, особенно если надлежащим образом их не подготовить, подобная новость могла «смутить». Произнося это слово, она с большим значением посмотрела на занимавшую вот уже почти семь лет пост начальницы института Марию Павловну, и та сразу с ней согласилась. Эти семь лет давали Марии Павловне то преимущество, посредством которого она могла избежать неприятных ошибок, неминуемых при меньшем опыте руководства одним из самых необычных учебных заведений Российской империи. Девочек обучали по большей части либо дома, либо нигде, поэтому, собрав их в таком количестве в одном месте, любой состав педагогов рисковал однажды столкнуться с тем же примерно явлением, какое повергает в трепет жителей приморского селения, застигнутого врасплох гигантской волной. По отдельности каждая из маленьких волн – это лишь радость для глаз и еще один повод восхититься совершенством вселенной. Однако стоит им по известной одному океану причине совпасть в своем ритме, обратившись в единое беспощадное целое, – и участь несчастных на берегу останется лишь оплакать. За семь лет своего напряженного труда Мария Павловна выучилась уважению к этой дремлющей до поры до времени могучей девичьей силе и знала, что волна должна просто идти за волной.
Сейчас важно было не встревожить воспитанниц, потому что в Смольном за долгие годы сложился близкий к религиозному культ семейства Романовых. Все, что касалось великих князей, княжон и даже отпрысков от морганатических союзов[31], обретало в стенах института черты божественной избранности, осенявшей воспитанниц волнующим и до головокружения сладостным чувством если не принадлежности, то уж во всяком случае той близости к венценосцам, на которую не могла рассчитывать ни одна обыкновенная девушка извне. Когда же речь, как теперь, шла о самых близких членах семьи императора, от воспитанниц можно было ожидать каких угодно эксцессов. Прежде доходило даже до воровства с тарелок и порчи верхней одежды. Трофеи потом засушивались до состояния мощей либо пришивались к изнанке собственного платья и в любой момент были наготове, чтобы насмерть сразить всех жалких и никчемных особ, подобным сокровищем не обладавших. Прежняя начальница института передала Марии Павловне в свое время сведения о четырех как минимум попытках самоубийства среди воспитанниц, причиною коих была единственно упущенная возможность хоть что-то стащить с тарелки зазевавшегося сына, брата или дочери государя. Почившая восемнадцать лет назад матушка нынешнего, как, впрочем, и предыдущего самодержца российского, знала об этой страсти смолянок, а потому, собираясь в гости к своей лучшей (после княгини Ливен, разумеется) подруге Юлии Федоровне Адлерберг, которая была тогда начальницей Смольного, непременно одевалась в шубу самой на тот момент нелюбимой из своих фрейлин, после чего невинно улыбалась, когда возвращала истерзанную девицами вещь ее опечаленной хозяйке.
– Девочкам пока ничего не говорить, – твердо повторила милейшая Анна Дмитриевна, и все три сидящие перед нею за партами младшие инспектрисы кивнули в ответ как одна. – Господи, там ведь еще эти мальчики будут из Морского корпуса… А у них военная форма… Ума не приложу, как нам быть! Ну да ладно, известите пока классных дам. Я сама составлю список участниц.
«Милейшей» Анну Дмитриевну называли в институте все – от начальницы до самой последней пепиньерки[32]. Сложилось это не в силу душевных свойств, дарованных ей от природы, а по причине большого количества племянниц. Шесть из них ее стараниями содержались и обучались в Смольном на казенный счет, и потому буквально с каждым сотрудником института она была сердечна и мила до невозможности. Временами ей хотелось, конечно же, придушить иную из своих нерадивых коллег, но старшей племяннице Елене уже исполнилось двадцать, и, чтобы сделать ее не очень заметной среди тринадцатилетних девочек ее класса, Анне Дмитриевне приходилось использовать все имеющиеся в ее распоряжении прекрасные струны души.
Уже к вечеру того дня, когда императрица нанесла свой визит в Смольный, всем в институте стало понятно, что новость о грядущем приеме утаить от воспитанниц не удалось. Попытки уберечь их от волнений были изначально обречены на провал. Обостренное почти тюремным положением чутье этих девочек безошибочно подсказало им: государыня просто так не приедет. У такого события должна быть причина, при этом очень весомая, а значит, готовится что-то крупное. И в этом непременно примет участие императорская семья.
За обедом предположений было высказано так много, а еды по причине постного дня было так мало, что даже привычные к многолетнему недоеданию старшие девушки испытывали головокружение. День по расписанию был «французский», но уже к середине до невозможности скудной трапезы все наперебой говорили только по-русски. В самом начале спора они еще нервно передавали друг дружке большой и уродливый язык, вырезанный из картона для тех, кто осмеливается нарушать правило, однако после второй или третьей девушки, которая послушно повесила его себе на шею, они просто сжимали его в руке, а затем и вовсе затолкали куда-то под стол.
– Нас повезут во дворец, – бормотала, закатывая глаза, неестественно бледная княжна Долицына. – Вот увидите! Мне давеча папенька намекал.
Большинство остальных девушек тоже не сияли румянцем, но в их случае бледность была результатом натурального течения жизни, приключившейся с ними по воле их бессердечных родных. Они плохо ели, редко бывали на солнце, мало гуляли и много грустили, тогда как дочь князя Долицына и светлейшей княжны Суворовой грустила в основном только для виду. Питалась она отдельно от всех и весьма обильно, а лицо густо покрывала белилами, чтобы не выделяться среди однокашниц. Чувство меры, впрочем, всегда подводило ее, поэтому она выделялась в другую сторону – гробовщик, ненароком заглянувший на занятия в Смольный, наверняка счел бы ее своим скорым клиентом.
– Никуда нас не повезут, – отвечала ей княжна Утятина, и в голосе ее больше слышалось раздражение, чем несогласие.
Отец этой худой зеленоглазой девицы тоже был князем, но не генерал-майором, как у Долицыной, а только прапорщиком. Однако этот привычный для нее жизненный перекос на чужую сторону сейчас полностью затмевался тем, что увлеченная общим порывом Долицына явилась обедать со всеми. По мнению охваченной ревностью княжны Утятиной, это было нечестно. Порыв принадлежал тем, кто жил общей жизнью, а раз уж кто-то питается отдельно, то пусть и не вмешивается, и так ведь все знают, кто в этом выпуске окончит с екатерининским шифром[33]. Материального выражения все эти чувства, разумеется, не находили ни в словах, ни в поступках, но молчаливо при этом сильно имелись в виду. То есть, если княжна Утятина и называла княжну Долицыну «бессовестной душечкой» или того хуже – «душечкою поганой», то происходило это исключительно в глубине ее маленького сердца, расстроенного общей несправедливостью жизни, а также наличием обязательных постных дней в Смольном по средам и пятницам – даже когда у всех остальных православных никакого поста нет.
Почти все девушки за столом так или иначе принимали участие в этом треволнении – одни множили версии грядущего, другие с головой бросались в омут конфликта двух княжон, становясь либо «утятинками», либо «долицынками», и только одна маленькая блондинка с правильными чертами лица и выразительными голубыми глазами сосредоточенно ковыряла вилкой кусок отварной рыбы, прозванной вечно голодными смолянками «мертвечиной». Временами, когда высказывалась какая-то уже совсем очевидная глупость, ей не удавалось удержать улыбку, однако взгляд ее при этом оставался таким же сосредоточенным, отчего и внешнее, и внутреннее существо в ней делилось ровно напополам. Эта девушка умела быть сразу двумя девушками – очень серьезною и той, что смеется.
– А почему Катя Ельчанинова все время молчит? – с вызовом вдруг сказала княжна Долицына, заметив ту самую улыбку после своего очередного и на сей раз уже совершенно бредового предположения.
– Я не молчу, – ответила блондинка. – Я слушаю.
– А это два разных дела?
– Да. – Катя с уверенностью кивнула. – Молчат, когда сказать нечего или когда мнением других не дорожат. А слушают, когда интересно.
– И что же вам интересно? – с подозрением нахмурила бровки княжна.
– Все, – пожала плечами Катя. – Мне, вообще, все в жизни интересно.
К своим пятнадцати нежным и отчасти печальным годам Екатерина Ивановна, как любил называть ее в детстве недавно умерший батюшка, знала о себе немного: туманным оставался для нее собственный характер, неясными – устремления, непонятно было, сильный она человек или слабый, красивый или же нет, и на что ей рассчитывать дальше. Все это пребывало пока в смутном и таинственном состоянии, но в одном своем качестве она уже теперь была уверена наверняка. Катя знала, что она другая.
То есть она, конечно, не сомневалась, что она такая же девочка, как и все остальные воспитанницы Смольного, и что ее ожидает примерно такая же судьба, однако в чем-то существенно важном она от них отличалась. Ее, к примеру, не замечали дурные люди. Классная дама, пришедшая к ним около года назад и в первые же дни определенная всеми воспитанницами как существо самое неприятное, была крайне удивлена, обнаружив Катю среди своих подопечных через несколько месяцев после своего появления в институте. Она буквально не видела ее более полугода. Смотрела на Катино лицо, на ее платье, на безукоризненный передник, и вместо всего этого видела пустой стул. То же самое происходило во время свиданий с родителями. Некоторые из них пытались даже пройти сквозь нее, считая, что перед ними ничего нет, и всякий раз после таких происшествий она узнавала об этих людях что-нибудь стыдное. По ночам девочки в дортуарах[34] испытывали иногда особенно острое одиночество и в такие моменты могли шепотом поведать о своих родителях такое, о чем при дневном свете у них бы вряд ли язык повернулся сказать.
Сознавая свою странность, Катя и в институтском быту не вела себя как остальные воспитанницы. Многолетние традиции Смольного совершенно не коснулись ее. У Екатерины Ивановны, к примеру, напрочь отсутствовал предмет обожания, который просто обязана была избрать себе каждая смолянка, переходившая в старший класс. Ни император, ни учителя, ни классные дамы не стали для нее «божеством», чьи инициалы она должна была повсюду вырезать ножиком или выкалывать булавкой. Она не проходила через ритуальные мучения, чтобы оказаться «достойной» своего предмета – не ела в знак любви к нему мыла, не пила уксус, не пробиралась по ночам в церковь и не молилась там за него, не чинила никому перья, не дарила бесконечных подарков, не шила тетрадки – словом, жила какой-то совершенно неправильной и непонятной здесь жизнью.
Все эти странности происходили с нею по причине абсолютно недетского и как будто скрытого от остальных понимания того, чем на самом деле являлись воспитанницы Смольного института. Почти каждая девочка, живущая тут, была не нужна своим родным. У одних, как у Кати, родители давно жили врозь. Других, как княжну Долицыну, поместили сюда от неловкости перед обществом, потому что мама ее была вовсе не княгиня, а тоже княжна. Третьих по смерти родителей просто-напросто некому было кормить, и только совсем небольшой отряд четвертых пребывал здесь в полной гармонии, поскольку происхождение их было столь невысоким, что сам статус «благородных девиц» уже являлся для них главной наградой в жизни. Приличное общество, производившее на свет этих девочек, рассматривало их по той или иной причине как побочный продукт, и ровно поэтому полагало, что, в отличие от их сверстниц более чистой породы, предназначенных для дальнейшего ее улучшения, этим вполне можно было дать образование. Оно, с одной стороны, служило подспорьем для них, чтобы выжить, а с другой – помогало понять и принять тот очевидный для просвещенного человека факт, что главные роли в обществе теперь не для них.
Иван Иванович Бецкой[35], стоявший у истоков Смольного, сам был внебрачным ребенком, и, если бы не принадлежность к мужескому полу, он с легкостью мог разделить безвестную судьбу большинства своих будущих протеже. Тем не менее жизнь его сложилась в итоге наилучшим для него образом, а суровый, почти казарменный быт воспитанниц института, возможно, и не был никоим образом связан с его личным желанием подвергнуть остальных незаконнорожденных, сирых и прочих беспомощных всем тем испытаниям, через которые в детстве пришлось пройти ему самому Неизвестно, практиковались ли в кадетском корпусе Копенгагена, куда отправил его отец, утренние обливания ледяной водой и какая температура поддерживалась в комнатах кадетов зимой, но в Смольном девочки спали под тонкими одеялами при температуре не выше шестнадцати градусов, а воду для каждодневного обливания доставляли им в огромных бочках прямиком из Невы. В зимние месяцы служители с этой целью не давали замерзнуть широкой проруби рядом с институтом, и по ночам в дортуары долетало иногда влажное чавканье их топоров.
Вполне возможно, что Иван Иванович действительно был ни при чем. Многолетнюю пытку холодом могла ввести Екатерина II[36], надоумившая Бецкого в 1764 году основать «воспитательное общество благородных девиц». Известно, как она жаловала императрицу Елизавету Петровну[37] за отнятого у нее тотчас же после родов сына и за душную ее заботу о нем. Государыня держала новорожденного Павла[38] в колыбельке, обитой изнутри мехом черно-бурой лисы, укрывать велела двумя одеялами, окна у него в комнате открывать не позволяла вообще. Екатерина заставала младенца мокрым от пота, вялым, плаксивым и красным. Малейший сквозняк приводил ко всем, какие только были возможны, простудам, и долгое время несчастная мать страдала от мысли, что сын ее – не жилец. Так она выучилась ненавидеть тепло, а девочкам в Смольном пришлось годами мириться с холодом.
Впрочем, на следующее утро после визита Александры Федоровны воспитанницы выстроились к обливанию без привычных жалоб, отнекиваний, отговорок и хмурых лиц. Все лица и личики, напротив, светились ожиданием чего-то удивительного и даже как будто волшебного, словно каждая из этих Золушек только что побеседовала со своей личной феей, и та уже рассказала про платье, про туфельки и про бал. Девочки в длинных ночных рубашках переступали босыми ногами по влажному кафелю, шушукались, по очереди подходили к бочке, зажмуривались, несильно вздрагивали и, получив на голову и плечи ковшик невской воды, спешили вернуться к подругам. Мало кто уходил переодеваться в сухое, поэтому очень скоро у выхода в коридор сделалась небольшая толпа из промокших и оживленно перешептывающихся наяд. Одни лишь «парфетки»[39], целиком посвятившие себя достижению совершенства и не имевшие, следовательно, никакой возможности нарушать заведенный порядок, уходили с прямыми от злости спинками прочь, хотя остаться им, конечно, хотелось до слез и даже, наверно, еще сильнее.
В числе причин подобного энтузиазма была и стоявшая в Петербурге вот уже несколько дней теплая погода, из-за которой вода в Неве успела прогреться до необычного в мае состояния, почему бочка посреди умывальной комнаты не пугала никого так, как всегда, но все же главным поводом к ажитации среди девочек явилось другое. За ночь незримые институтские боги, поселившиеся в Смольном со дня его основания и неустанно заботившиеся о воспитанницах, успели довести до сведения всех и каждой истинную причину визита императрицы. Физически это проявилось в том, что кто-то, скорей всего, проболтался, а кто-то подслушал, или одна из классных дам не удержалась и намекнула своим фавориткам – так или иначе к моменту утренних обливаний все уже знали о грядущем приеме в Смольном с участием воспитанников Морского корпуса и царской семьи. Девочки редко покидали институт, почти не видели посторонних, поэтому новость произвела тот примерно эффект, что бывает в казармах гвардии при объявлении войны, – все были в полном восторге.
Само возвращение средиземноморского отряда кораблей как непосредственный повод для надвигающегося великого события, воспитанниц если и волновало, то далеко не в той степени, что мысли о кадетах и гардемаринах, а главное— о «божествах». У многих девочек имелся свой предмет обожания в императорском доме, и теперь все они страшно беспокоились относительно собственного участия в приеме. Еще нужно было непременно обсудить, какое «божество» приедет, а какое нет, будет ли общий с гардемаринами танец, что приготовить «божествам» в подарок, – словом, разойтись они никак не могли. Выйти из умывальной комнаты и разделиться на свои отдельные жизни сейчас было для них равносильно святотатству – все равно что разрезать огромную и прекрасную картину великого художника на маленькие кусочки, а потом разнести эти фрагменты по своим классам и дортуарам, имея возможность любоваться крохотной частичкой того полотна, которое целиком созерцать они могли только все вместе.
Среди наяд в мокрых рубашках выделялась княжна Долицына. Рубашка ее была совершенно сухой, и она все никак не могла заставить себя шагнуть под ледяной ковш. То и дело она становилась в очередь к бочке, а затем, приблизившись к ней, со вздохом разочарования отходила прочь. В обычный день она бы вообще сюда не зашла, но сегодня принять участие в обливании было необходимо. В институте княжна слыла «отчаянной», то есть такой, которая не соблюдает всех правил – может быстро пройти по коридору или громко разговаривать в классе, однако в свете грядущего события этот статус, ничуть не беспокоивший ее раньше, мог сильно ей навредить. В ближайшие дни начальница института должна была утвердить список воспитанниц для участия в совместном приеме, и не попасть в заветный список означало погибнуть.
– Хотите, я вам свою рубашку отдам? – предложила ей Катя Ельчанинова, отходя от бочки и заметив очередной маневр княжны. – Я могу еще раз облиться, мне не трудно.
Долицына с подозрением уставилась ей в лицо, но не обнаружила на нем следов насмешки. Ельчанинова смотрела на нее ровным открытым взглядом и, судя по всему, действительно предлагала помощь. С мокрых волос ее по щекам и губам красиво сбегали крупные сверкавшие капли.
– Благодарю вас, не стоит, – поджала губы княжна. – Мне надо самой.
– Как хотите.
Екатерина Ивановна кивнула и направилась к выходу. Она хоть и не была «парфеткой», задерживаться в умывальной комнате тоже не стала. Ей ничуть не хотелось шушукаться с остальными насчет приема. Ночью она видела дурной сон про каких-то туземцев и людоедов, пытавшихся ее изловить, отчего до сих пор чувствовала себя скверно, однако даже не это являлось причиной невольной ее отчужденности. По смерти батюшки ее все чаще тревожили мысли о будущем. До выпуска из института оставалось чуть более двух лет, и многое указывало на то, что матушка по состоянию своего здоровья тоже вряд ли дождется этого события. Из родных у Кати были еще дядя и сестра, но их собственное положение в обществе не позволяло увидеть в них жизненной опоры. Катя явилась бы для них обузой, а значит, рассчитывать в дальнейшем ей приходилось на одну лишь себя. На фоне подобных мыслей экзальтация девочек в умывальной комнате выглядела в ее глазах если не глупостью, то уж во всяком случае ненужной и вычурной наивностью.
В свою очередь княжна Долицына, не бывавшая во всю свою жизнь даже одной секунды в состоянии наивности, уходить все же не спешила. Нынешней весной она дважды меняла свой статус «отчаянной» на положение «мовешки»[40], то есть такой особы, для которой моветон[41] – привычное дело, поэтому облиться сейчас ей надо было непременно. В марте она отличилась тем, что на общей молитве развязала банты на передниках у двух стоявших на коленях воспитанниц младшего класса и связала их между собой, что привело в результате к падению, хохоту, крикам, слезам и неразберихе. В апреле классная дама застала княжну за порчей институтской Библии. Все места в Священном Писании, где упоминалась седьмая заповедь, были в Смольном тщательно заклеены полосками плотной бумаги, но Долицыной так хотелось своими глазами прочесть слово «прелюбодеяние», что она при помощи украденной из столовой вилки взялась отколупывать эти отвердевшие за долгие годы «фиговые листочки». При этом она почему-то не ограничилась одним экземпляром. До того, как ее застали за актом непристойного вандализма, княжна успела расковырять восемь Библий. Очевидно, ей было важно донести слово Божье во всей его целостности до максимального числа воспитанниц.
Осенив себя крестным знамением и выдохнув, как будто собиралась шагнуть в прорубь, Долицына снова встала в конец очереди. Именно в этот момент за спиной у нее произошла самая безобразная за последние десять лет в институте сцена. Буквально в метре от княжны стояла одна из тех девочек, что упали не так давно на молитве из-за привязанных бантов. Глаза ее темнели двумя сгустками ненависти. Проходившая мимо этой девочки Катя, которая уже открыла дверь, чтобы выйти из умывальной комнаты, невольно задержала движение, поняв, что сейчас произойдет непоправимое.
Девочку с горевшими глазами, насколько помнила Ельчанинова, звали Даша. Она была дочерью известного поэта Тютчева и вместе со своей сестрой состояла в «сером» классе. Воспитанницы этой группы носили серые платья с белыми передниками и по старшинству следовали за выпускным «белым» классом. Возраст их в среднем был двенадцать-тринадцать лет. Все, что произошло в следующие несколько минут рядом с бочкой для обливания, в официальном отчете потом было уклончиво отнесено на счет вероятной эпилепсии. В частных же разговорах и классные дамы, и учителя, и сама начальница больше склонялись к мотиву ревности, возникшей между воспитанницами из-за участия в грядущем приеме. Однако ревность, если она имела место, была тут совершенно иного рода. Припадок у Даши Тютчевой, в результате которого она нанесла заметные телесные повреждения стоявшей рядом с ней Лене Денисьевой, а также и самой себе, действительно напоминал эпилептический, и потому сильно напугал всех девочек, но, пожалуй, в гораздо большей степени их напугала отчетливая направленность этого припадка. Даша так яростно, так прямо и с такой нескрываемой ненавистью атаковала Денисьеву, что сомнений быть не могло: она хотела нанести максимальные повреждения. От серьезных увечий жертву неожиданного нападения уберегла, пожалуй, только значительная разница в возрасте. Денисьевой недавно исполнилось двадцать лет, и это преимущество сыграло решающую роль в исходе их столкновения. Если бы девушки оказались ровесницами, Тютчева имела бы неоспоримое превосходство – и в силу своего первенства в атаке, и по причине схожего с безумием состояния.
Об истинной подоплеке этого происшествия во всем институте догадывались только двое – милейшая Анна Дмитриевна и Катя Ельчанинова. Правда, знали они разные части этой истории, но если бы им удалось объединить свои фрагменты, картина могла проступить почти целиком. Лена Денисьева была родной племянницей милейшей Анны Дмитриевны и обучалась в одном классе с маленькими девочками исключительно благодаря протекции тетки. Она, разумеется, не находила себе подруг среди окружавших ее детей, а потому невольно тянулась к воспитанницам выпускного класса, хотя даже те в среднем были на пять лет моложе ее. Тем не менее она по очереди предлагала каждой из них свою дружбу, и Катя оказалась тем самым человеческим существом, которое этих предложений наконец не отвергло. В порыве признательности Денисьева показала ей тетрадь со своими литературными опытами, где среди прочего Катя прочла следующее: «Если бы Вы знали мое подлинное к Вам отношение, Вы бы не приходили больше сюда… Вы бы прилетали как облако – парили бы над землей и влетали в Смольный сразу через окно дортуара во втором этаже». Из прочитанного Катя сделала вывод, что Денисьева влюблена и что чувства ее на обычное институтское «обожание» совсем не похожи.
Полюбив занятия музыкой, Екатерина Ивановна на каком-то своем еще детском уровне придумала для себя понимание счастья. Все окружавшие ее люди – от воспитанниц до классных дам – часто о нем говорили, уверенно предлагая самые различные варианты, но Катю в них всегда настораживала именно эта уверенность. Твердая формула счастья, облеченная в конкретные образы и желаемые материальные объекты, казалась ей неживым предметом, из которого ускользнула правда, и только музыка до известной степени совпадала с ее представлением о счастье. Неуловимость этого состояния, сама его мимолетность, вызывали в ней то же самое ощущение, какое возникает при легком сдвиге акцента с сильной доли такта на слабую. Катя чувствовала, что не только счастье, но и вся жизнь – ее секрет, ее сила и в то же время летучесть – кроются где-то там, в этом несовпадении ритмического акцента с метром. После прочтения навязанного ей чужого дневника она явственно ощутила тот самый сдвиг, то самое смещение, куда угодила счастливая и неспособная скрыть свое счастье Лена Денисьева.
Со своей стороны, милейшая Анна Дмитриевна, никогда не читавшая дневника великовозрастной племянницы, уловила приближение грозы по другим приметам. Проверяя журналы родительских посещений, она обратила внимание на участившиеся с некоторых пор визиты поэта Тютчева. По сравнению с остальными родителями он стал бывать в Смольном слишком часто. Первое время он появлялся в сопровождении своей новой жены, приходившейся мачехой его дочерям, но та была уже очень беременна и потому вскоре сочла более ненужным казаться заботливой матерью для двух сирот.
Разговоры старшей инспектрисы с классными дамами не выявили никаких проблем у дочерей коллежского советника Тютчева. Девочки ни на что не жаловались, не имели конфликтов, более того – они даже не всегда приходили вместе на свидания к зачастившему вдруг отцу. У милейшей Анны Дмитриевны сложилось впечатление, будто их тяготили эти его приходы, и в итоге они решили поделить их между собой, как наскучившие дежурства. Чтобы разобраться во всем самой, она стала присутствовать на каждом свидании с родителями. Ничего необычного, кроме самого факта постоянных визитов Тютчева, там не происходило. Со своими девочками он общался в рутинной манере. Не выглядел обеспокоенным, не расспрашивал об их положении. Он скорее даже скучал от необходимости говорить с ними и нисколько не удивлялся тому, что они приходят поодиночке.
Милейшая Анна Дмитриевна стала подозревать дурное, когда заметила реакцию Тютчева на появление Лены Денисьевой в комнате для свиданий. Она сама назначила старшую свою племянницу на эти дежурства, сделав их постоянными, чтобы все в институте видели, как она с нею строга. Та не была еще пепиньеркой, однако возложенные на нее обязанности исправляла с необходимым и должным тщанием. Все родители были ею довольны, а самым из них довольным выглядел всегда поэт Тютчев. При ее приближении он вставал, помогал сдвинуть стул или участливо придерживал дверь, торопливо пройдя иногда для этого лишний десяток метров и оставив будто не заметившую его ухода, давно молчавшую и смотревшую куда-то в окно дочь. Впрочем, больше всего милейшую Анну Дмитриевну обеспокоило даже не это. Она вдруг увидела, до какой степени изменилась дочка ее рано овдовевшего брата. Робкая прежде, боявшаяся из-за своего неподходящего возраста в институте буквально всех и вся, Лена Денисьева заметно преобразилась. Страхи оставили эту девушку, как оставляют они человека, понявшего, что смерть – это всего лишь старшая сестра сна, и если главная тревога ночью – боязнь не уснуть, то, значит, и в жизни основным опасением должна быть мысль, что ты никогда не умрешь, и само приближение к смерти тогда служит отрадой.
Помимо всего подмеченного и угаданного милейшей Анной Дмитриевной, эта некрасивая история содержала еще много такого, о чем ни старшая инспектриса, ни Катя Ельчанинова не знали и знать не могли. Внезапное нападение Даши Тютчевой на великовозрастную одноклассницу имело более глубокие корни и продиктовано было далеко не одними визитами в Смольный ее поэтически настроенного отца. Федор Тютчев являлся человеком поэтического склада в самом широком смысле – не ограниченном его профессиональными занятиями литератора. Жизнь клубилась вокруг него посильней и намного жарче, нежели в любой романтической поэме. Женщина, родившая ему трех девочек, две из которых отданы были теперь на воспитание в Смольный, потеряла для него интерес уже в самые первые годы их совместной жизни. Тютчева унесли куда-то в поднебесную высь бурные воды нового чувства, а его супруге не осталось более ничего, кроме попытки заколоться бутафорским ножом. Ударив себя несколько раз в грудь и в шею кинжалом от маскарадного костюма, она все же сумела пораниться до крови и тем самым, очевидно, пробудила к жизни по-настоящему темные силы. Когда Тютчев умчался вслед за новой вечной любовью в Турин, жена его собрала трех своих маленьких дочек, уселась вместе с ними на пароход, намереваясь порадовать мужа воссоединением всей семьи, но в итоге едва не сгорела заживо. Если бы не путешествующий на том же пароходе юный литератор Тургенев, она, скорее всего, погибла бы в страшном пожаре, который охватил судно недалеко от Любека. Тургенев помог спасти и детей. По приезде в Турин выяснилось, что денег у Тютчевых практически не осталось, в то время как новая и, разумеется, опять вечная любовь поэта располагала весьма значительным состоянием. Неясно: по причине ли этой внезапной нищеты, унижения, ревности, перенесенного на горящем корабле ужаса или просто потому, что так было удобно всем остальным, – но буквально через три месяца Элеонора Тютчева в жесточайших страданиях умерла, а ее безутешный супруг, поседевший, как говорили, за одну ночь у ее гроба, женился на богатой и красивой баронессе уже на следующий год. Девочек весьма скоро определили в Смольный, и на третьем году их обучения в классе у них появилась Лена Денисьева. Проникнутый поэзией до корней волос Тютчев неожиданно превратился в заботливого отца, и в конце концов его дочь бросилась в умывальной комнате на свою одноклассницу Двенадцатилетняя Даша Тютчева в силу малого возраста могла и не знать обо всех этих давних событиях, однако события эти своим неприятным чередом все же произошли, никуда не исчезли, но накопились, а затем обнаружились в ее жизни, стали каким-то образом ей ясны, и охватившая ее от этой ясности невыносимая тревога привела наконец к безобразной сцене во время обливания.
На следующий день после происшествия были названы имена девушек, участвующих в совместном приеме по поводу возвращения средиземноморской эскадры. Технически отряд из трех кораблей эскадрой назвать было нельзя, но для обитательниц института это являлось простительным допущением. Слово «эскадра» пленяло их гораздо сильнее, чем какой-то глупый и незначительный «отряд», в котором не слышалось ни крика чаек, ни шелеста парусов, ни тяжелой поступи мужских шагов по палубе и по трапам.
Княжна Долицына, за свои прегрешения не попавшая в список избранных, прорыдала до самого вечера. Начала она в столовой, куда снова пришла на общий завтрак в расчете услышать свою фамилию, продолжила на уроках, не отвечая на змеиное посвистывание классной дамы, не успокоилась во время обеда, придя на него зачем-то опять вместе со всеми, хотя для нее, как всегда, был накрыт отдельный стол, а затем залила горючими слезами подушку себе, Кате Ельчаниновой и еще двум девочкам в дортуаре. Утомленная этим неостановимым потоком Катя попросила ее наконец прерваться хотя бы на полчаса и отправилась к милейшей Анне Дмитриевне.
На стук в дверь Кате никто не ответил. Решив, что в кабинете никого нет, она вошла, чтобы дождаться старшую инспектрису у нее на рабочем месте, но уже в следующее мгновение застыла от неловкости на пороге открытой двери. Кабинет не был пуст. За столом, низко опустив голову, сидела Лена Денисьева, а прямо над нею тяжелым коршуном нависала милейшая Анна Дмитриевна. Их разговор был настолько тих, что Катя не услышала его из коридора, но при этом настолько напряжен, что слова, произнесенные старшей инспектрисой Смольного института, ложились на поникшие плечи девушки, словно гири, и Катя отчетливо разобрала их, стоя довольно далеко.
– Под монастырь подведешь, гадина…
– Простите, – шевельнулась на пороге Катя.
Милейшая Анна Дмитриевна подняла красное от напряжения лицо.
– Что вам?
– Я… – Катя беспомощно замолчала.
– Вы разве не видите – мы разговариваем?
– Да-да, извините… Я просто хотела…
– Что вы хотели?
Катя набрала в грудь воздуха и одним разом выпалила:
– Нельзя ли, чтобы княжна Долицына вместо меня участвовала в приеме?
Милейшая Анна Дмитриевна некоторое время неподвижно смотрела на нее, а затем, не задав ни одного вопроса, кивнула.
– Можно… Только сейчас, пожалуйста, закройте дверь.
23
Александра Федоровна (урожденная принцесса Фридерика Луиза Шарлотта Вильгельмина Прусская, 1798–1860) – супруга российского императора Николая I, мать Александра II, императрица российская.
24
Королева Луиза (Луиза Августа Вильгельмина Амалия Мекленбургская, 1776–1810) – супруга Фридриха Вильгельма III и королева-консорт Пруссии. Бабушка российского императора Александра II.
25
Ретикюль (фр. reticule, лат. reticulum – «сетка») – сумочки в виде корзиночки или мешочка (в переводе с латинского – «сетка», «плетеная сумка»), в насмешку были прозваны «ридикюлями» (в переводе с французского – «смехотворные»).
26
Александр II Николаевич (1818–1881) – император Всероссийский, царь Польский и великий князь Финляндский (1855–1881) из династии Романовых. Старший сын Николая I и императрицы Александры Федоровны. Александр II осуществил отмену крепостного права и провел затем ряд реформ (земская, судебная, военная и т. п.). Вошел в русскую историю как Александр II Освободитель. Убит террористами после нескольких покушений.
27
Тютчев Федор Иванович (1803–1873) – один из крупнейших русских поэтов. В 1822–1839 гг. был чиновником русского посольства в Мюнхене, а с 1844 г. и до конца жизни служил в цензурном ведомстве.
28
Мария Федоровна (София Мария Доротея Августа Луиза Вюртембергская, 1759–1828) – вторая жена императора Павла I, мать императоров Александра I и Николая I.
29
Император Александр I Павлович (1777–1825) – император и самодержец Всероссийский (с 1801 г.), протектор Мальтийского ордена (с 1801 г.), великий князь Финляндский (с 1809 г.), царь Польский (с 1815 г.), старший сын императора Павла I и Марии Федоровны, брат Николая I.
30
Восстание на Сенатской площади – восстание декабристов 14 декабря 1825 г. Поводом для восстания послужила сложившаяся ситуация с престолонаследием после смерти императора Александра I.
31
Морганатический союз – официальный брак, заключаемый персоной королевского, или иного высокого титула, с простолюдином, т. е. лицом, не принадлежащим к знати.
32
Пепиньерка (от франц. pepiniere – «питомник») – девушка, окончившая среднее закрытое учебное заведение и оставленная в нем для педагогической практики.
33
Екатерининский шифр – металлический вензель царствующей императрицы; вручался на выпуске лучшим институткам. Носился на левом плече на банте из белой в цветную полоску ленты.
34
Дортуар (фр. dortoir от dormir – «спать») – общая спальня в институте.
35
Бецкой Иван Иванович (1704–1795) – общественный деятель, педагог, в 1762–1779 гг. – личный секретарь Екатерины II. По его инициативе был создан Смольный институт благородных девиц (1764).
36
Екатерина II Великая (урожденная София Августа Фредерика Ангальт-Цербстская, 1729–1796) – российская императрица в 1762–1796 гг.
37
Елизавета Петровна (1709–1761) – младшая дочь Петра I и Екатерины I, российская императрица (1741–1761).
38
Император Всероссийский Павел I (1754–1801) – одна из самых неоднозначных фигур в Российской истории, сын Екатерины II и Петра III.
39
Парфетка (от фр. parfaite – «безупречная», «безукоризненная») – лучшая воспитанница по поведению и учебным успехам в женских учебных заведениях.
40
Мовешка (от фр. mauvaise – «плохая», «скверная», «дурная») – воспитанница, считающаяся строптивой; шалунья.
41
Моветон (фр. mauvais ton) – манеры, поступки, не принятые в обществе; дурной тон, невоспитанность.