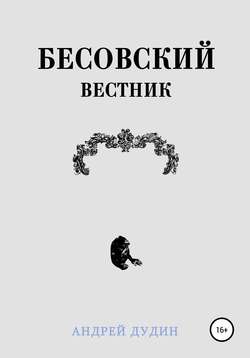Читать книгу Бесовский Вестник - Андрей Григорьевич Дудин - Страница 3
На сайте Литреса книга снята с продажи.
БЕСОВСКИЙ ВЕСТНИК – неделя, № 25, 1-7 июля;
СОВЕТЫ ЭКСПЕРТА, 3 июля, Борис Востриков, дом проф. А.Н. Фролова;
ОглавлениеПриветствую наших дорогих подписчиков, с вами Борис Востриков, постоянный автор рубрики. Сегодня мы в гостях у человека, широко известного в научных кругах, человека, чье имя знакомо жителям северной столицы по монументальному труду «Полное собрание суеверий». Фольклорист, доктор филологии, член-корреспондент Императорской академии наук, экстраординарный профессор Императорского Верхнесеверского университета, почетный член Императорского Светлогорского университета Аркадий Наумович Фролов. Аркадий Наумович, здравствуйте.
Добрый день.
Предыдущий номер нашего журнала завершился письмом от жителя села Межевое. Цель нашей с вами встречи обсудить необычные детали той истории, читателям интересно было бы услышать ваше мнение и выводы, к которым вы пришли после ее прочтения.
Ну что ж, предыдущий номер читал, кроме того, получил по почте собственно текст письма. Отдельно порадовал вложенный в конверт сувенир в форме рогатого черта (улыбается). Честно признаюсь, от вашей редакции просьбы о встрече не ожидал.
(С улыбкой) Рано или поздно встреча должна была состояться. Нам известно, что вы как раньше не верили, так не верите и сейчас в существование нечистой силы. По правде сказать, надеялся в нашей беседе затронуть и этот вопрос. Ваши работы по-прежнему пользуются популярностью, и нам иногда приходят письма с вопросами. Люди недоумевают: с одной стороны, по всей стране строятся остроги, от желающих поступить в острожные гимназии отбою нет, число сомневающихся тает в прогрессии; с другой стороны – ваш авторитет и по большей части молчание со стороны ученого мира. Помогите же разобраться в конфликте, разъясните людям причины вашего скепсиса.
То, что сегодня вы называете скепсисом, вчера с той же легкостью могло зваться здравым смыслом, и наоборот. Предлагаю мой «скепсис» пока отложить в сторону и поговорить о таком явлении, как внушаемость масс. Расследуя любой прецедент перемены общественных представлений, вы первым делом пытаетесь нащупать ключевые узлы, так называемые точки надлома. В нашем случае таких точек я вижу две.
Первый тревожный звоночек поступил много лет назад, с выходом в свет одной работы. В ней автор совершенно серьезно начинает рассуждать о расположении загробного мира. То есть, вы понимаете, мифологическое и фольклорное явление вот так запросто берется и преподносится автором как реальный факт. Ни с того ни с сего ученый муж, уважаемый профессор, вдруг предлагает нам воспринимать нечистую силу как данность. Без каких-либо доказательств.
Вы имеете в виду монографию профессора Ирвинского? Если память не изменяет: «Мир людей и мир, параллельный ему»?
Я имею в виду фантастическую повесть профессора Ирвинского. Как вы, наверное, помните, в ней автор нас убеждает, что на самом деле потусторонний мир имеет абсолютно те же географические координаты, что и мир живых. Различаются лишь четырехмерные координаты, которые плавают, в силу чего автор не исключает случайных полных их совмещений. А с развитием науки прогнозирует и возможность направленного совмещения!
Чуть ли не единственные аргументы, – если их можно так назвать, – до которых снизошел автор – это историческая и географическая проблема топонимов. Речь идет о необъяснимых исторических переименованиях. На старых картах наш родной Верхний Северск значился то Нижним, то опять Верхним, город на холме указан то закономерным Нагорье, то неуместным Подгорье. Приводится ряд названий с префиксами «пред» – «за», «над» – «под», «верхне» – «нижне», не оправданных в географических реалиях.
Проблема антонимичных названий известна исторической науке давно, господин Ирвинский предложил нам свое решение. По его мнению, уж предки-то знали, как на самом деле обстоят дела. Для них не имело значения, каким из двух названий обозначать тот или иной город, потому что это одно и то же место! Его зеркальное отражение, если хотите, со сдвигом по оси времени.
Поймите всю нелепость той ситуации. В научной среде делается заявление, граничащее с безумием. Голословное, не подкрепленное ничем. Разумеется, я не счел нужным снизойти хоть до какого-то комментария. Так же рассудили и мои коллеги. Это была наша первая ошибка.
Так совпало, выход монографии был приурочен к началу строительства первого острога. Тема, что говорится, закипала в общественном котле. Ученый, пользующийся на тот момент доверием, плеснул доброе ведро масла в огонь под котлом. Народ падок на сенсации, вы знаете, не успели мы оглянуться, многими труд уже воспринимался как святое писание, которое стоит над всякой критикой.
Запоздалая реакция обошлась нам с коллегами дорого. Огромных трудов стоило развенчать сей опус, со временем нам удалось если не переломить общественное мнение, то хотя бы посеять зерно сомнения.
Я был студентом, когда вышла монография. Помню, она взбудоражила воображение всего курса. Но вы правы, благодаря вашим усилиям многие сторонники теории вскоре стыдливо помалкивали о былом увлечении. Как думаете, зачем профессору понадобилось писать такую работу? Нет ли здесь стремления к славе в любом ее проявлении?
Ну что вы, нет, не думаю. Профессор Ирвинский, как и я, всю жизнь занимался мифологией. Наука наша, скажем прямо, специфическая, в отличие от наук естественных, мы всегда вынуждены ссылаться на чьи-то слова, на чью-то точку зрения. Отсюда и возможность, и соблазн воспользоваться всяческими лазейками. Дальше за дело берется азарт первооткрывателя. А если в один прекрасный момент вы вдруг обнаружите себя в непролазных дебрях, нежелание признать ошибки уже вряд ли позволит вам остановиться.
Нечто подобное, я думаю, и произошло с профессором. Все мы помним, к чему привел этот внутренний конфликт, профессор окончил жизнь в Верхнесеверской окружной лечебнице.
Печальный конец.
И зловещее предостережение, о котором, к сожалению, сегодня никто не вспоминает.
Хорошо, с монографией понятно. Позвольте угадать вторую «точку надлома», о которой вы говорили. Диссертация доктора Свиридова?
Совершенно верно. К сожалению, сегодня мы вынуждены величать его именно так, «доктором».
Восемь лет минуло, если не ошибаюсь? Так получилось, к тому времени я уже был поверхностно знаком с господином Свиридовым. За несколько кратких бесед, которые между нами случились, у меня сложилось мнение о нем как о человеке увлекающемся, целеустремленном. Чересчур целеустремленном, порой до фанатизма. К сожалению, посвятить в подробности бесед не имею права, в любой беседе участвуют как минимум два человека. Было бы неэтично пользоваться отсутствием второй стороны. Но поверьте, у меня были причины считать его таковым.
Сей господин уже имел опыт соискания степени. Опыт неудачный. Опубликованная диссертация получила разгромные рецензии. Одна из них принадлежала моему скромному перу. И было за что! Подчас демонстративное пренебрежение первоисточниками, поверхностные их трактовки, откровенно дилетантские лингвистические изыски. Я молчу о выводах, которые проверить на практике не представлялось возможным. Как и в случае с профессором Ирвинским, к слову.
Как вы понимаете, защита была провалена. После этой неудачи, собственно, и состоялось мое с ним знакомство. И не только мое, будущий магистр не обошел вниманием ни одного, кто имел хоть какой-то вес в университете. Кто-то, как я, например, имел удовольствие неоднократных встреч. Про корреспонденцию и вспоминать не хочется, поистине этот человек не жалел чернил!
Упорство принесло плоды, ему было позволено написать другую диссертацию. Он принялся за работу сразу, писал чуть больше года. Нельзя не признать, подошел к делу ответственно, с учетом всех ошибок. Да и тему выбрал такую, что некоторым профессорам стало интересно, как бедняга будет выкручиваться. Научным руководителем на сей раз у него выступал… как думаете, кто?
Если честно, в такие подробности не вдавался.
И напрасно, именно такие подробности и помогают иногда взглянуть на прошедшие события под другим углом. Научным руководителем у него был не кто иной, как основатель и Особый попечитель острогов Дуров, Иван Силантьевич. Тот самый, за которым, я слышал, ваш журнал гоняется не первый год.
Чистая правда. Этот человек воистину неуловим. В его ведении находятся все двадцать существующих острогов, еще два строятся в данный момент. Он постоянно в разъездах, наши письма, изъездив полстраны и не найдя адресата, всегда возвращаются. Ума не приложу, как можно жить в таком режиме год за годом.
Тем более странно, что человек такой занятости вдруг принимает решение стать научным руководителем у ничем не примечательного соискателя. В то время острогов было гораздо меньше, но не думаю, что у господина Дурова от этого имелась масса свободного времени. Вы понимаете, какой уровень заинтересованности в диссертации, в ее продвижении? Но мы не будем строить домыслы, тут факты говорят за себя.
Лично я на защите не присутствовал, но знаю историю из первых уст. Мой хороший друг, профессор Орлик, выступал одним из оппонентов господину Свиридову. Наутро он примчался ко мне всклокоченный, ночь не спавший. Потребовались усилия, чтобы с его сбивчивого рассказа восстановить всю картину. И я готов вам поведать эту историю…1
Диспут подходил к концу. Вопреки опасениям совета, господин Свиридов выступал спокойно, уверенно, во всех отношениях выглядел куда более выигрышно, чем в прошлом году. В памяти профессоров еще свежи были вспышки раздражения, горячность, с которой воспринималось малейшая критика. Вероятность снова попасть в неловкое положение допускалась настолько, что перед процессом члены совета решили не привлекать к диспуту посторонних, особенно студентов. Поэтому обычно оживленный и битком набитый людьми зал выглядел сиротливо пустым: выступающий на кафедре и дюжина профессоров за столами, выстроенными в ряд.
Слово взял профессор Орлик:
– Ну хорошо, господин Свиридов, мы думаем, никто не станет возражать, что ваши исследования внутренне непротиворечивы и последовательны. И даже не лишены некоторой оригинальности, – в зале послышались редкие покашливания. – В свете этого и ваша рекомендация изъять исследуемый предмет и родственные ему из области филологии и передать его в ведение науки естествознание выглядит вполне обоснованно. Но видите ли, всю вашу работу можно сравнить с дворцом, безусловно внутренне стройном, представляющем интерес и в архитектурном, и в конструкторском плане, вот только… висящем в воздухе. Вы, как человек близкий к науке, разумеется понимаете, любое теоретическое обоснование должно базироваться на фундаменте не подлежащего сомнению практического опыта… Нет-нет, дайте мне договорить. Я не спал, когда вы озвучивали параграф, посвященный экспериментальному обоснованию решения задачи, – кто-то из профессоров не смог сдержать короткого смешка. – Я имел в виду другое. Не могу отвечать за всех в этом зале, но лично у меня есть некоторые сомнения, что если вдруг я решу в свой редкий выходной отправиться на болота по чернику, то я там подвергаюсь опасности быть схваченным за лодыжку и утянутым на дно рукою кикиморы. Или лапой, тут я не специалист. – По столам прокатился сдержанный смех, к которому примешались редкие хлопки. – Я хочу сказать, совету трудно оценить достоверность экспериментальных подтверждений теоретических выводов диссертации, когда сам факт физического существования исследуемого объекта большинству в совете не представляется непреложным. Вы понимаете? Без установления факта непреложности выстроенный вами дворец представляет ценность только внутри самого себя, не больше.
На предварительном рассмотрении я отмечал, что, приняв диссертацию к защите, диссертационный совет поставит себя в абсурдную ситуацию. Комиссия была со мной согласна. Но, учитывая редкое стремление соискателя выступить перед советом… – все присутствующие кто тыльной стороной ладони, кто покашливанием попытались спрятать улыбки, – комиссия написала положительное заключение. Если бы Верхнесеверскому острожному университету было дано право присуждать степени, уважаемый соискатель был бы удостоен ее без всяких сомнений. К диссертации, повторюсь, претензий нет, за исключением мелких замечаний, о которых упоминал профессор Воронцов. Я лишь хочу сказать, что здесь собрались люди иного круга, привыкшие смотреть на мир через призму сухих фактов, и никак иначе. Прошу уважаемого магистранта учитывать сей факт, когда будет озвучиваться решение совета. Вы хотите что-нибудь сказать перед тем, как декан факультета поднимется на кафедру?
Пока профессор Орлик говорил, каждый профессор исподтишка приглядывался к магистранту, каждый втайне ожидал, что уж теперь тот точно не справится с собой, начнет перебивать, горячиться. Однако господин Свиридов выслушал недвусмысленный приговор молча, ни один мускул на лице не дрогнул. Со стороны могло показаться, что он не слышит слов, лишь отстраненно наблюдает, как у выступающего открывается рот.
Когда профессор замолчал, господин Свиридов невозмутимо кивнул, всем видом демонстрируя, что приговор не стал для него неожиданностью. Неторопливо оглядел всех присутствующих и наконец заговорил:
– Я хотел бы поблагодарить совет за предоставленный мне второй шанс, хотел бы поблагодарить уважаемых оппонентов за интересную дискуссию, профессора Воронцова за ценные замечания, которые, разумеется, будут учтены в моих дальнейших работах.
Еще будучи студентом старших курсов, я прочел все работы всех присутствующих здесь профессоров, хоть наука естествознание не была моей специализацией. По сей день я подписан на журнал вашего университета и не пропускаю ни одной статьи. Поэтому я ясно отдавал себе отчет, с кем имею дело, как может быть воспринята выбранная мною тема и, соответственно, предложенная практическая методология исследования предмета. Но я не имел права взять другую тему. Просто потому, что степень магистра не есть моя цель.
Боюсь, в мире всего несколько человек понимают, насколько важны мои исследования. Еще важнее сейчас время. У нас его нет. Каждый потраченный впустую год в нынешних условиях становится преступлением перед человечеством. Только этим объясняется излишняя эмоциональность моего прошлогоднего выступления. За что еще раз прошу прощения у совета.
Нам необходимо признание науки. Нам необходимы ваши умы. Остроги только-только начали распространяться по стране, и то лишь вблизи самых крупных городов. И уже остро встал вопрос нехватки преподавателей. Не только в острожных гимназиях, гораздо важнее, что и в университетах не хватает профессоров. И ситуацию практически невозможно исправить без признания Академии наук.
В свете вышесказанного, мною было принято решение выйти за рамки обычной процедуры диспута. Я посоветовался с научным руководителем, Иваном Силантьевичем, и он любезно согласился предоставить мне на время защиты исследуемый образец…
Зал погрузился в гробовую тишину. Члены совета растерянно переглядывались, словно взглядом спрашивали друг у друга, все ли услышали одно и то же. Крошечная фигура профессора Воронцова приподнялась со стула, отчего плешивая макушка всего на два пальца возвысилась над макушками коллег. Он суетливым движением поправил пенсне.
– Простите, мы не поняли, в каком смысле «предоставить исследуемый образец»?
Вместо ответа господин Свиридов спустился с кафедры, прошагал мимо шеренги столов. Двери актового зала бесшумно раскрылись в коридор. Соискатель выглянул за порог, по пустым коридорам гулким эхом разнесся его голос:
– Егор Макарыч, будьте любезны.
Он посторонился, придерживая рукой одну дверцу. Члены совета услышали негромкий гул, похожий на тот, с каким деревянные колеса катятся по камню. Внутрь вплыла сперва седая, коротко стриженная голова, затем показалось сгорбленное годами тело. Руки старика сжимали за спиной конец веревки. Даже те, кто вживую никогда не видел служителей острога, сразу узнали форму: вся в цвет травы, на рубахе отсутствовал стоячий воротник, верхняя пуговица туго стягивала ворот на шее, запястья плотно поджаты манжетами. По всей длине рукава, от погона до манжета, тянулась желтая тесьма, которая перетекала на зеленые шаровары и терялась в высоких, по колено, сапогах. На поясе у старика болталась изящная тонкая дубинка с кожаным ремешком под запястье. По серому цвету погон посвященные могли определить принадлежность служащего к внутренней крепостной роте. Вышитые на погоне золотом буквы «ВС» говорили о службе в Верхнесеверском остроге.
Руки старика, сжимавшие веревку, неожиданно дернулись назад. Что-то на другом конце ударилось о порог. Старик развернулся, потянул сильней. В зал вкатилась квадратная будка на деревянных колесах. Под высокими сводами волной пронесся возбужденный шепот и сразу затих. Содержимое будки скрывало от глаз плотное суконное покрывало, того же цвета, что и рубаха старика. Всем стало неуютно от одного только изображения на покрывале: золотыми нитками там был вышит надломленный надвое могильный крест в рост старика, на обломок, торчащий из земли, был нанизан золотой череп.
В лесу часто можно встретить перегороженную дорогу с такой эмблемой. Предупреждение об опасности, сигнал местным, что рядом бесчинствует нечисть, возможно есть загубленные жизни. Надо признать, сигнал действенный. Скептик ты, не скептик, встретишь в лесу такой знак – рука сама тянется перекреститься, а ноги несут в обратную сторону.
Верхушка будки проплыла на уровне шеи господина Свиридова. Старик тащил загадочную ношу с невозмутимостью локомотива. По сторонам он не глазел, рассеянное выражение лица наводило на мысль, будто он не подозревал, что в зале есть кто-то еще. Может быть, витает мыслями где-то в потусторонних мирах. Больше всего во внешности старика поражал гладко выбритый подбородок: он выпячивал его вперед и методично двигал челюстью вверх-вниз, тщательно пережевывая верхнюю губу беззубым ртом. Те, кто сумели отвести глаза от огромного креста, теперь завороженно следили за этим странным действом. Почему-то живущий своей жизнью подбородок казался лишним доказательством отрешенности его владельца от остального мира.
Какое-то время тишину нарушал только стук колес в щелях между плит. Будка остановилась перед столом, за которым восседал декан факультета, профессор Бережницкий. Все, кто сидели с ним рядом, невольно подались назад, скрежетнув ножками стульев по полу. Остался на месте лишь сам декан. Мужчина дородный настолько, что подбородок казался посаженным в чашу с дрожжевым тестом, он не рискнул проверять стул на прочность. Он откашлялся, словно хотел удостовериться, не подводит ли голос, произнес требовательно:
– Господин Свиридов, совет ждет объяснений!
Соискатель оставил двери открытыми, не спеша приближался к клетке, заверил на ходу:
– И совет получит их в самое ближайшее время. Сперва позвольте вам представить своего помощника: Егор Макарыч, служащий Верхнесеверского острога, сторож камеры временного хранения тел людей, покончивших жизнь самоубийством.
Только теперь, казалось, старик заметил дюжину ученых за столами. Челюсть его по инерции сделала еще несколько движений и остановилась. Рука потянулась к голове, понял, что оставил фуражку в коридоре, сконфуженно поклонился. За ближайшим столом услышали не то хриплый старческий выдох, не то скомканное «вашискородья».
В ответ никто не шелохнулся. Лишь маленький профессор Воронцов в силу воспитания нервно кивнул.
– Кто же в его отсутствие остался сторожить тела? – неловко попытался усмехнуться кто-то из профессоров. Шутка вызвала пару кривых улыбок, и те сползли сами собой. Господин Свиридов открыл было рот, но старик решил, что вопрос адресован ему, причмокнул губами, ответил с легким поклоном:
– Ишо молодого мне отрядили. Мое место займет. Сам-то я уж не молод.
Снова повисла тишина, на сей раз неловкая. Господин Свиридов кашлянул в кулак:
– Я бы хотел принять одну меру предосторожности, прежде чем мы начнем. С разрешения уважаемого совета мы воспользуемся услугами университетской уборщицы, чтобы немного приглушить свет. – Он полуобернулся к открытым дверям, позвал громко: – Марья Захаровна, вы нам не поможете?
Поначалу ответом служила тишина. Он решил было, что пожилая уборщица не расслышала, но тут из коридора донесся непрерывный царапающий звук. Сперва едва слышный, он постепенно приближался. В зал мелкими шажочками приковыляла старушка. Она выглядела настолько древней, что впору возмутиться, как кому-то хватает совести заставлять ее день ото дня шаркать беспомощными ногами по коридорам университета. Быстро обнаружился источник звука: Марья Захаровна сжимала в руке конец деревянной трубки, полой внутри, другой ее конец волочился по полу.
Слезящимися глазами глядя под ноги, старушка прошла мимо стульев с профессорами к центру зала, остановилась под люстрой с десятками свечей. Трясущимися руками она поднесла один конец трубки к губам, другой направила на огонек выбранной свечи. Дунула – и зашлась по-птичьи невесомым кашлем. Но цель была достигнута, язычок огня дернулся, и к потолку потянулся белый дымок.
Профессора недоуменно переглянулись, ситуация начинала напоминать откровенный фарс. Марья Захаровна мелкими шажками, бочком перемещалась вокруг люстры, дрожащими руками мучительно долго выцеливала понравившийся огонек. Каждый выдох в трубку неизменно приводил к почти беззвучному, свистящему кашлю.
Неизвестно, сколько прошло времени, в течение которого слышалась лишь возня уборщицы. Первым не выдержал профессор Орлик.
– Господин Свиридов, – сказал он раздраженно, – не нужно устраивать из диспута балаган. Совет начинает подозревать вас в неприкрытом издевательстве.
Соискатель как будто не замечал нелепости ситуации, лицо его оставалось непроницаемым. Он поднял руку в примирительном жесте:
– Господа, я прошу у вас немножко терпения. Марья Захаровна уже не та девчушка, что носилась по полям с подругами, давайте отнесемся к годам с уважением. Как я говорил, эта мера вынужденная, для нашей же пущей безопасности.
– Вы хотите сказать, – вклинился профессор Воронцов, скосив глаза на изображение креста, – что у нас есть основания беспокоиться за свою безопасность?
– Теперь они практически сведены к нулю. Благодарю вас, Марья Захаровна, этого достаточно.
Стараниями старой уборщицы зал погрузился в полутьму, причудливые тени отплясывали по стенам и потолку, копошились в нишах. Конец деревянной трубки вновь шлепнулся на пол и с тихим царапаньем потянулся за шаркающими тапочками.
Когда сгорбленная спина скрылась в дверях, господин Свиридов продолжил:
– На случай, если ситуация все же каким-то невообразимым образом выйдет из-под контроля, за дверями нас охраняют двое служащих из патрульной роты. Поэтому, с вашего позволения, двери мы оставляем открытыми. – Он повернулся к старику сторожу: – Егор Макарыч, приступим?
Продолжая пожевывать верхнюю губу, старик оценивающе оглядел покрывало с вышивкой, потянулся к нижнему уголку. Губы его разлепились, снова издав причмокивающий звук.
– Я за энтот край возьму, ты – за тот, – он указал Свиридову на другой бок будки. – Тут главное не спешить, она еще света белого не видывала. Первый испуг он, как водится, самый опасный!
Господин Свиридов молча кивнул, они медленно потянули покрывало кверху. Застывшие в напряженных позах профессора ощутили сильный запах тины, болотного перегноя. Когда покрывало приподнялось до пояса, старик сделал останавливающий жест рукой, осторожно заглянул внутрь. Свободная рука пролезла в кожаный ремешок, так же осторожно потянул дубинку из-за пояса. Удостоверившись, что внутри спокойно, он помахал дубинкой к потолку. Они продолжили поднимать завесу.
Нижняя часть так называемой будки оказалась своеобразным резервуаром на колесах. От резервуара кверху тянулись прутья, сплетенные из веток можжевельника. Расстояние между прутьями вполне позволяло просунуть руку до плеча. Профессора со смесью недоумения и облегчения поняли, что это самая обыкновенная клетка, разве что со странным выбором материала для прутьев.
Когда сторона, обращенная к залу, полностью открылась, господин Свиридов со стариком не сговариваясь чуть отступили от клетки. Покрывало с шорохом соскользнуло с крыши и шлепнулось за дальними колесами.
Профессора с напряжением, до боли в глазах всматривались в щели между прутьями. Деревянная ванна почти до краев была наполнена зеленой водой, источающей запах гнили. Единственное, что нарушало ровную гладь воды – небольшой холмик, напоминающий шапку валуна, поросшего мхом.
Члены совета непонимающе вскидывали брови, шептались с соседями, ища разъяснений друг у друга.
– Что же мы должны увидеть, господин Свиридов? – выразил общее недоумение декан. – Если вы хотели убедить…
Он смолк на полуслове. Вода в клетке отозвалась на его голос глухим ворчанием. Один за другим на поверхность всплыли несколько пузырей размером с кулак и сразу полопались, источая смесь запаха тухлой воды и смрада. Холмик чуть сдвинулся вбок, пустив мелкую рябь по поверхности.
Люди за столами застыли. Кто-то выронил из пальцев перо и теперь вслепую водил рукой по столу, пытаясь его нащупать.
– Господа ученые, – проговорил Свиридов мягким, приглушенным голосом. Сейчас, с пляшущими по залу тенями это прозвучало так, будто он собирался зачитывать сказку. – Перед вами представитель пока еще условного вида болотных кикимор. Данный конкретный экземпляр полностью соответствует поверьям о нем жителей северной части нашей страны. Мы не будем вновь рассматривать критерии, позволяющие установить факт косвенной наблюдаемости реального существования объекта. Они теряют всякий смысл, когда мы можем наблюдать объект непосредственно.
Поскольку моя работа является фундаментальной для дальнейшего развития этой области науки, нельзя не затронуть и некоторых фундаментальных понятий. А именно: по каким критериям определяется физическая сущность объекта, на каком основании мы можем делать вывод, что физический объект является таковым.
А критерий прост: это непосредственно наблюдаемое взаимодействие с другими объектами, чья физическая сущность не вызывает сомнений.
Мы видим это на примере взаимодействия с водой: объект вытесняет объем воды, равный объему его тела. Если данный факт у кого-то вызывает сомнения, позже мы попробуем извлечь объект на воздух, и вы увидите, как упадет уровень воды в резервуаре. – Он повернулся к старику: – Егор Макарыч, это можно устроить?
Тот скользнул взглядом по заросшему мхом холмику, раздумчиво причмокнул губами:
– Ежели патрульные подсобят – выудим! Тяжелая, гадина!..
Экзаменаторы как завороженные пялились на притихшее существо в зеленой жиже. Хоть на лицах и читалось неверие, вряд ли кто из них горел желанием увидеть этот сгусток мха вне воды. Господин Свиридов продолжил так же негромко, заставляя нервно вслушиваться в каждое слово:
– Также мы уже наблюдали нарушение состояния покоя поверхности воды при любом движении объекта. Этот факт, полагаю, не нуждается в дополнительном подтверждении.
Следующий пример взаимодействия – способность некоторых материалов природного происхождения ограничивать свободу передвижения объекта.
– Только некоторых? – раздался скептический вопрос. – Стало быть, каменная стена не ограничит свободу его передвижения?
– Природа взаимодействия со многими твердыми телами нами пока не изучена. Стена не ограничит, это правда. Но если существует хоть один материал, способный удержать объект взаперти, разве это уже не будет примером наблюдаемого взаимодействия? Егор Макарыч, в двух словах, что из себя представляет наша клетка?
– Да клетка немудреная, – отозвался служащий острога, – походная, обыкновенная для любой кикиморы. Пруты из веток можжевельника – кикимора, как известно, не может прикоснуться к можжевельнику. Нижняя часть клетки из рябиновых досок. Получается так, что вода заливается в рябиновый круг, а уж это крепкая преграда почти для всякого беса. Дно тоже уложено ветками можжевельника. Ежели кто думал, что кикимора лежит на дне – не тут-то было! В воде висит. Или плавает, тут уж решайте сами.
– Подразумевая невозможность для объекта выбраться, на ум приходит прямая аналогия со зверем в клетке или рыбой в аквариуме, не правда ли?
– Я к мифологии имею отношение самое поверхностное, – признался профессор Орлик, – но я слышал, большинство представителей нечистой силы наделены способностью к оборотничеству. Когда человеком, когда животным, а когда и неодушевленным предметом. Вы и это можете нам продемонстрировать? И как такая способность вяжется с вашей теорией о телесном происхождении? Разве в мире физических вещей есть примеры подобных явлений? Разве лягушка может обернуться камнем?
Его громкий сухой голос подействовал на многих отрезвляюще. Профессора словно освободились от морока, зашевелились. Если кто-то и поддался было соблазну поверить глазам, теперь вновь посматривал на клетку критически.
Господин Свиридов кивнул понимающе:
– К сожалению, касательно конкретно болотной кикиморы, у нас нет данных о ее умении перевоплощаться. Вся практика работы острогов также не зафиксировала ни одного случая. Что же до перевоплощений в общем, то, опять же, нам просто неизвестна природа этих явлений. Пусть мы не привыкли видеть, как лягушка оборачивается камнем, но разве камень, как результат перевоплощения, перестает быть физическим предметом? Уверяю вас, если уронить такой камень на чью-то голову, происшествие не останется незамеченным!
Я больше скажу, основную часть времени нечисть вообще остается незримой для человеческого глаза. Но каждый наш гимназист знает, что любого представителя нечистой силы можно разглядеть при свете от липового факела. Что также является примером физического взаимодействия.
Такие навыки как оборотничество, исчезновение и прочие им подобные я бы условно назвал магией нечистой силы. Но лишь условно. Нужно понимать, что это не магия, какой мы привыкли ее представлять, это лишь природные механизмы, о которых мы пока не знаем ничего.
Вот эти-то вопросы, как и тысячи других, мы и планируем изучать, предлагая добавить к науке естествознание новый раздел. И надеемся в будущем на вашу помощь и помощь ученых по всей стране.
А сейчас я бы хотел продемонстрировать, наверное, самый наглядный пример взаимодействия. После него, я думаю, даже самые скептически настроенные из вас будут вынуждены поверить в происходящее. Более того, любой желающий получит возможность сам испробовать силу и реалистичность данного взаимодействия.
Как я писал в диссертации, существуют некоторые природные материалы, от соприкосновения с которыми нечисть испытывает невыносимую боль. Такую боль, какую человек не может вообразить. Я имею в виду вообразить не уровень боли по какой-нибудь условной вертикальной шкале, а ее природу. Мы вновь сталкиваемся с недостатком сведений. Это другая боль, нежели привык ощущать человек, вот и все, что я могу утверждать. Егор Макарыч, разрешение одолжить личное оружие в наше распоряжение при вас?
– Имеем, – кивнул старик. Он сунул руку под тугой ворот, принялся там шарить, задрав подбородок к потолку и тщательно пожевывая верхнюю губу. На свет показался свернутый клочок бумаги, весь в мокрых от пота пятнах. Старик торжественно продемонстрировал клочок членам совета, те даже не взглянули.
Старательно упрятав разрешение за пазуху, старик протянул магистранту дубинку ремешком вперед. Едва та приблизилась к прутьям клетки, произошло такое, отчего кровь в жилах профессоров похолодела. Кикимора будто почуяла исходящую от орудия угрозу: вода в клетке забурлила, крупные пузыри начали лопаться с таким зловонием, что даже многое повидавший служащий острога зарылся носом в сгиб локтя. Под сводами зала раздалось отчетливое, почти змеиное шипение.
Профессора в страхе заозирались. Звук исходил не от клетки, казалось, его издают каменные стены, создавалось ощущение, что в темных нишах прячутся полчища змей. Шипение заполнило зал, как теплый воздух заполняет воздушный шар, выдавливалось в коридор и возвращалось отголосками эха.
Из-за дверей выглянули два встревоженных молодых лица. Профессорам они показались не старше их студентов. Видно, что совсем недавно окончили острожный университет. Форма на служащих отличалась от формы старика только цветом погон, патрульной роте полагалось носить ярко-красные, заметные в лесу. На головах красовались зеленые фуражки с металлическими кокардами, подбородки выбриты, как и у сторожа, – одно из обязательных требований к внешнему виду служащего острога, объяснить которое никто из профессоров был не в состоянии.
Молодые люди быстро оглядели зал и, успокоенные, вновь скрылись за дверями. Шипение оборвалось столь внезапно, что от рухнувшей тишины зазвенело в ушах. Не иначе тварь поперхнулась водой! Поверхность болота в резервуаре перестала бурлить, разгладилась. Но самые остроглазые заметили, как по разглаженной поверхности зазмеилась тина, начала стягиваться к одной точке. Туда, где из воды медленно всплывал холм размером с детскую голову. Еще прежде, чем холм поднялся на высоту ладони, каждому стало ясно: то, что принимали за тину, на деле оказалось волосами, прилипающими сейчас к всплывающей голове. Сквозь щели в слипшихся космах удалось разглядеть зеленую кожу лба и глубокие морщины. Неподвижные, словно высеченные в камне. Следом за лбом из воды поднялись две зеленые точки не больше медных монеток, горящие, как глаза кошки в темноте.
Ученые охнули. «Матерь Божья», – прошелестел шепот. Вряд ли кому из них в жизни доводилось сталкиваться со взглядом, полным такой свирепой ярости. Каждый, на кого переползали два зеленых угля, ощущал, что его, лично его ненавидят лютой ненавистью. За факт существования, за то, что живой. Каждый пугающе ясно осознал, встреча с таким взглядом в лесу станет последней встречей в жизни.
Профессор Воронцов ринулся поспешно креститься, и тут же был наказан, зеленые глаза задержались на нем дольше, чем на любом из профессоров. Посидев неподвижно под пристальным взором, он вдруг принялся растерянно озираться, обернулся к декану:
– Что же это, Иван Яковлевич? Вы чувствуете? Что-то не так… – он удивленно посмотрел под ноги. – Как же это, Иван Яковлевич, да ведь я тону! Тону, Иван Яковлевич! – Он продолжил вертеть головой. – Господа, почему же вы, сидите? Неужели вы так и будете смотреть? Как же можно, господа, шутка ли, у меня уже колени намокли. Дайте же кто-нибудь руку!
Члены совета изумленно переглядывались, соседи перегнулись через стол профессора, неужели и правда погружается в камень? Туфли профессора как ни в чем не бывало упирались в пол, лишь сам он потихоньку соскальзывал спиной со стула. А кикимора, будто насытившись ненавистью, погрузилась обратно в воду и притихла.
Пенсне выпало с переносицы профессора. Он принялся нелепо возить руками по воздуху, словно позабыл, что по закону тяготения искать необходимо внизу.
– Вадим Матвеич, вы пенсне не видите? У вас зрение получше, поглядите пожалуйста, не видите пенсне? Вадим Матвеич, ведь мы с вами домами дружим, зачем же вы так ужасно смеетесь? Ведь наши жены друг к другу на чай ходят!.. Господа, я уже ног не чувствую! – Он беспомощно повернулся к декану: – Иван Яковлевич, ведь вы же… С вашей-то комплекцией вы же меня одной рукой, как сорняк, из любой топи выдернете!.. Господа, кто-нибудь… – в отчаянии взмолился он. Просительный взгляд поочередно останавливался на каждом из коллег. Не встретив сочувствия, профессор начал часто моргать, тыльной стороной запястья смахивал набухающие капли. Наконец не выдержал, закрыл лицо худыми ладошками и заплакал. – Как же так, господа, после стольких лет…
– Морок, – невозмутимо констатировал старик сторож. Порылся рукой в кармане шаровар, на ладони возникла горстка щепок, каждая длиной чуть больше ногтя. Подслеповато щурясь, он повыщипывал с ладони катышки, выбрал одну щепку, остальные отправились назад в карман. – Липа, – пояснил он, приближаясь к столу профессора, – рассеивает любой морок.
Перегнувшись через стол, он бесцеремонно схватил рыдающего профессора за нижнюю челюсть, целиком с большим пальцем сунул ему в рот щепку. Потом прижал нижнюю челюсть к верхней так крепко, что заслуженный профессор начал хрипеть и вырываться.
Когда хватка ослабла, профессор закашлялся, выплюнул на стол расплющенную щепку. С минуту он тупо смотрел на мокрую деревяшку, затем по очереди оглядел коллег, на лице его отразилось смущение.
– Вы в порядке, профессор? – участливо поинтересовался декан.
Профессор Воронцов молча скрылся под столом в поисках пенсне, водрузил его на нос и, пунцовый, как рак, уселся на свое место. Больше за вечер ни слова от него не услышали.
Господин Свиридов за оба конца поднял дубинку на высоту груди, привлекая внимание. Заговорил таким тоном, будто и не было только что странной сцены:
– Не думаю, что кому-то из присутствующих нужно объяснять, что это такое. Перед вами самое действенное оружие из арсенала служащего острога – дубина, вырезанная из стержневого корня дуба, в народе иронично именуемая как «бесогонка». Процесс ее изготовления сложен и чрезвычайно долог. Вы наверняка слышали, во всей центральной и северной части нашей страны известен лишь один лесной квартал, где есть возможность вырастить подходящее сырье. Почему почва на этих двадцати гектарах леса обладает уникальными свойствами, нам до сих пор неизвестно.
– Было бы любопытно заложить разрез, – сказал профессор Крупицын, автор многочисленных работ по почвоведению.
Это был первый бесспорный сигнал о перемене настроения в коллективе. Избавленные от яростного взгляда «с того света», ученые могли теперь спокойно поразмышлять. Если поначалу происходящее легко было списать на хитроумно организованный спектакль, то как быть с лицом твари в воде? А с господином Воронцовым? Они знают его много лет, заслуженный профессор, он не стал бы участвовать в дешевых трюках, да еще с риском для репутации. Она в ученом мире зарабатывается десятилетиями тяжких трудов.
– Мы готовы предоставить вам транспорт в любой день, – заверил выступающий. – Готовы сами вас привезти и увезти, помощников дадим. Мы сделаем все, что потребуется для плодотворного сотрудничества. А теперь, господа ученые, прошу обратить внимание, насколько потрясающий эффект производит так называемая «бесогонка».
Он поправил обшлаг на рукаве, продел руку в ремешок. Существо в клетке вновь почуяло угрозу, тина зашевелилась, на поверхности болота начал вздуваться холмик, облепленный волосами. Два зеленых глаза алчно вперились в близкий и живой кусок мяса. Господин Свиридов не мешкая просунул руку сквозь прутья и несильно, без замаха, ткнул концом дубины в воду там, где предположительно пряталась спина.
Со стороны могло показаться, будто он с размаху ударил по воде веслом. Кикимора отскочила к дальней стене с такой силой, что клетка едва не опрокинулась, ударив старика по голове. Волна зеленой жижи выплеснулась служащему на сапоги, во все стороны полетели брызги. Профессора шарахнулись от столов.
– Да что это за чертовщина!? – в страхе воскликнул декан, профессор Бережницкий. Он хотел добавить что-то еще, но заметил, как крупная капля попала ему на мундир. Слова застряли в горле. Раскрыв рот, будто рыба в аквариуме, он потрясенно наблюдал, как мокрое пятно на рукаве стремительно расширяется. Остальные профессора смотрели на клетку выпученными глазами, кто-то, хватая ртом воздух, потирал грудь в области сердца.
Кикимора утонула в воде и затихла. От ее угла по поверхности исходила мелкая рябь. Нетрудно было догадаться, что ее била дрожь.
– Егор Макарыч, будьте любезны, продемонстрируйте совету произведенный эффект.
– Зараз, – причмокнул старик.
Он энергично закатал рукав по локоть. Члены совета с ужасом следили, как этот сумасшедший сует в клетку голую, ничем не защищенную руку. Кряхтя, старик собрал в ладонь пучок тины, намотал ее на кулак, пока костяшки не уперлись в твердый, как камень, затылок. Один из профессоров даже тихонько взвыл, когда рука старика принялась возить чудище болотное по дну, будто тряпку по стиральной доске. Теперь все могли заметить, что спина кикиморы по форме и размеру сильно напоминает спину собаки, только вместо шерсти бока густо поросли мхом.
На мгновенье из воды показался глаз. Этого мгновенья хватило, чтобы заметить: в нем не осталось и тени былой ярости, ее место заняла тупая, всепоглощающая боль. Если бы мука такой силы отразилась в глазах живого существа, она вызвала бы сочувствие даже у мраморной статуи. Профессора же испытывали лишь страх и начинающий зарождаться какой-то возбужденный интерес.
– Как видите, – подытожил господин Свиридов, – испытуемый образец начисто лишен воли и не способен к какому бы ни было сопротивлению. Это состояние продлится по меньшей мере еще несколько минут. Спасибо, Егор Макарыч, достаточно. В течение нескольких минут любой желающий может подойти и, так сказать, собственными пальцами ощутить реальность происходящего. Мы только что убедились, это совершенно безопасно. Также любой желающий может на собственном опыте удостовериться, что эффект от контакта с дубиной не постановочный. Как я и обещал. Прошу вас, господа.
Он приглашающим жестом положил дубинку на верхний угол клетки и отступил на шаг. Профессора переглянулись, раздались смущенные покашливания. Профессор Воронцов выудил из кармана носовой платок и принялся натирать стекла пенсне. Профессор Бережницкий, декан, так же смущенно окинул взором профессорский состав, кашлянул в кулак:
– Не думаю, что в этом есть нужда, господин Свиридов. Я и мои коллеги считаем, с практическими опытами на сегодня можно закончить. Будьте добры, вывезите из зала… образец.
– Как вам будет угодно, – ответил господин Свиридов с легким наклоном головы.
Дубинка вернулась на пояс служителя острога. Вдвоем они натянули покрывало на клетку. На этот раз вид обломанного креста позволил ученым вздохнуть свободней.
Старик поклонился в пояс, опять буркнул что-то вроде «вашискородья». Затем, повернувшись к клетке, завел нижнюю челюсть, словно разгоняя тяговое дышло паровоза, уперся руками в прутья. Клетка покатилась мимо Свиридова.
Когда зеленая рубаха скрылась за порогом, декан крикнул вдогонку:
– Если вас не затруднит, попросите сюда уборщицу, пока лужа на полу не засохла.
– Сделаем-с, – донеслось в ответ.
Декан факультета вытер платком пот на лбу. Остальные словно только ждали разрешения, синхронно потянулись к карманам. Верхние пуговицы мундира декана отщелкнулись, освобождая стиснутую грудь. Кипой лежащих перед ним бумаг он помахал на разгоряченную шею и наконец проговорил:
– Могли бы пропустить в своей речи вытесняемый объем и рябь на воде, если планировали возить ее мордой по дну!
Ответом послужили смешки, в которых чувствовалось облегчение.
– В связи с увиденным, – продолжил магистрант, – в качестве итога еще раз процитирую строчку из диссертации: «… при определенных условиях, с применением соответствующих мер безопасности нечистую силу можно и нужно изучать методами, применимыми к любому другому животному организму, вплоть до… препарирования изучаемого объекта».
Господин Свиридов внимательно наблюдал за лицами. На сей раз реакция на его слова была другая, равнодушных лиц не осталось, как и скептических. Едва страхи остались позади, большинство ученых начали прислушиваться заинтересованно, а на некоторых лицах он с удовлетворением узнал выражение, которое не перепутаешь ни с чем: ученый азарт.
Из коридора потянулся приближающийся скрип. Марья Захаровна переступила крошечный, высотой с фалангу пальца, выступ на пороге с таким видом, будто перед ней воздвигли загон для домашнего скота. Теперь по полу за ней волочилась швабра.
– Напоследок хотелось бы сделать небольшое замечание по поводу терминологии, – сказал господин Свиридов, но тут же смолк. Ему в локоть ткнулась седая макушка. – Марья Захаровна, не ушиблись? – спросил заботливо. Он взял ее за плечи и легонько подтолкнул в сторону лужи. Та молча пошаркала заданным курсом, начав размеренно двигать шваброй перед собой. – По поводу терминологии, – повторил выступающий. – Термин «нечистая сила», на мой взгляд, следует считать устаревшим и вводящим в заблуждение относительно сути явления. Я призываю ученое сообщество начинать задумываться над введением в эксплуатацию нового термина.
– Вы слишком нетерпеливы, – с укоризной заметил декан, – давайте не будем бежать впереди паровоза. У вас все, господин Свиридов?
– В таком случае, у меня все.
Профессор Орлик наклонился к декану, шепнул что-то на ухо. Тот кивнул, обратился к магистранту:
– Господин Свиридов, вы не могли бы подождать в коридоре, нам необходимо посовещаться…
Потрясающая история! Раньше она нигде не печаталась с такими подробностями. Уверен, читатели оценят. Однако теперь я вовсе теряюсь в догадках относительно вашего неверия. Обросши деталями, эта история выглядит еще более убедительно, а профессора Орлика уж точно не заподозришь в пристрастии к сочинительству. Еще нелепей кажется мысль о мелочном сговоре уважаемых профессоров, ради… Ради чего?.. Честно признаться, я не понимаю, может быть, вы проясните свою позицию?
С удовольствием проясню (улыбается). Детали и правда убедительные, полностью согласен. Но вас они убедили в одном, а меня – в другом. Своих коллег я ни в коем случае в сговоре не обвиняю, достаточно было видеть лицо профессора Орлика, когда он прибежал ко мне наутро после диспута. Я напротив, первым выступаю в их защиту и утверждаю, что совет видел именно то, что видел. Но есть в той истории два момента, которые вызвали у меня вопросы еще прежде, чем профессор Орлик окончил рассказ.
Вот вам момент первый. Представьте, за окном темнеет, зал полон профессоров изрядно в возрасте, самому молодому на тот момент за шестьдесят, у всех без исключений проблемы со зрением. И в этих условиях вдруг принимается решение приглушить и без того скудный свет. Зачем? Нам объяснили, чтобы лишний раз не пугать… объект. Тогда возникает вопрос: а если объект испугается чуть сильней, господам профессорам станет его хуже видно? Или такой акт милосердия к нечистой силе? Дальнейшие события показали, с милосердием там изрядные проблемы.
Если позволите, мое предположение. Мне кажется, они опасались, что кикимора с перепугу начнет метаться по клетке. Плетеные ветки вряд ли выдержали бы удар всей тяжестью клетки о камень. Перевернись она, кикимора оказалась бы на свободе. А чем это грозит всем, кто рядом, сказать не могу, не моя компетенция.
Вы, сами того не ведая, остановились в полшаге от второго момента, который неразрывно связан с первым. Может быть, помните, в рассказе служащим острога вскользь была брошена фраза, цитирую: «…кикимора не может прикоснуться к можжевельнику».
Когда-то давно вышла в свет работа известного ботаника, некоего господина Лугового. Работа называлась «О свойствах можжевельника в применении его к нечистой силе». Два слова о самом господине ботанике: это человек, для которого в свое время нечистая сила стала настоящей страстью, как для какого-нибудь сумасшедшего собаковода его любимые собачки. Несколько лет назад ходили слухи, будто он отправился отшельником в леса, чтобы быть ближе к предмету обожания. Прослеживаются некоторые параллели с судьбой профессора Ирвинского, не так ли?..
Интересная деталь: господин Луговой с самого начала был ярым противником возникновения острогов. Он утверждал, что всякие конфликты с нечистой силой возникают от людского высокомерия, что человеку проще «скрутить» какого-нибудь лешего и бросить в клетку, чем выказать ему уважение, поклониться и попроситься в его лес. Все его воззрения мы, конечно, оставим за скобками, нам важно сейчас другое: некоторые его работы до сих пор включены в программу обучения на факультете знахарства в остроге! То есть, его авторитет как ботаника не подвергается сомнению в рядах служащих и учащихся тех мест.
Теперь, зная это, вернемся к его работе «О можжевельнике». В главе, посвященной болотным бесам, он на примере водяного слово в слово повторяет сказанное господином сторожем о невозможности соприкосновения с веткой можжевельника, в силу пока неизвестных науке причин. А далее он приводит интересную гипотезу: если поместить водяного в можжевеловую клетку и начать ее бесконечно сжимать, то и водяной внутри будет бесконечно уменьшаться в размерах. Такое вот необычное взаимодействие между телами, вспоминая господина Свиридова.
В той же главе находим еще одно любопытное следствие, вытекающее из загадочных свойств растения: автор пишет, что, если сплести из веток веник и хорошенько им отмахнуться, бес покатится кубарем без всякого ответного воздействия на веник. Вы понимаете, куда я клоню?
Кажется, начинаю догадываться.
В рассказе профессора Орлика после удара дубиной кикимора врезается в противоположную стенку с такой силой, что клетка чуть не падает. Попробуйте все же допустить на секунду, что конец диспута был не более, чем постановкой, спектаклем, к какому выводу в таком случае подталкивает эта деталь?
Не предусмотрели…
Не предусмотрели. Или не придали значения. Те работы доктора естествознания, господина Лугового, которые относятся непосредственно к ботанике, читали многие из профессоров. Работы, связанные с нечистой силой, не читал никто. На что, возможно, и был частичный расчет. Так получилось, что я прочитал. И указал на эти детали профессору Орлику. Должен заметить, спустя несколько часов разговора со мной, он был уже не так уверен, стоило ли накануне слепо доверять глазам.
И вот тут я совершил вторую ошибку, на сей раз роковую. Надо было со своей критикой незамедлительно выступить в общественном поле. Но я решил не поднимать лишнего шуму вокруг этой истории. Я решил, что достаточно переубедить членов совета, и те сами не захотят выносить сор из избы. Но тут уже подсуетилась ваша газета, весть мгновенно облетела все уголки нашей необъятной родины. Ваша работа, понимаю.
Результат предсказуем. Что это, как не признание, когда такой профессорский состав присуждает ученую степень за работу о болотной кикиморе?..
Хорошо, а как быть с временным помешательством профессора Воронцова? Вы подозреваете его в актерстве?
Ну что вы, упаси Бог. Профессор Воронцов натура крайне впечатлительная, мнительная. Что, разумеется, никак не отражается на его профессиональных качествах. Он вполне мог не выдержать напряжения, если принимал увиденное за чистую монету. Нечто подобное уже имело место быть, вспоминается один старинный случай, произошедший также в стенах университета… Нет, простите, зря я об этом заговорил, не будем ворошить личное. Профессор Воронцов вряд ли одобрит мою откровенность.
Как скажете. В любом случае, я не решаюсь дать окончательную оценку произошедшему без комментария из острога. Вы уж простите, но мне кажется невероятным, что кто-то способен на такие сложности ради степени магистра. Формулировка «крайняя степень одержимости» в этом случае прозвучит чересчур мягко.
Да никто же не говорит, что конечной целью была ученая степень, что вы, в самом деле. Степень – это лишь приятное дополнение для одного конкретного человека. Если посмотреть на все произошедшее внимательней, начинают мерещиться незримые ниточки, тянущиеся от господина Свиридова в тень, где их подергивают ловкие пальцы. Я думаю, господин Свиридов не более чем пешка, слабостями которой умело манипулируют. И сейчас поясню почему. Но сразу предупреждаю, я не собираюсь выдвигать голословных обвинений, считайте это пустыми домыслами частного лица.
Вы наверняка знаете, что содержание острогов оплачивается из казны, но вы даже не представляете, о каких огромных средствах речь. А я сел и подсчитал. И голова пошла кругом от одной только строительной сметы на этапе заложения острога. Гимназия с пансионом, университет, лаборатории, так называемые полигоны с воссозданием естественных природных условий, помещения для служащих, целая инфраструктура! Без всякого преувеличения развитый город, выросший на голом участке земли и окруженный деревянной стеной.
Построить еще полбеды, дальше необходимо содержать этот город, от которого в казну не возвращается ни копейки! Тут вам и четырехразовый рацион для всех без исключения обитателей острога, и оплата бюджетных мест учащихся. А средства, поступающие от платных учащихся, идут, разумеется, в бюджет острога и там уже распределяются на нужды учебных заведений и самого острога. Сюда же прибавьте выплаты стипендий, жалований преподавателям, профессорам, служащим, разные премии и так далее и тому подобное. Статей расходов там столько, что глаза на лоб лезут! А какова отдача?
Об этом вряд ли кто задумывался, но если суммировать всех, кто называет себя очевидцами нечистой силы, выйдет, вы не поверите, меньше одного процента населения! Вот вашему журналу лет уже больше, чем Верхнесеверскому острогу, хоть один человек из редакции может похвастать, что сталкивался с любым из бесов нос к носу?
Вы меня, признаться, немного огорошили. У нас, видите ли, специфика работы другая, есть случаи, когда корреспондент «Вестника» отправляется в потенциально опасные места. В журнале целая рубрика посвящена командировкам. Но и тогда, при первых признаках угрозы, корреспондент вынужден оставаться в стороне. В основном же наша работа заключается в общении с людьми, которым есть что о нечисти рассказать. Ходят слухи, наш главный редактор сталкивался.
Эдуарда Харитоновича знаю. Достойнейший, честнейший человек. Если бы кому-то пришло в голову спросить у него прямо, мы услышали бы правду, ни секунды не сомневаюсь. Нам не в чем винить Эдуарда Харитоновича, если никто не спрашивает (улыбается).
Такая вот математика, меньше одного процента. Даже если допустить, что очевидцы и вправду существуют, сколько бы к ним примешалось обыкновенных выдумщиков, каковые примешиваются везде и всюду? Цифру смело делим на два, а то и на три. Острогов, как вы ранее сказали, построено уже двадцать. Еще два строятся. Не велика ли на комара дубина? Масштабы явления просто поражают, это огромный паразит, который ведрами высасывает кровь из нашей экономики. Почему царь-батюшка не только позволяет существовать ненасытному паразиту, но еще исправно его кормит, для меня самая большая загадка нашего времени.
Со своей стороны замечу, если существует хоть отдаленная угроза жизни людей, считать деньги в таком случае было бы довольно цинично. Но мы с читателями вашу позицию поняли, мы ее уважаем.
По поводу числа очевидцев спорить не могу, у меня данных нет, но, судя по пачкам писем, которые приходят в редакцию, их количество неуклонно растет. А чтобы читатели после ваших слов не бросились отписываться от журнала, немного забегу вперед и раскрою маленькую тайну. Одно из наших писем, наконец-то, после долгих мытарств настигло особого попечителя острогов, Ивана Силантьевича, в окрестностях Лысогорска. И мы получили не только пропуск для одного из корреспондентов в Верхнесеверский острог, но и комнатку в доме для служащих сроком на месяц, и разрешение на участие в некоторых операциях в течение всего месяца!
Значит, будем с нетерпением ждать выхода номера.
В связи с этим вопрос, который мучил меня с начала беседы: если вы настолько не доверяете работе острогов, почему до сих пор не посетили ни одного из них? Ученым не нужно гоняться за разрешением самого попечителя, достаточно написать коменданту на месте – и путь открыт. Такая система действует последние лет десять, господин Дуров лично давал распоряжение не чинить препятствий ученым из любой области наук. Что же останавливает вас?
Я все гадал, когда спросите. На самом деле, мой ответ прост: не вижу в этом смысла. Мне совершенно неинтересно, что мне там покажут. А показывать они мастера, мы с вами убедились. Иными словами, пусть господа острожные хоть наизнанку вывернутся, я им не поверю.
М-м… что ж, имеете право и на такую точку зрения. Однако мы совсем позабыли о цели нашей встречи. Столько всего сказано, давайте напоследок хоть несколько слов о письме из села Межевое.
Как вам будет угодно. Вкратце напомним читателям содержание. Пишет молодой человек о случае со своим другом. Друг однажды отправляется в лес и встречает там девушку, как полагается, красоты неописуемой. Влюбляется, начинает ею бредить наяву, два дня подряд возвращается на то место, в надежде снова ее встретить. На третий день ушел – и ни слуху ни духу до самой ночи. Благо, полнолуние, ночь светлая, пошли всем селом искать. И нашли: сидит в лесу, на пенечке, молчит, никого не узнает, слова вымолвить не может, мычит только, будто язык отрезали. А с виду изменился так, что и не узнать: высох, постарел лет на тридцать, лицо все в морщинах. У парня-то в девятнадцать лет! Неделю его откармливали, отпаивали, надеялись, в себя придет. А когда ничего не помогло, отвезли в окружную лечебницу для умалишенных.
Читаю я письмо, и чем дальше, тем сильнее закрадывается ощущение, что где-то я нечто похожее уже видел. Все свои книги перерыл, пытался вспомнить, в чьей же работе я мог такое вычитать. В конце концов нашел: номер «Бесовского Вестника» за позапрошлый год, абсолютно аналогичный случай.
Вот как? К своему стыду вынужден признать, вы запоминаете наши истории лучше меня.
Деревня Лесная, в четырех верстах от села Межевого. То есть фактически то же самое место, а может и действительно то же, ведь мы не знаем, где конкретно в лесу произошли оба случая. Давайте я вам подыграю, и на минуту забудем, что я не верю в нечистую силу. Попробуем разобраться.
Сперва важно уяснить, что после смерти так называемые «нечистые» покойники сохраняют свой нрав, склонности, привычки и так далее. В острогах недаром учат о чрезвычайной важности сведений о поле погибшего, о его жизни и, чуть ли не самое главное, об обстоятельствах смерти.
После первого случая на место выезжала сыскная бригада тамошнего острога. Бригада пришла к единственному, на мой взгляд, возможному выводу: русалка. В селе были выяснены некоторые детали из жизни бедной девушки. Молодая невеста, собралась как-то по грибы, по ягоды. Когда с полным лукошком выбиралась по тропинке из леса, на полянке увидела, как суженый милуется с соседкой. Спрятались от посторонних глаз, что называется. Между прочим, на том самом пеньке. Через неделю несчастная бросается в омут.
Вам, наверное, интересно, откуда известны детали следствия? Конечно, у нас, простых смертных, в государственном архиве нет доступа к отчетам острогов. Но у меня есть хороший друг, который не отказал мне в просьбе.
Так вот, казалось бы, дело элементарное, как сотни подобных. Невеста кончает с собой от несчастной любви и после смерти наказывает неверных женихов. Но тут мы сталкиваемся с совершенно нетипичным поведением, что было также особо отмечено в отчете. Русалки обычно губят живых тем же способом, каким была оборвана жизнь их самих. (С улыбкой) Исключая щекотку до смерти, разумеется, у всех свои слабости. То есть, вы понимаете принцип: если девушка пропала без вести, то будет водить путника по лесу, если утонула – готовьтесь вылавливать утопленников.
Что мы видим здесь? Молодой, здоровый парень за считанные часы доходит до состояния полного истощения и теряет рассудок.
Собирая поверья из многих губерний для своей книги, я иногда встречал рассказы, как при встрече с русалкой человек умирает от истощения. Просто не может перестать слушать ее пение. Только слушать придется не три-четыре часа, сколько человек способен прожить без еды и без воды? И даже тогда молодой человек не превратится едва ли не в старика.
То же самое с потерей разума. По сообщениям из некоторых уездов, были случаи, когда единожды поцелованный русалкой сходил с ума от тоски и кончал жизнь самоубийством. Но, опять же, события разворачивались не за один вечер. И конец в любом из двух вариантов всегда один. Наш же страдалец остается жив. Иными словами, случай вообще из ряда вон. В отчете сыскной бригады он так и проходил с пометкой «Неординарное поведение. Рекомендуется для дополнительных исследований в стенах острога».
И тут, спустя больше года, перед нами точное повторение трагедии. Причем в той же местности. Что это, рецидив? Предположение закономерно, да вот незадача, как выяснилось, та русалка до сих пор содержится в остроге. Отсюда напрашивается всего два вывода. Может быть, вы предложите один из них?
Не того взяли. Бригада ошиблась с выводами и виновный остался на воле. И продолжил вредить.
Я знал, что вам придет в голову именно этот вывод. Тогда вот вам второй: населенные пункты находятся рядом, все друг друга знают, и перед нами просто-напросто одна и та же местная байка, рассказанная с разницей в год! Вероятней всего автор более позднего письма не знал, что до него уже писали в редакцию!
– Хм… Да, звучит более чем разумно…
(Смеется, откинувшись в кресле) Простите меня за этот маленький спектакль. Мужчина до старости остается ребенком, вы же знаете. Я хотел сразу высказать свою догадку, но не смог отказать себе в удовольствии немного попаясничать. Еще раз простите!
(Улыбаюсь) Вы поставили в неловкое положение всю редакцию… Что ж, вот и обсудили письмо… Может быть, вкратце, какие действия следует предпринять при встрече с русалкой?
Они все описаны в моих «суевериях». Первое, что надо помнить, иногда достаточно просто не откликаться на зов русалки, и в большинстве случаев она бессильна будет что-либо сделать. Но, как мы знаем из поверий, удержаться практически невозможно. В таком случае вам в помощь подручные средства, как то: крапива, любисток, полынь, ветка осины. Отмахивайтесь ими наотмашь, и она бросится наутек. Если в пределах видимости растительных оберегов нет, очень сильным средством является крест. Чертите крест на земле, обводите его кругом и стаете внутрь. Русалка походит, походит вдоль черты, да и потеряет к вам интерес. Потом бегите, бегите что есть мочи. Если есть нательный крест – на бегу перебросьте его за спину, тогда не сможет схватить вас сзади. Если по пути попадется поле – бегите поперек резок, русалки с большим трудом пересекают межу.
Нелишним будет заранее взять с собой в лес головку чеснока, булавку или иголку. Стоит легонько уколоть русалку, она с воплями бросится от вас в воду. А дальше вы знаете – бегите.
Есть также мнение, что русалки боятся ведьм, и стоит изобразить ведьму на метле, они бросятся от вас врассыпную. Небезызвестный профессор Зеленский считает, что у нас нет достаточных оснований доверять этому мнению, и я склонен с ним согласиться. Но если вдруг вы попробовали, и у вас получилось, дальнейшие шаги вам известны – бегите. (С улыбкой) А кто, как я, в существование нечисти не верит, тот может просто не забивать себе голову и наслаждаться природой да ароматами черемухи!.. Вот, собственно, и все, что я хотел сказать.
Ну что ж, «бежать» и «не забивать себе голову» советует нам доктор филологии Аркадий Наумович Фролов, и прежде, чем мы разбежимся каждый по своим делам, последний вопрос: над чем-нибудь сейчас работаете?
Как вы, наверное, заметили, в последнее время я сильно озабочен вопросом острогов и в данный момент работаю над книгой, в которой расследую феномен этих… организаций. Рабочее название книги «Афера столетия». Такое вот недвусмысленное название.
Уверен, редакция «Вестника» не оставит без внимания выход книги. Спасибо за крайне интересную беседу, всего хорошего и творческих успехов!
До свидания.
1
Далее курсивом моя переработка рассказа. Все факты соблюдены в точности, печатается с одобрения и разрешения автора. – Б.В.