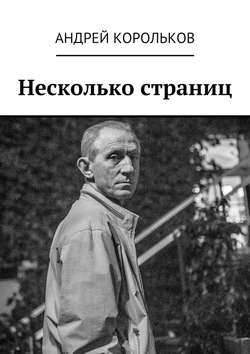Читать книгу Несколько страниц - Андрей Корольков - Страница 4
Круги на воде
Оглавление«Он и в Африке – слон…»
Он и в Африке – слон,
и, наверное, был на примете,
(разумеется, бивни), короче: уснёшь на посту —
непременно убьют, и душа, белоснежная в свете,
не спеша отлетит и, клубясь, наберёт высоту;
и среди облаков, и – легка, устремится на север,
собирая незрелые звёзды во влажную горсть:
только там и тогда пожинаешь и то, что не сеял,
где луна тяжела и желта, как слоновая кость.
И поэтому утром осенним, сырым и туманным
над равниною русской пойдут затяжные дожди…
Пошуруй хорошенько
по книгам, углам и карманам,
кое-что обретя, до сельпо до родного дойди.
Перестала давать (тьфу ты, Господи – в долг!)
продавщица младая
в том сельпо, куда ты
поспешаешь (опять же – селом),
волоча сапоги и по Фрейду лениво гадая,
отчего тебе ночью, к примеру, привиделся слон?
А чего тут гадать? Уж и то хорошо, что не черти,
ведь известно, что ты никогда не гнушался вина.
Вот и выпей стакан. Закури. И подумай о смерти.
А не хочешь, не пей: просто так посиди у окна.
1994
Покров
Сегодня светлый праздник Покрова.
Я торопливо собираю вещи:
резной хомут и золотые клещи,
берет на плешь и руки – в рукава.
И вот – благоухающий подъезд,
а там сосед, хронически поддатый,
и на сакраментальное «куда ты?»:
– Куда? Туда! В пределы неких мест!
Где те же травы, те же дерева,
не благо иго и весомо бремя,
где точно так же истекает время
и где сегодня праздник Покрова;
где я, отнюдь не будучи здоров,
вполне причастный времени и праху,
почти сниму последнюю рубаху:
уже сегодня упадёт покров!
Ещё на мне никто не ставил крест
(хотя идея в воздухе витала),
но час назад меня уже не стало,
уже я там, в пределах неких мест,
где точно так же воют провода,
и точно тот святый и крепкий Боже…
Ребята – всё, решительно всё то же.
Но снег ещё не тронут. Ни следа.
1991
«Потеплело, и щепочка лезет на щепку…»
Потеплело, и щепочка лезет на щепку.
Вот из лужи прохожего обдало…
Я пойду в магазин и куплю себе кепку,
и она мне пойдёт, как корове седло.
Променяю все ваши на эту заботу,
на рассвете покину родительский кров:
как последний дурак, поплетусь на работу,
где баклуши я бью и седлаю коров.
А ведь, кажется, помню: какая-то лошадь
(боевая, наверно… Конечно, она!)
выносила меня на широкую площадь,
и – здорово, ребята!.. А там – тишина.
И с тех пор по дороге иду пригорюнясь,
вечерами домой, на работу – с утра,
всё по той, по которой прошла моя юность,
не скажу, что давно, но давно бы пора;
я киваю в ответ придорожному злаку,
я не знал и не знаю, не быть или быть,
я ещё не решил, покупать ли собаку:
не уверен, что я её буду любить.
1994
«Почему-то на ранней заре выгоняют коров…»
Почему-то на ранней заре выгоняют коров…
Вот выходим и мы с председателем
в чистое поле:
– Как дела, литератор?
– Спасибо. Конечно, здоров.
Я вчера отпустил свою душу на волю.
Как меня отпустили на волю марксизма тома,
отпустила красавица из параллельного класса,
как Его, наконец, отпустила кромешная тьма,
отступившая после девятого часа;
как метавшие жребий, пардон, воротили носы,
недовольны весьма (как одеждой)
лохмотьями теми,
или, скажем, как мы без конца переводим часы,
и нам голую задницу кажет прошедшее время.
Дорогой председатель! Давай изопьём молока!
Совершенный обломок
совхозно-колхозного строя,
изопьём по одной за того племенного быка
и за красное солнце над тою зелёной горою!
Дорогой председатель, моя отлетела душа,
наливаются кровью неясные даты и числа,
но, представь, и сейчас за душою моей ни гроша:
только лёгкая тень
наконец обретённого смысла.
1990
«О, дорога от дома к метро по утрам…»
О, дорога от дома к метро по утрам,
и, естественно, наоборот – вечерами,
что едва ли подобна небесным дарам,
(как иконе – лицо в позолоченной раме):
на корявом асфальте скопление вод,
фонари – не того, и довольно опасно,
до беды и до слёз довела бы, да вот
а потом-то куда? Совершенно не ясно.
Потому что никто не глядит из окна,
ни со стен крепостных, ни с каких колоколен,
и, всего вероятней, не будет кина:
как ни странно, механик действительно болен;
а давно бы пора обратиться к врачу,
потому что не только дороги раскисли,
но привычная ноша невнятна плечу,
и всего интересней – дурацкие мысли.
А дорога пуста, будто песня без слов,
когда просто мычишь за гармонью унылой, —
ничего от себя, лишь основы основ:
что-то вроде «спаси, сохрани и помилуй»…
1992
«Горбатый мостик. Обводной канал…»
Горбатый мостик. Обводной канал…
С чего-то злоба дня заговорила:
подкинула сравненье, что перила
горбатого моста черны, как нал.
А я совсем не разбираюсь в нале,
поскольку тёмен, как вода в канале,
отчасти лыс и нищ не по летам:
я даже в Турцию ни разу не летал,
не говоря о Лондоне, Париже.
Я много ездил. Но гораздо ближе.
Лишь в этих водах отражаюсь я
в придачу к облакам, растрёпанным, как вата.
Плывёт какой-то водоросли прядь:
не помню, что такое кисея,
но и смотреть на это страшновато.
Но то – смотреть, а ежели – нырять?
Ныряют утки. Правда, не с моста.
И для Москвы их тут довольно много.
А справа, слева, поверху – дорога,
и – бить начнут, не скажешь: красота!
Но вот гранит ступеней – что скрижаль,
над головой, почти что сразу, – небо.
А главное, я тут ни разу не был,
хотя сто раз, наверно, проезжал.
2010
Питер
Сказать, что всё не так?
Посетовать? Поныть,
что вот опять сравнение – не в пользу?
Что даже нимфы в Летнем встали в позу,
чуть не порвав связующую нить:
– Ты кто такой?
Литейный стал прямей…
Я по нему иду седой, усталый,
и из-под закустившихся бровей
высматриваю то, чего не стало,
и по всему выходит, что – меня.
А город что ж? Ему плюс-минус тридцать —
плюс-минус ничего.
Петрова пятерня,
не то что б над, но – бывшею столицей
по-прежнему простёрта в никуда:
чуть выше – небо, понизу – вода,
в которой отражаются фасады.
Ограда упомянутого сада
блестит от сырости, сочащейся с небес,
и под рукою подаётся дверца
туда, где я бы мог оставить сердце…
И я оставил сердце. Но не здесь.
2012
«Улица имени Первого Мая…»
Улица имени Первого Мая…
Как ни тужилось время, а всё на местах,
и, наверное, та же Анюта хромая
собирает пустые бутылки в кустах.
Всё на месте, и крыть, разумеется, нечем:
будто та же галдит во дворе детвора,
даже если густой опускается вечер
в неподдельную темень и сумрак двора,
где и в жаркую пору жары не бывает,
и – в любую погоду – домашний уют;
мужики постепенно козла забивают
и поэтому к ночи едва ли забьют…
И всё так же, отставивши благоговейно
заскорузлый мизинец, лицо к облакам
поднимают покорные слуги портвейна,
осушая гранёный Анютин стакан.
Домино. Перезрелая вонь магазина.
Завывают качели: не смазан крепёж.
Время тянется, будто сырая резина,
и к рукам прилипает, и не отскребёшь.
Так и было. Но портит картину Анюта,
никому не дававшая пить из горла,
ведь она, из чего ни была бы согнута, —
человек и, лет десять назад, померла.
1991
«Я живу на отнюдь не Садовом кольце…»
«Какой город стоит на мягком месте?»
Детская загадка
Я живу на отнюдь не Садовом кольце,
я французский язык изучаю;
нехорошие тени лежат на лице:
это я по Парижу скучаю.
Сохну так, что как жив до сих пор, не понять,
и хорошего в этом не вижу:
мне бы только на евры рубли обменять,
и я тут же рвану до Парижу.
К их каштанам от этих дурных тополей
и от лета, почившего в пухе.
Зажирею. И стану настолько белей,
что пиджак не сойдётся на брюхе.
И потянет француженок пообнимать…
Я за то – провалиться на месте —
зарекусь их парижскую Божию мать
поминать в неприличном контексте.
Ведь и русскому сердцу Париж как des ailes,
как – воистину – ложка к обеду…
Ах, зачем вы так нервны, мадемуазель!
Может, я вообще не приеду.
Я – легко может статься – погиб на посту
(entre nois: я стоял на защите).
Где-ни-то-как-нибудь присобачьте плиту
и чего-же-нибудь напишите:
мол, такой-то откинулся, ёж его медь,
но, увы, у себя во славянах,
так как рылом не вышел валюту иметь,
а равно и простых, деревянных;
неизвестно, умел ли он сеять и жать
или мыкался флагом на мачте,
но считал, что над Сеною лучше лежать:
веселее, а главное – мягче.
1991
«Я кругами хожу. Я лечусь наложением рук…»
Я кругами хожу. Я лечусь наложением рук.
Если мелочь – к слезам,
то к чему снятся ихние баксы?
Опишите мне время, и если получится круг,
не сочтите за труд,
перешлите картинку по факсу:
там семнадцать мои. Остальные – неведомо где…
– Подержите арбуз! —
И прохожий разводит руками.
Разведённые руки, как будто круги на воде,
над которыми синь, чуть подёрнутая облаками.
И прохожий идёт, разведёнными руки держа,
по московским кругам,
по садовым и литерным кольцам…
И спросить бы ещё, да ушёл он далёко deja.
Потому что француз.
У него и фамилия – Гольцман.
О московские кольца! Линючи на вас тополя!
А возьмись убирать,
так за те же семнадцать не свёз бы…
Опускается пух на зыбучие камни Кремля
и летит над рекою, где плавают красные звёзды.
Опишите мне время, пока я иду по кольцу,
или, как иногда говорят, окажите услугу,
ибо мне одному неизвестно, к какому концу
приближается время, бредя по такому же кругу.
1994
«На простом языке слесарей по ремонту а/эм…»
На простом языке слесарей по ремонту а/эм
о весне закричали грачи на высокой берёзе;
вот и я выползаю из дома (неважно зачем),
но, поднявши главу,
замираю в немыслимой позе,
потому что сугробы значительно выше колен,
да и солнце в глаза, и любое движенье излишне.
Вон горят колокольни уездного города N,
а звонят ли к обедне,
отсюда, конечно, не слышно.
Да и видно-то плохо, поскольку сии города —
на три четверти пьяные слёзы
в гранёном стакане,
и когда электрички уходят незнамо куда,
остаются в округе всё те же грачи и цыгане.
Этот необитаемый остров почти что ничей.
Обитаем условно. И не исчисляема паства.
Только солнце и снег. Нецензурные речи грачей.
Ну, берёзы да избы.
А в общем, пустое пространство.
1994
«Это место – какой-нибудь северный порт…»
Это место – какой-нибудь северный порт,
замечательный тем, что туда – прибывают
и что там даже злые собаки не лают,
потому что за всех отдувается норд;