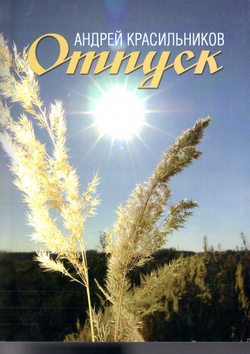Читать книгу Отпуск - Андрей Красильников - Страница 2
Часть первая
Глава первая
Оглавление1
Давно он не видел такого широкого небосвода, не разорванного по краям силуэтами домов, лесов, гор и прочих творений природы либо рук человеческих. Со всех сторон его окружили стенки перевёрнутой полой чаши чистейшей голубизны с маленькой круглой прорехой наверху, похожей на яичный желток, откуда исходили свет и жар. Под ногами один песок, белёсый, блестящий иногда кристалликами кварца и очень горячий. Водная гладь, мелькнувшая между лысых холмов с чудом зацепившимися за их края пучками занесённых ветром трав, подёрнута лёгкой изумрудной рябью. До холма ещё идти и идти, выдёргивая ноги из зыбучей россыпи, аккуратно обходя торчащие куски металла. Даже здесь, в этом райском уголке, земля щетинилась толстой проволокой, усищами арматуры, ржавыми штырями и скрученными обломками труб. Нет, живи ещё хоть четверть века, хоть четверть тысячелетия и даже дольше, ничего другого тут не увидишь. Не в силах изгадить небесную высь, слепящий солнечный диск и мировой океан, человек обрушит свою злобу и ненависть на красоты природы и постепенно превратит всю Богом данную планету в одну смрадную помойку с небольшими оазисами для избранных. Будут летать межгалактические звездолёты и персональные компактные аэропланы, наручные часы вберут в себя компьютер, телефон, телевизор и ещё невесть что, генная инженерия, ремонтируя клетки, продлит на века жизнь мозга и тела, но под ногами всё так же будет сплошная грязь, использованная тара и ненужные вещи.
Вокруг никого. Лишь птичий базар, перемещающийся с одного песчаного хребта на другой. Но и он далеко. Только одинокие чайки кружат над водой, высматривая пропитание.
Он не был здесь семнадцать лет, но ничего не изменилось в знакомом пейзаже. Перекроилась карта мира, исчезли апартеид и ленинизм, появились компьютеры, факсы и сотовые телефоны, всю землю опутал незримой паутиной интернет, наступило новое тысячелетие, а вырытый несколько десятилетий назад и заполненный прозрачной водой песчаный карьер нисколько не утратил свой облик и словно не заметил случившихся перемен. Те же отмели, те же дюны, тот же птичий гомон, то же ощущение центра мироздания, та же картина опоясывающего горизонта, та же раскалённая сковородка под ногами и то же жалящее лучами светило над головой.
Помимо мусора попадаются и крупные голыши, обломки твёрдых пород, причудливые окаменелости. В некоторых – вкрапление бирюзовых блёсток, иногда – следы чьих-то лап и клешней. И вся цветовая гамма как на ладони.
Земснаряд продолжает намывать песок. Кто управляет им – Бог весть, этого никогда не видно. Вдруг что-то начинает урчать, потом журчать, сверху вниз устремляется пенистый поток, потом всё внезапно затихает, словно в чертогах Черномора. Кому это нужно теперь? Впрочем, видно вдалеке, как гружёные составы увозят по одноколейке сероватые пирамиды. Значит, теплится ещё какая-то жизнь на стройках, значит, бетон не тащат пока из Новой Зеландии, как сливочное масло, или с Кубы, как картофель.
Он должен был добраться сюда. Хотя бы один раз. Именно это место вырисовывалось отчётливей всех в дымке воспоминаний детства, юношества. Исколесив полсвета, он часто видел его во сне и не мог не взглянуть наяву. Хотя и понимал: вернуться – значит потерпеть полный крах, значит признать конец чудесного плавания по иным далям. Любимое место, став символом нелюбимой эпохи, и манило и пугало. Посетить его мимоходом нельзя, сюда можно прийти только насовсем, а та, другая жизнь, как дикий скакун: если сбросит, то навсегда, больше не даст себя оседлать. Хорошо, когда есть где утешиться, но лучше не испытывать чувств, требующих утешения.
Впереди последний холм. Подножье, похоже, сдалось залётным семенам и усеяно разнотравьем. Даже цветы какие-то растут. Верно: и ромашки тут, и фиалки.
За холмом раньше была небольшая излучина. Неужели земснаряд её не уничтожил? Откуда же тогда сосёт он свою пульпу? Да, цела. Ну и чудеса!
Ещё совсем недавно он одним росчерком пера мог остановить, вышвырнуть отсюда вон бессмысленную дедовскую машину и прибрать к рукам эти просторы. К своим рукам, к которым и так прилипло немало, в сто, тысячу раз больше. Но то ли забыл, то ли не решился… Сейчас уже всё равно.
Теперь можно бросить велосипед, нет-нет да и бьющий педалями по ногам, можно скинуть с себя всё, абсолютно всё, плюхнуться навзничь в песок и принять в бледную плоть несмываемую бронзовую краску. Полежишь так дня два-три – станешь ходячим памятником.
Очень хочется пить, но позволять себе такие слабости нельзя. Лишь перед обратной дорогой. Иначе вся бутылка уйдёт в считанные минуты. Терпеть, терпеть и не думать о жажде!
Кажется, маленькая точка на воде движется именно сюда. Для рыбы или нутрии великовата. Опытный глаз ищет вокруг следы присутствия подобного себе существа. Так и есть: метрах в двухстах валяется велосипед. Складной, дорожный, без верхней рамы. И лежат какие-то тряпки, а из-под них торчат носки не то вьетнамок, не то сандалий – поди разбери на таком расстоянии.
Нужно подождать, пока точка превратится хотя бы в пятно, и будет понятно, кто осмелился нарушить его одиночество. Планы он менять, конечно, не будет, но и место под солнцем выбрать не спешит.
Да, ничто не изменилось с тех пор. Плывёт, несомненно, девица. Вдруг опять хорошенькая? Нужно подойти ближе. Это только большое видится на расстоянии, а красивое – лишь вблизи.
Он продолжает свой путь. Уже без велосипеда в руках. И без футболки. Они остались на песке. И вот вода у самых ног. Он присаживается на корточки и пробует её рукой. Тёплая. Ласковая. Чистая. Видно дно, ракушек, снующих мальков. Это явно лишнее: значит, скоро жди здесь рыбаков.
Девица приближается к берегу. Она может отклониться правее, в сторону своей поклажи. Но её почему-то тянет прямо на него. Место тут глубокое, встать на ноги до последнего гребка не удастся.
И вот она выходит. Между ними метров двадцать, не больше. Юная, загорелая, особенно руки, плечи и ноги.
Господи, неужели она?! Нет, такого быть не может. Небо, солнце, вода, песок не меняются годами, веками, эпохами, а человек обязательно постареет за семнадцать лет.
– Здравствуйте, – слышится над головой.
– Люба? – неуверенно спрашивает он, понимая глупость вопроса.
– Вы, наверное, знаете мою маму? – удивляется девица. Она не торопится вытереться и одеться. Впрочем, в такую жару это совсем не обязательно, а последний стыдливый покров был при ней и в воде.
Вот в чём загадка! Она похожа на мать и понимает это. Семнадцать лет назад так выглядела другая девушка, а сейчас перед ним её дочь. Не дочь даже, а точная копия.
– Меня Мирра зовут. Я в Московском живу. И на улице Московской.
Всё правильно – она. Почти соседка. А познакомились в шести километрах от дома.
– Вадим Сергеевич. Между прочим, у меня дача тоже в Московском и тоже на Московской.
И посёлок и улицу давно переименовали, но особым шиком у местных считается пользоваться старой топонимикой. Так в России принято почти везде. Коренные вятские никогда не назовут свой город Кировом. И для истинного москвича Немецкая, на которой родился Пушкин, связанная с историей Петра, никогда не будет носить имя ветеринара, случайно убитого в уличной драке.
Девушка удивлена:
– Почему же я вас раньше не встречала?
– Наверняка встречала, только внимания на старика не обратила.
– Да будет вам! Какой же вы старик? Мне вообще солидные мужчины больше нравятся, – кокетливо отвечает она напрашивающемуся на комплимент незнакомцу. – Наверное, вы недавно дачу купили? У нас теперь часто продают.
– Я здесь с самого рождения. Но давно не приезжал. Целых семнадцать лет некогда было отдохнуть.
– Семнадцать лет! – восклицает она. – Тогда понятно. Мне только шестнадцать на Троицу исполнилось.
А не скажешь. Выглядит намного старше. На девятнадцать уж точно. Впрочем, в сорок пять такая разница не кажется существенной.
– Как поживает мама? – не задать такой вопрос невежливо, раз открылось, что они знакомы.
– Хорошо. Недавно уехала на юг. В отпуск. Я одна осталась.
– Значит, и отец вместе с ней?
– Отец нас давно бросил. Я его совсем не помню. Бабушка только изредка заезжает. Она в Москве живёт.
– Учишься или работаешь? – с дочерью старой знакомой незачем церемониться: обращаться к ней, конечно же, надо на ты.
– В одиннадцатый класс перешла. Скука жуткая!
Откровенный ребёнок. Во всём. И стоять перед ним в одних трусиках не стесняется. Впрочем, мы всё-таки Европа, а не Азия. Хорошо, что молодёжь это понимает. Да и он ведёт себя как европеец и не очень-то разглядывает её тело. Оно ведь, как у матери. Он его наизусть помнит.
2
Она давно мечтала о такой романтической встрече.
Не знала только, с кем она произойдёт. Обычно ей рисовался в воображении высокий статный джентльмен лет тридцати – тридцати пяти, пытающийся подъехать к пляжу на «Мерседесе» и застревающий в песках. Одному ему машину не вытолкнуть, рядом ни души. Он начинает звонить по сотовому в сервис, но не может объяснить дороги: сам здесь в первый раз. И тут появляется она. Притаскивает две доски, оставленные рыбаками в камышах: ему бы ввек не найти. Подкладывает под колёса. Он садится за руль, она толкает машину. С десятого, нет, с двадцатого раза «Мерс» сдвигается с места. Они на радостях лезут вместе в воду. И там он начинает её целовать.
Всё прошлое лето рвалась она на пляж, но лишь в середине июля распогодилось настолько, что можно было на что-то рассчитывать. Ни единого погожего денёчка не пропустила. Увы, ни одна рыбка не клюнула. И даже рядом не проплыла.
Этой весной она стала встречаться с мальчиком. Он ей нравится, он умный, обходительный, с ним хорошо и спокойно, и всё же солидный мужчина не выходит из головы.
Днём кавалеру не до неё. Решает задачки, готовится к поступлению в институт. Свидания у них по вечерам. Прогулки в лес. Как у старушек: на сон грядущий, чтобы пилюлю лишнюю не принимать. Она, конечно, всё понимает: у человека судьба решается. Из Толика может получиться хороший муж. Но под венец ей ещё рановато. Жизнью хочется насладиться. Сполна насладиться. Пока есть ещё свободное время. Пока никому ничем не обязана. Вот и тянет опять на пустынный пляж, где можно ни души за день не встретить. Зато если встретишь – совсем другая картина, чем в толчее у соседнего озера, где друг через друга перешагиваешь, чтобы до воды добраться.
Уже целую неделю стоит жара, иногда приманивающая сюда людей. За год она поумнела и понимает, что на «Мерседесе» и метра по здешнему песку не проедешь. Коль и найдётся такой сорвиголова, то застрянет на дальних подступах к карьеру. Тут и джипу не пройти. Высматривать нужно дорогой маунтинбайк. И не придумывать заранее никаких сюжетов. А он пусть будет просто симпатичный, не молодой, но и не очень старый, главное, из другого мира, куда самой ей просто так не попасть. Есть же этот другой мир, где люди не так едят, не так пьют, не так одеваются, не так говорят и даже любят не так, как окружающая её серость. Толик обязательно в этот мир прорвётся и её с собой возьмёт. Но ему ещё надо в университет поступить, выучиться, себе дорогу проторить. Сколько же ждать придётся? Годы! Да она уже через несколько месяцев с ума сойдёт, если ни разу не побывает, хотя бы недолго, в том заманчивом зазеркалье, которое показывают каждый день по телику, расписывают во всех красках в книгах и журналах! Тогда уж лучше совсем не жить. Войти в воду и не выходить. Хоть рыбкам удовольствие доставить.
Но, кажется, сегодня её терпение и упорство вознаграждены. Это несомненно он. И велик классный. И сам такой энергичный, подтянутый. С виду не меньше сорока. Это даже лучше. Наверняка, положения хорошего достиг, хозяин, а не менеджер какой-нибудь. Позволить себе в четверг в середине дня не спеша вышагивать по дикому пляжу может либо хозяин, либо бездельник. На бездельника явно не похож: выправка не та. Бездельника издалека видно: разгильдяйская у него походка. А тут – пружинистая, уверенная, сосредоточенная.
Надо действовать. Лучше заговорить первой. С чего начать? Да чего тут мудрить! Поздороваться, а после ответа представиться, адрес свой сразу назвать. Мужчины, хоть и наивные существа, такие намёки хорошо понимают.
– Здравствуйте.
– Люба?
Ну и дела! За мать её принял. Она действительно на неё очень похожа. И всё-таки не очень приятно, когда тебя путают с женщиной, которая старше на двадцать лет.
– Вы, наверное, знаете мою маму?
Молчит. Может, ещё на кого-нибудь подумал.
– Меня Мирра зовут. Я в Московском живу. И на улице Московской.
– Вадим Сергеевич. Между прочим, у меня дача тоже в Московском и тоже на Московской.
Похоже, клюнул. Уже проводить собрался. Как же он там отвертится? Не надо ставить его в глупое положение. Мужчины такого не прощают. Расставим сразу все точки над i:
– Почему же я вас раньше не встречала?
– Наверняка встречала, только внимания на старика не обратила. Прекрасно! Теперь можно выдать главную тираду:
– Да будет вам! Какой же вы старик? Мне вообще солидные мужчины больше нравятся.
Но надо вернуться и к главному вопросу, не давая сменить тему:
– Наверное, вы недавно дачу купили? У нас теперь часто продают.
Мяч на его стороне. Пусть отбивается.
– Я здесь с самого рождения. Но давно не приезжал. Целых семнадцать лет некогда было отдохнуть.
Ничего себе поворотик!
– Семнадцать лет! Тогда понятно. Мне только шестнадцать на Троицу исполнилось.
Значит, действительно с мамой спутал. Небось, за ней в молодости приударял.
– Как поживает мама?
Так и есть. Иначе зачем бы спрашивал.
– Хорошо. Недавно уехала на юг. В отпуск. Я одна осталась.
Теперь-то поймёт, наконец, куда она клонит?
– Значит, и отец вместе с ней?
Всё ясно: мать не может забыть. Выясняет, есть ли кто у неё.
– Отец нас давно бросил. Я его совсем не помню. Бабушка только изредка заезжает. Она в Москве живёт.
Нет, нет никого во всём доме. Заходи когда захочешь. Делай что хочешь.
– Учишься или работаешь?
Ну ты даёшь! Про отметки ещё спроси.
– В одиннадцатый класс перешла. Скука жуткая!
Вот так! Нечего больше об этой дурацкой школе говорить.
Молчит. И смотрит куда-то в сторону. Может, смущается.
– Ничего, что я в таком виде?
Наконец на грудь взгляд уронил. Но недолгий. Неужели не нравится?
– Я уже привык. Там, где мы обычно отдыхаем, все женщины ходят topless.
Значит, из загранки не вылезает. Ценный кадр! И каким ветром его сюда задуло? Что ж, наглеть так наглеть!
– А загораю я вообще-то без трусиков. Купаться в них приходится: вдруг какой-нибудь маньяк пройдёт по берегу и утащит, пока я в воде.
– Сегодня можешь не бояться: я покараулю.
Класс! Надо сразу же ловить на слове.
– Вот спасибо. Держите.
Раз, два и готово! Сначала нужно их отжать, потом сложить. И протянуть с улыбкой, на ладошке. Ну а дальше – снова в воду. Пусть сам теперь решает, что делать.
3
Девятнадцать было той девушке, когда они расстались. Собственно, и расставанием это трудно назвать: кончилось лето, он вернулся в Москву, закрутился, завертелся, а потом как закружила его карусель: перестройка, гласность, демократизация, выборы, путч, приватизация… И пошло-поехало. Какая там дача!
Нет, без дачи не обошлось. Но этим словом назывался дворец, с прислугой, правительственной связью, огромным садом, высоченным забором, охраной. Там романы заводить не с кем. Там и мать родную забудешь.
Теперь он снова здесь. Очередной зигзаг судьбы оказался круче обычного. Раньше его тоже сбрасывали с парохода. Но он выплывал, догонял и залезал опять на борт как ни в чём не бывало. Не утонул и сейчас. Только быстроходное судно уже далеко. Приходится причаливать к старому берегу.
Дожил, что оказался в отпуске. Не в краткосрочном, среди коллег и соратников, в центре всеобщего внимания, с ежедневными докладами помощников и совещаниями, коллективными развлечениями и приездами разных делегаций, а в самом заурядном, обывательском. В старом родительском доме, где уже не понятно, кто хозяин.
Раньше ему здесь нравилось, было очень интересно. Он долго испытывал тягу к этому странному местечку, где спокойно уживались учёные и торговки, отставники-офицеры и водопроводчики, писатели и безработные алкоголики, где о людях судили не по званиям и профессиям (их редко кто знал), тем более не по доходам, а по умению ладить с соседями, воспитывать детей, чинить изгородь, ухаживать за зеленью между дорогой и участком, не отлынивать от всеобщей добровольной повинности сдавать сухое сено местному колхозу. Хочешь не хочешь, а десять килограммов накоси, профессор ты или лауреат. И ведь косили! Те из школьных товарищей, кто имел свои дачи, жили, как правило, в кругу равных себе по социальному положению, за большим общим забором, со сторожем и широченными воротами, куда не только автомобили чужие не пропускали, но и пешему не пройти. Он же оказался в чудно́м посёлке, где селились все кому не лень. Большинство жило здесь постоянно и косо смотрело на летние наезды из столицы благополучных с виду людей, пользовавшихся невиданной по тем временам роскошью иметь две жилплощади. Понятия о справедливости были тогда совсем пещерными: если у соседа на шкуру больше, чем у меня, значит, он плохой человек. Взрослые, особенно женщины, не отказывали себе в удовольствии поворчать на тему избыточных привилегий. Чаще всего это происходило в часовых очередях за продуктами в местном подобии гастронома с неизменным портретом вождя мирового пролетариата в окружении липучек, усеянных навсегда завязшими на их коварной поверхности мухами. Всегда находилась баба, начинавшая причитать: «Понаехали из Москвы, вот и стой теперь за молоком до вечера. Надо им совсем запретить в наш магазин ходить». Переждав длительный гул одобрения, какая-нибудь невоздержанная гражданка интеллигентного вида обязательно подливала масла в огонь: «А вы тогда в наши не ездите. Там тоже очереди большие из-за приезжих». Тут и возникало противостояние стенка на стенку. К домовладельцам присоединялись дачники, то есть сезонные арендаторы, на которых неплохо наживались постоянные жители, их же и ненавидевшие. Общий контингент москвичей имел летом изрядное преимущество над местными. Кончалось тем, что от тех и от других доставалось нерадивой власти: ведь по её вине прилавки пусты и за всем приходится мотаться в столицу. То ли дело при прежних правителях: в любом магазине мясо лежало. В толпе ни разу не обходилось без провокатора, уточнявшего: по карточкам. Начинали выяснять, сколько лет длилась карточная система, кто её ввёл и кто отменил. Более смелые, достигшие почтенного возраста и имевшие моральное право на такую крамолу, вспоминали, что при царе и продуктов на всех хватало, и деньги у каждого водились, и карточек никто отродясь не видал. Тут все смолкали, потому что упоминать в ответ Гришку Распутина, Ленский расстрел и Кровавое воскресенье вроде бы не к месту, а других аргументов ни у кого обычно не находилось.
Стоя с мамой в очереди, можно было изучить новейшую историю без всякого учебника.
Но самым колоритным местом считалась керосиновая лавка, как называли по старинке поселковый хозяйственный магазин.
В правом дальнем углу, не защищённый никакими средствами противопожарной безопасности, стоял огромный открытый чан, откуда мерным литровым черпаком (был ещё и пол-литровый), приговаривая вслух количество налитого, продавец наполнял канистры и прочие ёмкости покупателей. Две стены, отделённые от посетителей углообразным прилавком, снизу доверху ломились от разного товара. Вперемежку со скобяными изделиями стояли и электроутюги, и транзисторные радиоприёмники, и изысканный фарфор, и дорогой хрусталь. Красивая подарочная чашка упаковывалась теми же руками, которые только что разливали керосин.
От одного окурка всю эту постройку вместе с людьми и утварью разметало бы на сотни метров, но народ терпеливо дышал ядовитыми парами, выстаивая очередь за дверным засовом или черенком для лопаты, и не боялся ни взрыва ни пожара. Здесь вспоминать о чужой прописке было не принято.
Несколько лет назад магазинчик снесли и на его месте построили новую школу. Говорят, самая лучшая во всей области. Даже губернатор открывать приезжал. И его на торжества приглашал. Но он не поехал. Не любил он прежнего губернатора: вечно тот напивался как свинья и с всякими просьбами приставал.
Магазин утратил своё главное предназначение ещё в семьдесят первом году, когда керосиновому веку настал конец, а в сознании местных наметился небольшой перелом. В посёлок собирались проводить магистральный газ. Депутаты поссовета, привыкшие к дефициту, разнарядкам и разным ограничениям, хотели запретить врезаться в вожделенную трубу ненавистным владельцам альтернативной жилплощади и подали проект без учёта домов москвичей. В областном тресте всё скрупулёзно обсчитали и выставили каждому хозяину счёт в кругленькую сумму. Но пояснили: если расходы разложить на большее число плательщиков, цена резко упадёт. Природная жадность, как водится испокон веков на Руси, взяла верх: газопроводом милостиво разрешили пользоваться и социально чуждым москвичам. Паевые взносы уменьшились вдвое. Не погнушались даже уговаривать наименее сознательных: мол, присоединяйтесь, пока общую траншею не закопали, потом дороже встанет, потому что улицу рыть за свой счёт придётся.
Раньше говорили: дружба дружбой, а денежки врозь. Острословы переиначили народную мудрость, придав зеркальное отражение каждому слову: вражда враждой, а денежки вместе.
С телефонами оказалось проще: окончательное решение принимал районный узел, не особо вникавший в подробности социального состава очередников, а в очередь вставали без предъявления паспорта. Связисты любили порядок и подключали всех по списку. Ещё больше любили ходатайства на красивых бланках, но возможностей такого подспорья у влиятельных москвичей существовало гораздо больше. Поэтому уже в семьдесят втором на некоторых дачах стал раздаваться непривычный для загородной тишины прерывистый зуммер.
Если антагонизм взрослых находил выход в язвительных словопрениях и спорах в различных инстанциях, то у детворы всё обстояло куда проще: по шее – и весь разговор. Дружба местных с москвичами почти исключалась и случалась лишь с непосредственными соседями, и то изредка. Везло тому, у кого через забор жил какой-нибудь заводила или парень постарше. К его знакомым обычно не приставали. Остальные рисковали получить фингал под глаз просто так, ни за что, по факту имущественного положения, как кулаки или середняки свои девять граммов в период массовой коллективизации.
Казалось бы, попробуй отними у такого народа в свою личную собственность природные богатства, содержимое недр, газ, нефть, золото, лес, алюминий, алмазы! А ведь приватизировали всё в два счёта. И никто даже не пикнул. Мелковат у нас народец, всё-таки мелковат! Квартире московской завидует, а на виллы средиземноморские и особняки в лучших местах Европы ему наплевать: их из окошка не видно. Акции для него – пустые бумажки. Бери их сколько хочешь, только забор каменный не строй и ближе метра к моему участку сарай свой не ставь. Правильно тогда они придумали надуть всех с этими ваучерами-фантиками. Редко кто их на бутылку водки не променял. И ведь каждому хорошо: один напился на халяву, другой – нефтяную скважину прикарманил. Каждый получил что хотел. Не это ли основа социального благополучия! Только из скважины как текло, так и течёт, и течь будет ещё долго, а бутылка давно порожняя валяется, и за рубль её теперь не сдашь.
Нет, даже если это конец – не зря он жизнь прожил. Эх, не зря! И правильно, что вовремя смылся с этой дачи, окунулся в водоворот событий. Не водоворот даже, а в водопад. И невредим остался. Засидись он здесь, как иные, сосал бы сейчас лапу и проклинал судьбу. А так – ничего можно больше до старости не делать и жить в своё удовольствие. Смирить бы только гордыню, каждый день, каждый час напоминающую о единственной и безвозвратной утрате – власти.
Лучше б никогда не пить из этой чаши! Привыкаешь хуже, чем к наркотику. Года, месяца, недели этой отравы достаточно, чтобы вожделеть её потом всю жизнь. Без неё такая ломка наступает – хоть в петлю лезь. Одного старика недавно прямо в собесе кондрашка хватила, когда ему, привыкшему всеми командовать, на очередь указали. Говорят, даже у актёров, игравших царей и прочих правителей, не всегда получается из роли этой выйти. А ведь, может быть, полжизни ещё впереди – живут же некоторые по девяносто лет и больше.
Но беда не приходит одна. Лариса куда тяжелее пережила его потерю. Как муж, он просто перестал для неё существовать. Их супружеское благополучие всегда поддерживалось карьерными взлётами. Падения, даже недолгие, вызывали у неё одну и ту же реакцию: почти физически ощущаемый холод. Однажды он хлебнул его сполна, пытаясь вторгнуться ночью на её половину кровати. Аж в сторону отбросило после лёгкого прикосновения: плоть показалась ледяной, как у покойника.
Не отпуск получается, а испытание. Побудут врозь, каждый для себя решит, продлевать ли дальше иллюзию семейного единства. Терпеть ещё лет десять ради спокойствия дочери, её учёбы и устройства в жизни или пуститься каждому в отдельное плавание уже сейчас, пока шансов на новую удачу гораздо больше.
Обмозговать бы всё это прямо здесь, в уединении, на песочке, в полной тишине и отрешённости от мирских треволнений. Но не получается: тени прошлого преследуют. Опять в воду полезла. Похоже, домой не спешит. А ведь назовись она Любой – поверил бы. Говорят, в районе Курской магнитной аномалии можно увидеть сражения последней войны. Какой-то фокус с материей и временем. Почему бы такому миражу не случиться и здесь? Вот было бы здорово: скольких старых подруг можно перевидать!
Надо тоже пойти поплавать. Всё равно загорать по полной программе не получится: неудобно как-то при девчонке возлегать с неприкрытым задом.
Да, поплаваешь тут! Оставила свои плавки и не собирается выходить. А он – сторожи. Вот ещё интересное занятие! Всю жизнь о нём мечтал!
4
Хватит туда-сюда шнырять. Пора бы и передохнуть немного. Лечь на спину, раскинуть руки и ноги и полюбоваться солнцем. Отсюда, из воды, оно кажется совсем другим, не таким беспощадным. Если б можно было, дотемна бы в воде просидела.
А что там папик поделывает? Растерялся. И загорать не ложится и купаться не собирается. Хотя как же он может покинуть боевой пост? Придётся трусы назад напяливать, чтобы его от сторожевой службы избавить.
Из какого же он, интересно, дома? На улице не так много богатых особняков. Неужели?..
Нет, так и захлебнуться недолго и действительно на корм рыбкам уйти. Как же она раньше не догадалась? И старухи об этом на улице шептались, и мама не раз вспоминала. Но где же машина, охрана?
Ах да, ему ведь тоже недавно дали под зад коленом. Теперь у нас новая власть.
Ну и прикол!
Тогда это круто меняет дело. Какая она всё-таки умница, что не уехала с матерью на юг! Ловила бы сейчас брюхатых дилеров и отбивалась бы от провинциальных киллеров.
Хватить разлёживаться. Пора за дело приниматься.
Кажется, вылезает.
Пусть сама караулит свои шмотки, а он наконец окунётся. На этом солнце, наверное, все пятьдесят, если не больше. Уже не только пот выступает, но и содержимое жировой прослойки.
Мать, вылитая мать! Даже ниже талии. Со всеми достоинствами и дефектами. А что, если выбросить ко всем чертям из памяти эти семнадцать лет? Есть исходная точка, куда можно вернуться. И быть самим собой довольным.
Конечно, он никогда не женился бы на Любе. Но отношения их могли бы длиться и поныне: ей-то всего тридцать шесть. Самый сочный возраст. Надо, обязательно надо иметь такую Любу, для которой ты всегда будешь героем, завоевателем, победителем, самым главным, самым желанным мужчиной. Ну почему он не навёл с ней вовремя мосты, пока ещё был в силе? Казалось, мелочь, когда весь мир лежит у твоих ног. Нет, в жизни мелочей не бывает.
– Спасибо, Вадим Сергеевич. Советую и вам обмакнуться.
Похожа да не во всём. Мать всё-таки была гораздо более скромной, зажатой. Советов никаких не давала.
– Я уже и сам об этом подумываю. Но обременять тебя просьбами не стану. Вдруг захочешь присоединиться.
Конечно, хорошо бы оставить эту тряпку на берегу. Однако нельзя сокращать дистанцию.
– Скажите, вы недалеко от Пушкинской живёте?
Пушкинская – очень странная улица. Если судить по почтовому адресу, то на ней нет ни одного дома, но она – самая длинная в посёлке, прорезает его вдоль насквозь, деля на две половины.
– Да, третий дом от угла. Можешь зайти в гости.
Он! Тот самый! Легенда их улицы.
– И вы ко мне заходите. Я ведь совсем одна.
Хоть это уже и говорила, но такую важную деталь можно и повторить.
– Ты уже уезжаешь?
Ещё чего! Теперь только вместе.
– Нет, мне спешить некуда.
Маслом кашу не испортишь.
– Мне тоже.
Произнеся эту загадочную фразу, он разбегается, явно стараясь выглядеть моложе и спортивней, чем есть на самом деле, ныряет, проплывает несколько метров под водой и, вернувшись на поверхность, начинает ритмичными быстрыми гребками удаляться от берега. Плывёт баттерфляем. В былые времена этот стиль всегда эпатирующе действовал на девиц, привыкших только к брассу и кролю.
Ладно, пусть повыпендривается. Пока надо что-нибудь придумать. Притворно тонуть – старо как мир. Умный такую инсценировку сразу раскусит. Нарочно распороть ногу о стекляшку? Больно и глупо. Всё равно домой на велосипедах возвращаться.
Как же заставить его прикоснуться к себе? Но так прикоснуться, чтобы коготок увяз. Ага, есть идея. Значит, пока нужно лежать на спине.
Всего шестнадцать лет! Неужели через три года и его Сашка будет так же клеиться к мужчинам, которые её почти на три десятка старше? Нет, слава Богу, он обеспечил ей другую судьбу. Щеголять перед стариками в костюме Евы – удел неимущих. Такие рано или поздно телом своим торговать начинают. Мораль, говорят, расшаталась. Нет, господа, это и есть тот самый рынок, которого вы так хотели. Вот и получайте. При чём здесь мораль? Простейший экономический закон: если есть товар – его надо непременно продать. У кого тело нетоварное – толкует о нравственности. А любая видная деваха инстинктивно тянется на сцену, в шоу-бизнес, в модели. Больше-то у неё ничего ликвидного нет. Если рылом не вышла – на панель. Так же в науке, так же в искусстве. Талантливый человек всегда найдёт, что можно продать. Недавно одного знакомого драматурга встретил. Да, пьесы не идут, не нужны они сейчас никому. Да и сам он не Шекспир. Пишет сценарии для ток-шоу на телевидении. Нашёл, как говорится, свою нишу. И неплохо зарабатывает. Это только обывателю кажется, что в эфире сплошной экспромт. Всё теперь до мелочей продумано. Всюду свой сценарий имеется.
Ладно, пора и меру знать. Для первого раза хватит. Простудиться и в жару можно.
Лежит. Раскинулась. Глаза закрыты. Но естества больше, чем бесстыдства. И всё-таки дух захватывает. Давно не было у него такого соблазна.
– Ты не уснула? Спать на солнце вредно.
И соски, как у матери. Дерзкие. Манящие. У иных женщин их в упор не видно, а эти издалека в глаза впиваются.
– Да, прикорнула чуток. Вы не поможете мне, Вадим Сергеевич?
– Если смогу.
Что ещё она придумала?
– Хочу на живот лечь, а спину защитным кремом помазать руки не достают. Помогите мне, пожалуйста.
Мирра поворачивается на бок, достаёт из сумочки тюбик, протягивает ему.
– Погуще или поэкономней?
– Поэкономней. Жару надолго обещают, надо на несколько дней растянуть. Понятно, куда клонит.
– Тебе мама денег на жизнь оставила?
– Оставила. На хлеб, молоко, овощи. Картошка у нас в подвале ещё с осени лежит. Варенье яблочное с прошлого года. Мне много не надо.
Эх, а кому надо много? И всё-таки каждый из кожи вон лезет, чтобы мошну побольше набить.
– Попку мазать?
– Спасибо, там я и сама могу.
– Да ладно, мне не трудно.
Руки его скользят вниз.
Ну, уж совсем-то вниз не нужно. По крайней мере сейчас. Нечего туда раньше времени пальцами лазить, секреты девичьи раскрывать.
– Ой, мне щекотно.
– Хорошо, больше не буду.
– Спасибо вам, Вадим Сергеевич.
Кажется, рыбка насаживается на крючок. Но такую крупную сразу дёргать опасно. Пусть зацепится понадёжней.
– Извините за любопытство: вы на выходные приехали?
Вопрос, конечно, глупый: сегодня только четверг. Но надо же выяснить его планы.
– Нет, в отпуск. На целый месяц.
Вот это удача!
– С семьёй?
– Жена на юге отдыхает. Как твоя мама.
– Не боитесь её одну отпускать?
– Она не одна. С ней дочка.
– Взрослая?
– Нет, моложе тебя. В восьмой класс перешла.
Клёво! Недельки три им гарантированы.
А вдруг у него есть подружка, и он нарочно услал жену подальше? Не может у такого мужчины никого не быть.
И пускай! Где она сейчас? Пасёт козла в огороде. Значит, не шибко умная. Главное – иметь простор для честной конкуренции.
Домой их заставили собираться рыбаки, ближе к закату притопавшие в своих болотных сапожищах за ночным уловом.