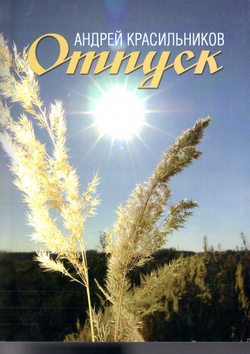Читать книгу Отпуск - Андрей Красильников - Страница 3
Часть первая
Глава вторая
Оглавление1
Александр Ланской с годами привык к летнему зною и июльские жары переносил довольно легко. А чего бы и не привыкнуть человеку свободной профессии! На работу ходить не надо, в город ездить не обязательно – сиди себе в тенёчке в одних трусах да радуйся несомненной Божьей благодати: животворящему теплу, наполняющему соками тянущуюся к солнцу флору, умиротворяющему фауну и только у человека вызывающему эгоистическую неприязнь. Вот вам и высшее творение Господа: его же дары отвергает, поносит, выказывая не только полное невежество, но и вопиющую неблагодарность.
Так думал уже тронутой сединой мудрец сорока пяти лет, величественно восседая под тентом на собственном участке. Этот прямоугольный лоскуток с неполную осьмушку гектара удовлетворял всю его безмерную ностальгию по былым временам, когда самого его ещё не предвиделось на белом свете. Ностальгию, понятно, генетическую, подсознательную. Но мало кому в наши дни удаётся погружаться в глубины этого бездонного колодца человеческого интеллекта с пользой для окружающих. Именно такая способность и составляла суть литературного таланта Ланского, не блиставшего мастерством стилиста, имевшего весьма скудную изобразительную палитру, но неизменно удивлявшего своей виртуозной способностью извлекать из заветных закоулков души персонажей, чаще исторических, тайны их труднообъяснимых поступков.
Начало положило недоумение, с которым маленький Алик, чьё детство пришлось на первые попытки освоения космоса, наблюдал за радостью взрослых от запуска очередного пилотируемого корабля, тогда как к гораздо более близкой нам оси Земли почему-то не стремилась ни одна живая душа. Ведь не от веры же в фольклорное описание местоположения рая и ада тянулись учёные ввысь, совсем забывая земную твердь. В запредельных скоростях и бесконечной синеве виделась романтика, а борьба за каждый метр геологических наслоений казалась малоинтересной рутиной. Любознательный ребёнок, наоборот, безразлично относился к неподвластным уму миллиардам километров и миллионам световых лет, зато живо интересовался тем, что лежит у него под ногами на глубине всего-то шесть с небольшим километров – пешком за день одолеешь. Но вот уж тайна из тайн! От желания её разгадать и специальность он выбрал себе самую заурядную – геофизика, а точнее – геоакустика, пытающегося по распространению упругих волн в земной коре исследовать её строение.
Но увлечение структурой недр оказалось недолгим. В научно-исследовательском институте, куда Ланской попал не столько по распределению, сколько по блату (хотя всё было оформлено должным образом), профессиональные знания ценились не очень высоко. Они подразумевались a priopi: не будет же непосвящённый служить в храме науки с его вековыми ритуалами, нарочитой церемонностью и неизменными канонами. Трудолюбивый сотрудник, досконально владеющий теорией и умеющий применять её на практике, личностью здесь не считался. Куда важнее ценилось знание таких туманных и малонаучных, на взгляд любого естественника, предметов, как любомудрствование и изящная словесность. Разумеется, не в тех проявлениях, что были доступны всем, а скрытых глазу, существовавших латентно по причине расхождения с некоей генеральной линией.
Привыкший заглядывать в потаённые глубины, повзрослевший Алик нашёл для себя удовольствие в открытии и этих кладовых, манивших тайной катакомбного существования. Монбланы марксизма-ленинизма, подавлявшие размерами, обязательностью изучения и цитирования, скукожились в его сознании до размера песчаного кулича из детского ведёрка, стоило ему познать прозорливость истинных философов, отплывших от родных берегов не по своей воле. Одна маленькая книжечка о нищете учения, которое «всесильно, потому что верно», затмила десятки томов, нудно излагавших существо этой набившей оскомину доктрины. Так же и в литературе. Добротно изученные произведения школьной программы – основные и по внеклассному чтению – померкли в одно мгновенье перед «Собачьим сердцем», «Доктором Живаго», «Даром» и «Котлованом». А всенародно оплёванный и изгнанный Солженицын моментально вознёсся над всеми своими хулителями, слепо верившими в бессмертие идей человека, разоблачённого им с железобетонной логикой истинного мыслителя и с особым изяществом стиля.
Вскоре молодой эмэнэс стал достойным собеседником более старших коллег, уже защитившихся и тративших свободное и почти всё рабочее время на дискуссии философской и беллетристической направленности. Помимо удовольствия от гармоничности целого он получал наслаждение и от раскрепощённого слога, и от вольности суждений, и от смелого полёта фантазии, немыслимых им раньше в сочетании с картинами окружающей действительности. Ему казалось, что так писать можно только о днях давно минувших. Опыт малоизвестных доселе писателей настойчиво толкал на новую стезю.
Он пошёл в аспирантуру. Этот шаг, такой естественный и необходимый в его положении, таил особый смысл. Сдать за три года три экзамена и обобщить собственную работу было для способного человека плёвым делом. Положение аспиранта давало несравнимо более важное – свободу для исследования других толщ, не менее заманчивых. Так новая страсть притягивала к себе и незаметно стала всепоглощающей.
За время Аликова аспирантства в стране сменилось четыре правителя. Первый унёс в могилу тайну сокрушения своего предшественника, второй – тайну наглых вторжений кованого сапога в чужие пределы, третий – тайну превращения молчалиных не только в фамусовых, но и в романовых. Четвёртый едва заступил на вахту и пока эпатировал всех своей открытостью, способностью к человеческой речи и далеко идущими обещаниями.
Молодости свойственно верить. Не проживший на земле и трёх десятков лет Ланской поверил этим обещаниям и понял: пора менять кожу. Предчувствие подсказывало: наступает новая эра, но недолгая, как и всё хорошее в российской истории. Земная кора пока подождёт. К ней можно вернуться и в шестьдесят, при очередном вожде. Сейчас же надо пробовать своё перо.
2
Жара к вечеру не спадала, а только переходила в духоту: так двояко воспринимает человеческий индивид одно и то же погодное явление в разное время суток.
Ланской после обеда (если можно назвать им запивание полутора литрами домашнего кваса салата из огурцов, помидоров и редиски) натянул зачем-то шорты и занял прежнее место в саду. Работать он не хотел и не мог, хотя тешил себя иллюзией, будто всё-таки трудится над новой рукописью, придумывая хитросплетения сюжета. Он действительно погружался в фантазии, сидя в шезлонге, но потом, оставаясь наедине с листом чистой бумаги, выводил подчас совсем другое. Впрочем, какая-то польза от такой подготовительной работы всё же была.
Сейчас он вынашивал повесть о своём дальнем родственнике, жившем в восемнадцатом веке. Этот молодой человек не совершил ничего геройского, не написал ни строчки, даже не продлил свой род. И всё же оставил неизгладимый след в истории государства российского.
А всё потому, что его любила сама императрица.
Любила в числе многих, но каждый из обласканных ею мужчин, по неумолимой логике филистеров всех времён и народов, становился частью вечности, достойной сохранению в памяти народа. Увы, мещанская страсть к вуайаризму приняла в наши дни гипертрофированные размеры. Не умеешь подглядывать в замочные скважины – лучше не берись за перо. Скоро эту науку в Литинституте преподавать придётся. Судите сами: роман хороший едва ли издашь тысяч в пять экземпляров, а тираж мемуаров вздорной девицы, якобы спавшей с всенародно почитаемым актёром, достиг шестизначной величины. У бедняги, погибшего совсем молодым, остались жена, дочь, тоже прекрасные актрисы, для них эти откровения свалились как снег на голову, разбередили едва затянувшуюся рану, но толпа, всех их по-своему любившая, упивалась бульварным чтивом, вынуждая предприимчивого издателя выпускать один завод за другим. Ланской знал эту особу, безуспешно пытавшуюся писать. Препротивная и вульгарная, с отталкивающей внешностью и сиплым голосом, склонная к алкоголю и истерикам, она могла вызвать у любого нормального мужчины только рвотную реакцию. Он и в страшном сне представить себе не мог красавца и любимца женщин рядом с ней. Да ничего и не было, просто с лёгкой руки некой скандальной журналистки в моду вошёл новый жанр – самооговор. Борцы за равноправие прекрасного пола даже не заметили весьма существенный нюанс: оглашение мужчиной мнимого адюльтера – возмутительная клевета, взывающая к незамедлительному отмщению. Облыжный поклёп, возведённый дамой на отца семейства – всего лишь милая шутка, способная только возвысить, а не унизить жертву навета. Так где же равенство, господа?
Всеядное бюргерство не щадило и теней прошлого, подходя к ним тоже разными мерками. Но акценты здесь были иными, смещёнными в противоположную сторону. Оказаться фавориткой коронованной особы почиталось высокой честью. Это считалось не клеймом позора, а знаком высшего достоинства, сопряжённого либо с неземной красотой, либо с ангельским обаянием, либо с недюжинным умом. Ошибочно причисленные к числу избранных могли только благодарить судьбу, посмертно пославшую им счастье стоять в одном ряду с первыми дамами государства.
Любимцев же цариц и королев ненавидели все и всегда. Даже несомненные качества этих несчастных, приведшие к несмываемому позору, с годами отрицались, карьера их объявлялась незаслуженной, подвиги – приписанными, таланты – ничтожными. Все скопом наделялись они свойствами трусов, интриганов, своекорыстных искателей лёгкой жизни и губителей государства, словно влезли в августейшие альковы исключительно по собственной злой воле, пользуясь природной женской слабостью.
К соблазнённым высочайшими ловеласами и покинутым затем женщинам относились с жалостью, особенно если ломалась их судьба, семейная жизнь или общественная репутация. К брошенным фаворитам человечество издревле испытывает нескрываемое злорадство, и даже бессудные и беспричинные казни их почитает за проявление высшей справедливости. Ни к кому и никогда не была так сильна неприязнь, как к красавцу, перед чарами которого не смогла устоять венценосная дурнушка.
И в отечественной истории далеко за примерами ходить не надо. О любовницах царей вспоминают с почитанием и придыханием. Имя Анны Монс окружено ореолом романтики. Историки ищут её домик, рестораторы называют в её честь свои заведения. Даже Натали Гончарову возвышает в глазах невежественного мещанства не то, что она была музой величайшего из русских, а то, что на неё положил глаз государь. Что уж говорить о Катеньке Долгоруковой, обманывавшей умирающую императрицу прямо в Зимнем дворце. Умница, красавица, душенька, ангел небесный! Матильду Кшесинскую поставил в один ряд с великой Анной Павловой отнюдь не талант танцовщицы (способности были весьма скромны), а блуд с двумя царевичами сразу, один из которых стал впоследствии императором.
Напротив, великий государственный ум князя Василия Голицына, передовой даже для тогдашней Европы, напрочь перечёркнут его любовной связью с правительницей Софьей. Почти все реформы содрал Пётр у невенчанного мужа сестры и его же сослал в северную глушь, лишив не только прижизненных, но и посмертных почестей. А фельдмаршал Потёмкин? Все его успехи приписаны Суворову, имевшему осторожность не засветиться в державной опочивальне. И уж полным кретином остался в обывательском сознании другой фельдмаршал – Алексей Разумовский, морганатический супруг бедняжки Елизаветы, которая не могла выйти замуж в другую страну, а увлечь иноземного принца не сумела: полюбила лихого малоросса, чем открыла дорогу к российскому престолу голштейн-готторнской династии прямых потомков герцога Карла Фридриха. Ещё меньше повезло Бирону.
Несть числа таким примерам.
Вот и Александр Дмитриевич Ланской, его полный тёзка и однофамилец, из того же ряда.
Июльский зной заставлял невольно думать о тяготах светской жизни эпохи классицизма, когда солнце вряд ли палило слабее, но ни дамы ни кавалеры и помыслить не смели даже в укромном уголке собственного сада подставить светилу хотя бы маленькую толику белёсой плоти. Да и спать ложились в рубашках до пят и колпаках на голове. Каким же раскрепощением должна была казаться греховная интрижка, хоть со старухой! Не тяга ли к избавлению от тиранящих тело одежд толкала в их объятия? Куда угодно, лишь бы сбросить последние покровы! Вот почему сильна в русском народе любовь к баням, месту, где можно прилюдно щеголять в чём мать родила.
Ланской понимал, что лишь малая толика рассуждений о наготе войдёт затем в повесть о целомудренных временах Екатерины, возможно, одна только мысль, часть фразы, причастный или деепричастный оборот, но прежде чем положить её на бумагу, надо прочувствовать тему, пропустить через капилляры сознания тактильные ощущения, смоделировать гипотетические ситуации. И это тоже работа, а для неё годится и шезлонг в саду.
Вот только никак не втолкуешь этого Наташе. Наташа – настоящая соратница, верная подруга, терпеливая жена, замечательная хозяйка, но не дано ей понять тонкостей таинства, являющего на свет чудо из чудес: новое, оригинальное, неповторимое даже своим создателем сочинение. Всегда ей хочется приспособить сидящего с отрешённым видом или закрытыми глазами (о нет, это не сон, всего лишь погружение в другую реальность) мужа к какой-нибудь бестолковой хозяйственной повинности, давно уже механизированной в цивилизованном мире.
– Всё равно сидишь, полил бы огурцы, – слышится с крыльца.
Господи, везде это делают распылители, вращающиеся над грядками и нежно обрызгивающие их искусственным дождём, стоит лишь включить систему, подсоединённую к обыкновенному водопроводу. У нас, по старинке, тянется дырявый шланг или берётся в руки дедовская лейка, содержимое которой попадает обычно не столько на посадки, сколько на обувь поливальщика. Да и зачем их поливать, если ночью обещают дождь. И вообще не стоило сажать ради копеечного урожая: больше двух вёдер вряд ли наберётся, а соседка ведро за десятку продаёт. Может ещё дешевле уступить, чтобы не стоять полдня возле шоссе на пекле и не дышать выхлопными газами.
3
С Наташей познакомились они случайно. Про всех своих предыдущих дам сердца Ланской такого сказать не мог: с одной учился в школе, с другой – в институте, с третьей жил по соседству, с четвёртой, ставшей на короткое время женой, занимался вместе в спортивной секции, пятая была дочерью маминой подруги, а шестая – папиного начальника. И лишь седьмая оказалась той самой таинственной незнакомкой, с которой дело быстро пошло на лад: через месяц – предложение, через два – свадьба.
Столкнулись они в январское утро на шумном и многолюдном митинге. Москва негодовала из-за убийства ни в чём не повинных людей у вильнюсского телецентра. Алик решил впервые в жизни присоединиться к протестующим. У него были на то свои основания: в Таллине родилась его бабушка, оставившая на память коллекцию эстонских марок, и он считал этот город почти родным. А где Вильнюс – там и Таллин.
Не с пустыми руками направился он на манифестацию: сочинил четверостишие, начертал его на ватмане и приладил самодельный плакат к выменянной у дворника за водочный талон деревянной лопате для очистки снега.
Метро работало только на выход. Каждый из эскалаторов был набит радостно возбуждённой публикой. Ланской впервые увидел столько единомышленников в одном месте. Все улыбались друг другу, даже если взгляд останавливался на незнакомом лице. Но одна девушка улыбнулась ему как-то по-особому. Он отметил это, постарался ответить максимально искренно и пошёл искать своих – группу бывших сослуживцев по институту. Собственно говоря, бывшим стал он сам, а они продолжали измерять земную толщу, посылая упругие волны то ли в ад, то ли в Америку.
Путь манифестантов оказался не коротким и витиеватым. Полумиллионная людская масса могла уже не считаться ни с каким порядком, но никому и в голову не приходило его нарушать, бравируя рекордной для московских улиц численностью. По широким магистралям шли все вместе, соблюдая первоначальное построение по колоннам: партийным, корпоративным, территориальным. Растянулись на добрый километр. Но к Новому Арбату пришлось выходит ручейками, по разным переулкам. Конечно, каждому хотелось пройти по Борисоглебскому и выразить собственное соболезнование литовскому представительству, однако тогда бы последние рисковали не успеть не только к началу митинга, но и к его концу.
Ланскому удалось попасть в заветный поток. Его поразили наглухо зашторенные окна дипломатического учреждения и отсутствие какой бы то ни было реакции балтийских соседей на тёплые проявления дружественных чувств к их не вполне ещё самостоятельному государству. Писательская интуиция предсказывала недобрые отношения в будущем.
Зато пациентки родильного дома имени Грауэрмана облепили все подоконники. Им не разрешалось открывать даже форточки, поэтому приветствовать молодых мам пришлось громким и дружным скандированием. В головной части многотысячного серпантина мгновенно сочинили экспромт, и всем остальным не оставалось ничего иного как подхватить его. «Не ро-жай-те ком-му-нис-тов!» – голосил Алик вместе со всеми в сторону здания, откуда три с половиной десятка лет назад и его выносили в такой же взбудораженный свежими политическими событиями мир.
Наконец добрались до Манежной площади. Заняли её всю: от гостиницы «Москва», где установили трибуну, до входа в Центральный выставочный зал. Теперь даже трудно себе представить, какой огромной и красивой, спланированной с истинно европейским размахом была эта главная площадь недолгой российской демократии, пока дорвавшийся до власти «эстет» с профилем и повадками основоположника фашизма не надругался над ней и не превратил её в жалкое посмешище в отместку за приверженность чуждым ему идеалам.
Здесь Александр во второй раз столкнулся с той девушкой, которая по-особому улыбнулась ему в самом начале пути.
Митинг подходил к концу, выступали уже незапланированные ораторы. Их мало кто слушал: народ расходился, не соблюдая больше никаких колонн. Лопата Ланскому изрядно поднадоела, да и таскать её несколько часов на вытянутой руке оказалось не таким уж лёгким занятием. Но куда девать? Выбросить – грех. Снять ватман, скатать, а дворницкое орудие воткнуть в сугроб в Александровском садике? Но как сделать это незаметно?
Пока он обдумывал, по обыкновению, не спеша, возникшую трудность, перед ним опять возникло то же девичье лицо и снова одарило улыбкой. Если бы только улыбкой! Как из ночного костра вылетает огонёк и, пролетев через темноту, тает у вас на груди, так и от этого взгляда на Александра перекинулась маленькая искорка. Но не погасла. Её горение он отчётливо ощутил с первой минуты. Плакат вмиг показался пушинкой, а ноги сами понеслись вслед за незнакомкой.
Ланскому удалось скрыть свои истинные намерения, поскольку объект его внимания присоединился к небольшой, но достаточно организованной группе, увлекаемой одним из ораторов в сторону Старой площади. Наиболее убеждённые противники правящей партии решили призвать её к самоубийству, для чего двинулись в сторону одного из древних московских холмов, где располагалась партийная канцелярия. Путь по столичным меркам небольшой: два-три промежутка между троллейбусными остановками, втрое короче расстояния от сборного пункта у метро. Но большинство собравшихся он испугал. Да и с городскими властями не согласован. Одни побоялись провокаций, другие – угодить в каталажку, откуда, конечно, выпустят, но сначала побьют и облегчат карманы. Полумиллионная толпа съёжилась до полутысячной.
Уже при повороте от «Метрополя» на Охотный ряд Александр с ужасом заметил, что с плакатом остался он один. Остальные либо отбросили свою ношу, либо явились на манифестацию вовсе с пустыми руками. Его дружно начали подталкивать вперёд как знаменосца, хотя запрещённый триколор также сопровождал процессию, но в самой её середине, словно спрятанный от враждебных посягательств. Ланского такая диспозиция не устраивала: она не позволяла следить за перемещениями каракулевого полушубка, ради чего он и ввязался в эту авантюру. Но дружелюбие окружающих лишало его воли к сопротивлению. Насилие с открытой душой и улыбкой на лице – тоже насилие. Однако понимаешь это не сразу. По врождённой привычке Алик противился только грубости и глупости.
Логика в действиях демонстрантов была. Так они – простой сброд бунтарей, шествующих по проезжей части крупной городской магистрали, почему-то перекрытой со всех сторон. С транспарантом впереди – совсем другое дело. Почему-то вспомнился стих из Главной книги: «В начале было Слово». Да, без слова мы – обычные белковые организмы. Если говорить по-научному. А так – просто твари.
Во главе колонны его всё-таки не поставили. Там шагали люди со значками-флажками, приколотыми прямо на пальто. Народные депутаты. Личности неприкосновенные. На них наброситься, как в Вильнюсе, не решатся. Во всяком случае, сами они рассуждали именно так и продвигались с нарочитым спокойствием граждан Кале. А чуть сзади, поверх их голов плыл плакат:
Опять им нужен Сталин,
Необходим им Берия,
Чтоб покорился Таллин,
Не рухнула империя!
Возле Лубянской площади стало ясно, что экспромт с незапланированным марш-броском удался. Благостное равнодушие блюстителей порядка сменилось тревогой и волнением. Они ничего не говорили, но суетливо сновали вокруг, словно не верили своим глазам. На стороне «Детского мира» уже восстановилось движение транспорта, правда, проехало лишь несколько одиноких машин, половина из которых – из КГБ в мэрию.
Едва митингующие миновали последний поворот, со стороны Ильинки наперерез им выскочили солдаты и выстроились в каре аж до Варварки, перекрывая подходы к мрачному зданию Центрального комитета. Ланскому вдруг померещилась тень одного известного писателя. Будучи лишь исключённым из ВКП (б) во времена, когда самым мягким наказанием считалась многолетняя каторга, он в начале войны после долгих стараний добился реабилитации. Счастливый, отправился за партийным билетом. Получил его назад, но при выходе из подъезда угодил под бомбёжку. Всего один раз и попали немцы в здание ЦК, всего один человек при этом погиб, но им оказался именно нетерпеливый и простодушный писатель, чьи пьесы уже пережили автора на полвека и до сих пор идут в театрах.
«Неужели и мне, – мелькнуло в голове, – так же обойдётся этот визит». На мгновенье чёрный полушубок выпал не только из поля зрения, но и из памяти.
Но лишь на мгновенье. Потому что сразу попался на глаза. Холодный пот прошиб Александра – именно так и представлял он себе приход смерти: явится красавица, заворожит, уведёт куда-нибудь, скинет свои одежды, и окажется под ними чёрный скелет, а в руках – коса.
Но солдаты вели себя спокойно. Сделать шагу к серому строению не давали, но и сами никаких действий не предпринимали. Стояли как скала.
Колонне не оставалось ничего иного, как свернуть в скверик. Обогнули с обеих сторон памятник-часовню в честь героев Шипки и Плевны и растянулись в цепочку. Между манифестантами и охранниками – лишь низкий заборчик да сугробы.
Из толпы посыпались упрёки и угрозы. Кому они адресовались, понять было трудно: в субботний день обитатели презренных кабинетов сидели дома и поездкой на работу себя не утруждали. Но громкоголосые ораторы распаляли себя и окружающих:
– Долой преступную шайку!
– Партия, верни награбленное!
– У-би-рай-тесь! У-би-рай-тесь!
Про вильнюсскую кровь не вспоминали. То ли понимали, что проливали её сотрудники совсем других учреждений, то ли забыли повод, собравший их ранним утром.
Присоединиться к бранному словоизвержению Алику не позволяло строгое домашнее воспитание, ни разу не давшее сбоя на протяжении всей жизни, хотя он тоже хотел, чтобы ненавистная партия вернула народу всё своё золото и канула в вечность. Положение его становилось двусмысленным: стоять молча среди разъярённых единомышленников – бессмысленная трата времени, уйти – оставить людей без важной для них поддержки – плаката на дворницкой лопате.
Для начала он опустил его, прикрыв им лицо. Теперь не видно, скандирует он лозунги или нет.
Но и ему ничего не видно, кроме ног. А желанные для себя сапожки заприметить не успел: привык оценивать женщин не снизу, как на вошедших в моду конкурсах красоты, а по старинке, сверху. Да и наблюдать за кем-либо теперь невозможно: все стоят почти в ряд. Впрочем, самые непримиримые, проваливаясь по щиколотку, штурмуют сугробы.
– Сейчас мы им покажем! – слышит Ланской зычный бас почти в ухо. – Господин поэт, не дадите ли свой транспарант?
Вот это сюрприз! Наконец-то долгожданное избавление.
Александр протянул осточертевшую ношу неведомо кому, на звук. Этот посланный свыше спаситель мигом содрал ватман, сунул его хозяину и вернул лопате изначальную функцию: принялся с остервенением загребать слежавшийся снег и бросать его с размаху в роту оцепления. Стоявшие вокруг так и ахнули. Некоторым такая шутка понравилась, и они поддержали её возгласами одобрения. Но их оказалось меньшинство. Большинство же предпочло отвернуться или сделать вид, будто не видят, как двадцатилетних мальчишек обсыпают с ног до головы рыхлым снегом вперемешку с почерневшими кусками наста.
Солдаты оставались недвижимыми под лихой атакой, только зажмуривали глаза, если летела крупная льдинка. Экзекуция коснулась немногих: трёх-четырёх, стоявших напротив. До остальных ретивому ниспровергателю коммунизма добрасывать не удавалось. Да он и не старался охватить всех, намереваясь выбить из цепи хотя бы несколько звеньев. Но военные проявляли недюжинное терпение. Ланской мысленно сравнил их с первыми христианами на арене римского цирка.
Он машинально начал складывать ватманский лист. Перегнул вдвое. Но тут же услышал другой голос:
– Ой, не надо так! Лучше в трубочку.
Александр обернулся и остолбенел. Из каракулевого полушубка к нему тянулись две ладони, словно пытаясь защитить плакат от грубого обхождения.
От неожиданности Ланской проглотил язык, что было воспринято как осуждение.
– Такие хорошие стихи. Можно использовать ещё раз, если не помять. У нас же не последний митинг, – извиняющимся тоном пролепетала незнакомка.
«У кого как», – подумал он про себя, а вслух изрёк:
– Лучше бы не отдавал.
И кивнул в сторону всё ещё орудовавшего лопатой демонстранта. Но вся эта диковатая история мгновенно отошла на второй план. Тлевшая в нём от Манежной площади искорка вспыхнула обжигающим костром.
– Да, правильно сказал недавно кто-то, что хуже коммунистов могут быть только антикоммунисты, – услышал он в ответ. – Ребята-то эти чем виноваты?
Ланской понял, что настал решающий момент. Сама судьба подготовила его как нельзя удачно.
– Пойдёмте отсюда, – уверенно сказал он. – Нам здесь больше делать нечего.
И он подал даме руку. По-иному истинный джентльмен поступить и не мог, поскольку леди, пытаясь спасти плакат, одной ногой увязла в снегу. Жест его приняли с благодарностью:
– Большое спасибо.
Александр посчитал почему-то уместным привести одно авторитетное высказывание:
– Ивану Алексеевичу Бунину однажды ответили так же. Он возразил: «Спасибо – это: спаси, Бог. Оно не может быть ни большим, ни маленьким».
– Боль… Ой, спасибо, что поправили. Больше так не буду, – без тени обиды отозвалась незнакомка.
И действительно, за прошедшие десять лет она ни разу не повторила этого нелепого словосочетания, хотя нередко и запиналась.
4
На поливку огурцов ушли три лейки. Воду приходилось черпать в огромных пластмассовых бочках, стоявших, как доисторические изваяния, на всех четырёх углах дома. До настоящих водостоков не доходили руки, поэтому дождевые потоки хлестали с шестиметровой высоты гиперболическими струями, далеко не всегда попадая в предназначенную им огромную ёмкость. Использовать куда-то эти буквально падавшие с неба дары природы всё равно было необходимо, поэтому Ланской давно смирился с рутинным способом поливки бессмысленной огуречной рассады, которую приезжавшая по весне тёща заботливо высаживала в грунт, зная, что молодые никогда не исполнят сей непременный ритуал истинного дачника. Потом она забывала о своих грядках да и вообще о существовании благополучной семьи дочери, поскольку оба сына и их потомство требовали большего внимания. Наташа из уважения к матери пропалывала огород, а зятю доставалось изредка окроплять его водой, что частенько сопровождалось ворчанием: «Лучше уж переливать из пустого в порожнее: результат тот же, но усилий меньше».
Огуречный сезон нынче начался раньше обычного и грозил побить все рекорды скоротечности из-за небывало стойкой жары и достаточно высокой влажности. Ещё неделька-другая – можно выщипывать всю ботву и ставить на это место летний обеденный гарнитур: лёгкий пластмассовый столик с шестью стульями. Впрочем, к чёрту пластмассу! Нанять заезжих молдаван, и они смастерят настоящий, деревянный, вгонят ножки в землю, на века, чтобы этих проклятых огурцов больше никогда здесь не видеть.
Огородная плантация занимала заднюю часть участка, где сохранился чугунный межевой столб, служивший основой всех заборов: Ланских, их соседей по улице и с тыла, а также расположившегося наискосок участка Крутилиных. В этом общем для всех углу стояли четыре одинаковые деревянные сооружения недвусмысленного назначения. В полагающемся по санитарным нормам метровом коридоре густо росла крапива. Но ни она, ни жуткое зловоние, ни полчища мух не мешали общению сверстников Алика Ланского и Лёни Крутилина, ленившихся обогнуть две улицы, чтобы попасть друг к другу. Со временем надворные постройки разобрали за ненадобностью, и приятелям стало куда комфортнее переговариваться через забор. Но если одному вольная профессия позволяла безвыездно сидеть за городом, то второго жизнь понемногу отучила от поездок на природу, заставляя каждую свободную минуту рыскать в поисках хлеба насущного. У друзей существовал уговор: как только Лёня выбирается на дачу, он первым делом стучит по гулкому чугуну.
В последнее время такой сигнал звучал всё реже и реже. Особенно в будни.
На сей раз колотить по столбу не пришлось: Леонид появился к самому концу огуречного полива, и они столкнулись на границе своих владений нос к носу.
– Привет огороднику! – обидно подразнил свежеприехавший дачного завсегдатая.
– От золотаря слышу, – отозвался тот в таком же тоне. Не так давно Крутилин честно признался, что ради денег приходится не брезговать ничем. За откровенность тут же получил крепко приклеившийся ярлык от язвительного товарища.
– Что новенького?
Вопрос относился не к рукописям Ланского, а к событиям местного быта, каковыми периодически становились введение платы за вывоз мусора с поселковой помойки, увеличение тарифа на газ и электроэнергию, очередная вырубка соседнего леса под новые участки и прочие неприятности, сменившие недолгую эпоху добрых новостей конца восьмидесятых.
Ответ чуть не свалил с ног благодушного соседа своей сенсационностью:
– Вадик приехал. Три дня назад. Отпуск тут проводить собрался.
В былые времена они дружили втроём. Одногодки, дети из приблизительно одинаковых семей, связанных длительным знакомством, не могли не сблизиться на почве летних забав. Их даже звали «три мушкетёра» за преданность друг другу. Жестокая жизнь разрушила идиллию юных лет. Первым отпал тот, кого за повышенный интерес к противоположному полу сравнивали с Арамисом.
– Ты его видел?
– Нет ещё. Мама к ним заходила. Ей Вера Николаевна сказала. А сам он ко мне носу не кажет.
Крутилин, не успевший ещё переодеться и переобуться, быстро просчитал в голове все ходы. Разговор явно требовал другой обстановки.
– Я сейчас разберу сумку, перекушу и приду, – пообещал он и торопливо засеменил в сторону дома.