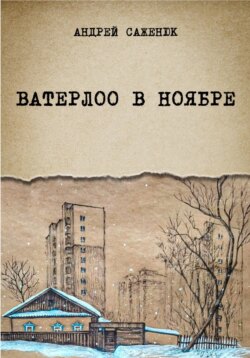Читать книгу Ватерлоо в ноябре - Андрей Саженюк - Страница 4
Фолкнер и Вулф
ОглавлениеБрат Толик ушел в армию весной. Понятное дело, первое время скучал по дому, просил меня писать ему почаще. Я отделывался короткими открытками, а осенью ушел сам. В течение года мы служили оба: он – в Сибири оператором ПВО, я – на Дальнем Востоке радистом. Ночные дежурства – лучшая возможность для самообразования. В гарнизонной библиотеке был выбор на любой вкус: тонкие и толстые журналы, русская, советская классика, западные мастера. Среди последних преобладали прогрессивные, те, кто видел и обнажал. Помню темно-зеленые тома Золя, синие – Джека Лондона, светло-серые – Драйзера, бордовые – Ромена Роллана. Однако (и в этом была очевидная недоработка политчасти) попадались как бы заблудшие, потерянные. Были Джойс в «Иностранной литературе», Гессе, Пруст, Фолкнер в «Новом мире». Потерянные интересовали больше. Может, их было по-человечески жаль? Я входил в Северную Америку с юга, от Фолкнера, брат спускался мне навстречу со среднего запада, от Томаса Вулфа. Мы обменивались впечатлениями. На этот год совместной службы приходится самый интенсивный период нашей переписки. Потом Толик демобилизовался, поступил в институт, я остался дослуживать, и роли поменялись: пришла пора мне упрекать его в лени и нежелании чиркнуть брату пару строк.
В конце марта из нас, дембелей, сформировали отдельный взвод, отдали нам красный уголок, и плюнули, забыли, предоставив самим себе. В этом-то красном уголке, на желтой лощеной оберточной бумаге из солдатского «чайника», я писал свой первый рассказ. Он назывался «Катя и Дизель» и основывался на реальных событиях.
Главный герой (Дед) перед уходом в армию разрывает со своей девушкой. Его друг, механик-водитель Женька по кличке Дизель, просит Деда помочь ему с письмами своей подруге Кате: «Сделай красиво, Дед, ты умеешь». Дед втягивается в чужой роман: он начинает говорить Кате те слова, что не успел когда-то сказать своей девушке. Получается как бы переписка четверых. Катя думает, что ей пишет Женька, а ей пишет Дед. Она думает, что это письмо ей, а это письмо не ей. А та, для кого это письмо, его как раз и не получит. Писалось легко. Я просыпался в казарме среди ночи, обуреваемый новыми идеями, вытаскивал из лежащей рядом на табуретке гимнастерки белую, с голубыми волнами пачку «Балтийских», закуривал (дембельская привилегия – курить в постели) и надиктовывал сам себе очередную страницу. На следующий день оставалось ее только записать.
В середине апреля нам выдали проездные. Земляки – прибалты, украинцы, уральцы, сибиряки – объединялись в группы, искали оптимальные авиарейсы. Доставали парадки, еще на раз проверяя значки, кантики, фуражки, погоны. Обменивались адресами. В двадцатых числах начались проводы. Шли от казармы к КПП. Впереди – группа тех, кто уезжал, за ними – я, с баяном, а за мною – те, кто еще оставался. «Прощание славянки». Во время припева я перебрасывал мелодию в левую руку, в басы, а в голосах правой рукой подыгрывал аккомпанемент.
…и е-е-если в поход, (БАСЫ)
трам-там-там, (ГОЛОСА)
страна-а-а позовет, (БАСЫ)
трам-там-там! (ГОЛОСА)
С каждым днем редели ряды тех, кто шел за мной, а 30 апреля не осталось никого: я отыграл «Славянку» последний раз и сдал вечером баян в каптерку.
Утром 1 мая были объятия с дневальными на КПП, была улица Ленина, троллейбусы вдоль дороги с притянутыми книзу дугами, толпы, динамики, марши, гармошки, гитары, странное чувство своей полной обособленности и одновременно единения со всеми. Потом вагон в голове состава, пустое купе, перемена погоды, белые косые хлопья снега за окном вперемежку с черным дымом тепловоза, уже вечером две студентки, как две инопланетянки, смеющиеся, отряхивающиеся; забытые атрибуты инопланетянок: болоньевые плащи, шелковые блузки, молнии на юбках, нейлон, каблуки, а перед высадкой, на следующее утро, косметички, помада, тушь, гримаски перед зеркальцами. И снова один, и верхняя полка, и ветер в открытой форточке, и разорванные облака. В Иркутске на одну ночь командировочный лет тридцати пяти. Серые глаза и русые вихры, белая засаленная водолазка, дрожащие пальцы, когда прикуривал, жалобы на пустые прилавки в магазинах, на дороговизну в буфетах и вагонах-ресторанах. Шутки-прибаутки. “Жизнь порой меня колотит и трясет”. И вновь падающая и взлетающая телеграфная линия, шлагбаумы, мосты, рощи, еще не зеленые, еще сизые от набухающих почек, перроны, жареные семечки, вареная картошка с укропом в газетных кульках, нервное курение в тамбуре в ожидании встречи, дачки, заводские корпуса, гаражи, кленовые лесозащитные полосы, и внезапно, во весь размах, мой старый друг – Красный проспект. Новосибирск.
6 мая был семейный ужин вчетвером: родители и мы с братом. Мать достала графинчик, наполнила три рюмки водкой, а четвертую – лимонадом. Тут же выяснилось, почему. Отец только что выписался из госпиталя – ему нельзя. Он посмотрел на лимонад с грустью, вздохнул, махнул рукой, вышел из-за стола, вернулся с алюминиевой фляжкой, выплеснул лимонад, налил себе чего-то темно-коричневого. Мать стала жаловаться:
– Ты бы знал, сын, как я устала с ним бороться. Ты знаешь, что мне сказал его врач в госпитале?
– Что сказал его врач?
– Врач сказал, что «ваш муж поразительно несерьезный человек».
– Таюшка, прекрати. У меня сын вернулся. Это ж настойка. В кедровых орешках целительная сила, – оправдывался отец. – Давай лучше сыграй, Андрей, что-нибудь наше.
И мы запевали.
Любо, братцы, любо,
Любо, братцы, жить.
С нашим атаманом
Не приходится тужить.
Во время войны отец пытался освоить сначала мандолину, потом баян, но в силу обстоятельств не осилил, бросил. Несыгранные когда-то песни его, видимо, тяготили, и, когда я закончил музыкальную школу, отец нашел способ от них избавляться: он стал играть их моими руками. У мелодий его довоенного и военного детства не было нот, их не исполняли по радио и телевизору. Мы подбирали по его памяти. Отец не мог показать, как правильно, но сразу слышал фальшь: «Врешь! Мимо!» Я пробовал сыграть иначе. «Лучше! Ближе!» – он еще раз пропевал. Я опять пытался… Наконец, мы добивались цели. «Попал! В яблочко!» В эпоху электрогитар и битлов передо мной открывался забытый мир есаулов, уркаганов, биндюжников, кочегаров, ямщиков, пареньков с рабочих окраин, сорви-голов шоферов, летчиков… Законы жанра были таковы, что герой песни или не дотягивал до посадочной полосы, или срывался на машине с обрыва, или заболевал тяжелой неизлечимой болезнью, или погибал, порубанный саблей, простреленный пулей. Умирая, он давал наказ, формулировал свое кредо, смысл которого сводился к тому, что не так уж много было в этой жизни такого, о чем действительно стоит жалеть.
Жалко только волюшки
Во широком полюшке,
Мать мою старушку,
Да буланого коня.
Спели «С одесского кичмана», «Мясоедовскую», «Я милого узнаю по походке». Потом отец попросил цыганочку с выходом. Начал бодро, выкинул несколько коленец, но, когда темп стал убыстряться, запыхался, остановился, вернулся за стол, посерьезнел.
– Не хотел тебе писать, не хотел расстраивать. Плохой у меня диагноз. Осталось месяца три, максимум четыре.
Потом рассказал, как подговорил дежурную медсестру в госпитале, как проник ночью в кабинет своего лечащего врача, как нашел историю болезни. Потом перешел на прозу жизни. На сберкнижке ноль. Надо продавать дачу.