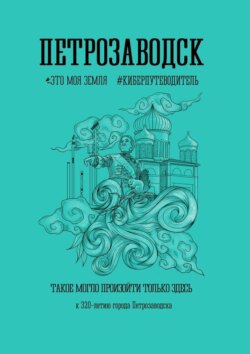Читать книгу Петрозаводск - Андрей Сулейков - Страница 10
Петрозаводск.
Это моя земля
Молчаливый диалог с городом
Ирина Рынкевич
ОглавлениеТерпеть не могу, когда Матвей надолго уезжает из города. А месяц – это очень долго, летом – это почти вечность. Единственный способ хоть как-то смягчить наказание – тоже уехать. Но в этот раз судьба беспощадна. Мне предстоит месяц перекладывать бумажки в серьезном учреждении, а Матвей с однокурсниками отправится на север Карелии в экспедицию по заброшенным деревням. И то и другое называется студенческой практикой. Для меня это двойная пытка. Без Матвея город становится пустым.
Мы учились с ним в одной школе в параллельных классах, а познакомились только в универе. Точнее, я знала, как его зовут, но мы никогда не разговаривали и даже не встречались взглядами. В нашей параллели пять классов и все переполнены. К тому же я пришла в лицей только в 8-м классе, когда переехала на Кукковку.
В первый же учебный день мы столкнулись в главном корпусе в фойе у входа. Я так обрадовалась, увидев знакомое лицо, что, не задумываясь, поздоровалась, назвав Матвея по имени, и спросила, куда он поступил. И мы поделились информацией об общих знакомых из параллели. Собственно и все.
А потом оказались утром в переполненном троллейбусе по пути на учебу. Матвей поставил меня у заднего стекла, а сам уперся в поручень и сдерживал натиск близстоящих. И мне казалось, что вокруг меня образовалось теплое облако.
Иногда в хорошую погоду, если у нас пары заканчивались одновременно, мы шли домой пешком, меняя маршрут, если не целиком, то хотя бы на небольшом участке. Это у меня топографический кретинизм, а Матвей может занырнуть в любой двор, покружить между домами и выйти в нужной точке, словно в его мозг вживлен навигатор.
И не то чтобы разговоры у нас были какие-то особенные, хотя порой пробивало, конечно, на интересные темы. Просто я привыкла ощущать теплое облако, которое он создавал, хотя бы два-три раза в неделю. А теперь вот…
Я даже пошла на вокзал проводить Матвея, настолько меня напряг его отъезд.
– Оставляю тебе город, – Матвей пытался меня утешить.
– И что с того? – хныкала я, – с ним не поговоришь.
– Это ты зря. С городом очень даже можно разговаривать. Просто нужно научиться.
– Сама я не справлюсь.
– Хорошо, буду твоим наставником. Со связью там, правда, говорят, проблемы, но хотя бы эсэмэски, надеюсь, будут доходить. Короче, ты задаешь тему, а я тебе даю ссылку на место, куда нужно пойти. Ты честно идешь в это место и сосредотачиваешься на своих мыслях и ощущениях, а потом пишешь, что получилось. Договорились?
Мы давно забили номера друг друга в телефоны, но пользовались крайне редко. Это было частью неоговоренных правил наших странных отношений. Мне они нравились. Приняла я и эту игру.
Вернувшись домой с вокзала, я отослала сообщение на заветный номер: «Связь времени и пространства». Прошло полсуток, прежде чем я получила ответ: «Найди третью елочку – ответ там». Ничего себе квест. Мы так не договаривались. Он же сказал, что назовет место, а это ребус какой-то.
Все четыре часа практики я крутила короткий текст в голове. Что за елочка? Если она третья, то их конечное количество. Значит, ели какие-то необычные, например, голубые. Помнится, какие-то были на привокзальной площади и на площади Ленина. Позвонила маме – она работает в экологическом отделе мэрии. Мой вопрос ее огорошил: что за странный интерес? Но ответила, что на площади Ленина ели не прижились, а вот на площади Гагарина росли, но их срубили в 2009-м, а через десять лет посадили снова.
Если честно, после работы я даже покрутилась у этих елочек, не очень понимая, с какого края считать. Села на скамейку и еще раз повторила про себя фразу из СМС. И вдруг подумала: почему он сказал «елочка»? не елка, не ель? Новогодняя, что ли?.. И тут меня осенило! Елочками называли схожие группы домов на Октябрьском проспекте. Мы жили там до того, как переехали на Кукковку.
Я открыла гугл-карту. Пять «елочек» – от улицы Ленинградской до Мурманской. Нумерация домов начинается от центра города. Да хоть с какой стороны, раз их пять. Я жила в той самой третьей «елочке», в первом доме из четырех, ближнем к проспекту. И Матвей знает об этом. Мне как-то нужно было сходить в налоговую, и он вызвался меня проводить. А потом я показала ему дом, в котором раньше жила, и провела его по своему обычному пути в Университетский лицей, где я училась. Путь был настолько нахоженный, выверенный до оптимального минимума, что здесь кретинизм был мне не страшен. Я показывала дома, в которых учились мои одноклассники. Некоторые, правда, ездили из других районов – школа-то престижная. В начальной школе было приятно встретить кого-то из одноклассников и идти вместе – за разговорами путь казался короче.
Объект: Группа домов-елочек
на Октябрьском проспекте
«Обратно пойдем другим путем, – сказал Матвей, когда мы дошли до крыльца школы, – веди». И мы пошли по набережной Варкауса.
Из центра попасть на Октябрьский проспект легче всего, пройдя через старое кладбище. В детстве я его боялась, теперь же при случае любила здесь ходить – кладбище больше походило на парк, да и асфальтовая дорожка широкая, чистая, и народу там всегда много, и я несколько повзрослела. Но от вокзала можно было пройти еще более уютным путем – по Шотмана до Красной, занырнуть в парк у реки Неглинки, который, постепенно сужаясь, выводит на Ленинградскую.
Вообще, я редко бываю в этом районе – только если в этом есть необходимость, просто гулять здесь почему-то желания не возникает. Впервые озадачилась: а почему собственно? Широкий проспект с газоном посередине, опрятные дома… Шла и прислушивалась к себе. Уловила легкое чувство неловкости, словно мне напомнили о детских шалостях и подростковых дурацких поступках. Буквально заставила себя зайти во двор, найти глазами окна нашей бывшей квартиры. Повторила весь путь до школы и, как тогда с Матвеем, вышла на Варкауса. Но не повернула направо к центру, а пошла к озеру.
Уже став студенткой, я осознала, что не представляю себе, как можно жить в городе, где нет озера. А в детстве просто любила бывать на берегу. Когда я еще не ходила в школу, мы с папой часто ходили сюда в выходные, пока мама управлялась с домашними делами. Видимо тогда ей было легче отправить нас гулять, чтобы не путались под ногами. Потом-то она просто поделила обязанности между всеми.
Зимой мы с папой ходили на лыжах на другой берег. Не озера, конечно, оно огромное, – Петрозаводской губы. На другом берегу отличные горки. Накатаешься на них, а обратно идти уже сил нет. Тогда папа соединял через кольца наши палки и тащил меня на буксире, моя задача была лишь удержаться на ногах…
Прогулочный участок у озера показался мне таким маленьким. Как я умудрялась в детстве так долго по нему гулять? И находить какие-то занятия. Залезть на тот большой камень, найти плоские камни и «печь блинчики», пройти по бревну через речку…
Вернувшись домой, я отправила Матвею эсэмэску: «Я шла в район моего детства, будто в само детство. Но пространство осталось, а время ушло. И время изменило не только меня, но и это пространство. Сохранившиеся детали не просто вызывают воспоминания, а активируют внутреннюю память – я вспомнила свои тогдашние страхи, мечты, состояния, словно повстречалась с собой-ребенком. Спасибо за прогулку».
Объект: Парк «Беличий остров»
Игра сработала. Мне было о чем думать, разбирая бумажки на своей нудной практике, и не ощущать так остро отсутствие Матвея. Я учусь выстраивать диалог с городом, Матвей выступает в роли наставника. Я задаю тему, он – выбирает место. Я иду туда, куда меня отправил наставник, а потом докладываю ему о своих мыслях и чувствах. Сотовая связь нам в помощь.
«Почему ты любишь ходить разными маршрутами?» – спросила я эсэмэской и почти сразу получила указание: «Беличий остров. Но, чур, не по центральной аллее».
Это сейчас парк называют «Беличий остров», там отсыпаны дорожки, сделана детская площадка и установлены тренажеры, а когда-то это был просто сохраненный участок леса. В период преобразования парка в нашем доме о нем говорили чаще, чем о моей успеваемости. Что поделаешь, мама – сотрудник экологического отдела мэрии.
На Кукковке таких участков несколько, и они на удивление хорошо сохранились. Однажды я ждала, когда меня заберут на машине, и от нечего делать считала травянистые и кустарниковые растения на газоне. Набралось 18 – такое биоразнообразие искусственно не создашь. Но «Беличий остров» – это прямо материк районного масштаба.
Во время экзаменов круг по парку был лучшим средством перезагрузить мозг. Я засекала – в хорошем темпе всего 20 минут. Благо, наш дом стоит у самого «Острова».
Сойти с центральной аллеи я бы решила и без указаний Матвея. И дело не только в людях (зачем идти в парк, чтобы смотреть на людей?), есть там более надоедливые существа. Голуби облетают тебя и бросаются прямо под ноги, выпрашивая еду, а белки чуть ли не в карманы лезут. Не получив угощенье, белка заглядывает в глаза, словно спрашивая: «И зачем ты тогда сюда пришла?»
Долой с пути попрошаек, я иду искать ответ на свой же вопрос.
Стволы деревьев похожи на лапы гигантских динозавров, а большой пень напоминает замок, в котором живут маленькие волшебные обитатели.
Корни проступают из земли, словно вены. Настоящая подземная сеть, по которой сигналы передаются с феноменальной скоростью. Коряги как антенны считывают все, что происходит на поверхности. Эта сеть держит собой весь «Остров».
А этот пень похож на тайный знак для инопланетян.
Пожалуй, мне, когда я была ребенком, прогулки по такому парку понравились бы не меньше, чем поход к озеру. И уж ребенком я бы точно не гуляла по центральной аллее.
«Нашему мозгу всегда нужна новая информация. Люди поэтому и любят путешествовать. Но поездки требуют времени и денег, а потому случаются не так часто. Меняя привычный маршрут, всматриваясь в детали, мы можем побаловать себя впечатлениями без отрыва от дома и работы». Смайлик от наставника – знак поощрения.
Объект: Скульптура «Тюбингенское панно»
на набережной Онежского озера
С практики нас отпускают раньше – у них просто не набирается для нас заданий на все четыре часа. Не то чтобы в отделе не было работы, просто к той, что есть, мы не готовы, в это надо вникать. Какой смысл, если только поймешь, а уже уходить? Так что для сотрудников мы скорее обуза, чем помощь, у них и без нас работы море, и большая ее часть – срочная. Но для нас это хороший урок.
Поступая в вуз, мы рисуем себе радужную картинку своей будущей специальности. В ходе учебы краски радуги начинают тускнеть, но все равно ориентируешься на них. Практика, наверное, для того и предусмотрена, чтобы макнуть нас в реальность. Я не скажу, что реальность эта серая, но цветовая гамма там явно другая. В нашем отделе это чаще пурпур, от него быстро устаешь. Так что вопрос мой к городу сформулировался сам собой: что со мной будет после окончания университета?
Я была готова к тому, что Матвей тему забракует, но пришло указание: «У тебя есть выбор. Подарок из Тюбенгена может помочь».
Я знала, куда идти. Мы с Матвеем часто сворачиваем на набережную Онеги, существенно удлиняя маршрут, но если ты живешь на берегу озера, глупо отказывать себе в удовольствии смотреть на большую воду.
Нынешний свой вид набережная в Петрозаводске обрела в 1994 году. Честно говоря, не представляю ее другой, хотя мама и пыталась рассказывать, показывала фотографии. Тогда же это место стало еще и галереей современного искусства под открытым небом, точнее хранилищем подарков от скульпторов из городов-побратимов, и не только от них.
Подарок от немецкого Тюбингена – композиция из 61 металлического стержня. Они все разные. И я понимала, зачем Матвей отправил меня смотреть на них. Желания формулировать трудно, на них много что влияет, а в таком вопросе, как твое будущее, очень важно остаться наедине с собой.
Я не удержалась и отправила Матвею СМС: «Обойди сознание (с)». Это его фраза. Иногда во время наших прогулок я начинала рассуждать вслух, а он внимательно слушал и даже кивал в знак согласия, а потом вдруг говорил: «Обойди сознание», – и я словно останавливалась у пропасти. Мысленно хотелось выстроить логический мостик, но призыв в том и состоял, чтобы прыгнуть и ощутить силу крыльев. И прыгать до тех пор, пока не научишься делать это легко.
«Много подобного, но разного». Это уже моя фраза. И мой способ обойти сознание – обратиться напрямую к подсознанию через образы. Мы любим с Матвеем играть в такую игру, если видим что-то подходящее. «Кто из них ты?» – может спросить он, показывая на цветочную горку с разными растениями. Мы останавливаемся на несколько минут, я выбираю, объясняю, почему выбрала именно это, а потом он объявляет, что выбрал он и почему. Наши мнения ни разу не совпали. А я, в свою очередь, могу «подсунуть» ему сиюминутную выставку машин на площади Кирова или овощи на прилавке магазина.
На этот раз мне предстояло сделать выбор посерьезнее, и подарок Тюбингена подходил для этого идеально.
Добираясь до набережной, я уточнила алгоритм действий: сначала сделать выбор глазами, то есть не думая; потом попытаться расшифровать, что скрывается за образом; после этого оценить через аналогию все остальные мачты – вдруг среди них окажется более выигрышный вариант.
Те мачты, что меньшего размера, сразу ушли из поля зрения, сократив выбор почти вдвое. Мой взгляд практически сразу упал на стержень с поперечной перекладиной – она словно для того и была сделана, чтобы ухватиться за нее руками. Три красные черты выше – будто планки, установленные кем-то свыше. Это то, до чего я должна дотянуться? А рельефные отметки еще выше тогда что? Другие возможные достижения? А что если красные линии – это преграды, знак «стоп, опасность», и чтобы добраться до рельефных планок – физически осязаемых – нужно преодолеть эти три запретные линии? Тогда нужно понять, что я себе подсознательно запрещаю. Или, оставаясь в образе, преодолеть их? Вот если бы встать на эту перекладину ногами… А, собственно, что мне мешает это сделать? Это ведь мой образ, моя история.
Я представила себя стоящей на перекладине. Очень удобная и надежная опора. И чего я пыталась на ней висеть? Красные линии царапали меня поперек тела, но на них уже можно было не обращать внимания. Интересно было ощупать нижнюю рельефную планку, единственную, до которой я смогла дотянуться. Поняла, почему она рельефная – чтобы было за что зацепиться, двигаясь выше.
Но почему верхушка черная с красной полосой? Похоже на смерть. Хотя так и есть: полный финиш – это сход с дистанции. Красная линия предупреждает: «Не спеши к финишу, он и сам наступит. Радуйся каждой новой ступени. Нет конечной цели, есть путь».
Мне понравилась выбранная мачта. Я села на парапет и смотрела на воду, пытаясь зафиксировать состояние. Вода в тот час была бледно-голубым шелком – словно кто-то слегка встряхивает гигантский отрез ткани.
Возможно, среди мачт есть более комфортная – с удобными опорами и зацепками. Сейчас оглянусь и проверю. Но менять не буду. Моя мачта дала мне ощущение прорыва, и от этого я отказываться не собираюсь, даже ради комфорта.
Я оглянулась и стала всматриваться в другие мачты.
Есть две с площадками наверху – одна повыше другой. Вроде бы стоишь на такой площадке – небо над головой, а ощущение, будто уперся в потолок. Оказывается, потолок в смысле ограничения может быть и под ногами.
А есть другая – с «ракетой» на верхушке. С этого ракурса она выглядит самой высокой. Представился человек целеустремленный, даже одержимый.
На звание высочайшей мачты есть и другой претендент – самый навороченный по деталям. Нужно будет посмотреть с другой стороны, определить, кто же все-таки из них выше.
А вот другая интересная история – сначала мачта гладкая, прямая, а потом вдруг переходит в зигзаг. Интересно, что такое произошло с человеком, что его стало кидать из стороны в сторону?
Есть мачта, похожая на клавиши рояля. Образ переводит вертикаль в горизонталь и позволяет «играть» по всему диапазону, не думая о высоте. Хороший вариант, хотя, наверное, не совсем мой.
В какой-то момент я поймала себя на том, что думаю о металлических стержнях как о людях, чувствуя их характер, поведение, судьбу. Разве обо всем этом напишешь в СМС?
После некоторых творческих мучений выдавила из себя: «То, за что держалась руками, сделать опорой для ног. Убрать три внутренних запрета. Почувствовать на ощупь ближайшую перспективу».
К вечеру пришло сообщение от наставника: «Это уже сама дошлифуешь, ты это умеешь. Или обсудим вместе, когда вернусь».
«Когда вернусь…» В груди что-то неприятно сжалось, но ненадолго.
Объект: Парк «Ямка»
Мне это уже не кажется игрой. Это скорее особая форма общения. Матвей знает и меня, и город и пытается научить нас взаимодействовать. Совсем без его помощи пока не получается. Когда-нибудь научусь.
Раз уж мы заговорили о будущем, попробовала развить тему: «Может ли человек формировать реальность? И если да, то как?»
Ответа пришлось ждать почти два дня – перебои со связью дали о себе знать. Я даже уже начала сама мысленно выбирать подходящие места, но, как всегда, наш выбор с Матвеем не совпал.
«Мостик у каштанов. Ощути пространство по обоим берегам. Основной ресурс под тобой». СМС пришло за полчаса до окончания работы. Погода была дождливая, но мне не терпелось оказаться на мосту.
Вообще в Петрозаводске 22 официально названных моста и 4 путепровода, как уверяет мама. Но я точно знала, о каком мосте идет речь.
Каштаны в «Ямке» мне тоже показала мама. Я хандрила во время летней сессии на первом курсе, информация уже не усваивалась, голова раскалывалась. Вечером я даже психанула, и мама велела отложить учебники и ложиться спать. Утром, уходя на работу, она разбудила меня и шепнула на ушко: «Встреть меня после работы, я покажу тебе чудо. Но для этого тебе нужно днем позаниматься. Вставай». В то утро я встала легко, с улыбкой. Мой внутренний ребенок весь день в нетерпении топтался у двери, а взрослая часть меня глотала страницу за страницей, чтобы пойти смотреть на чудо с легким сердцем и после уже не возвращаться к учебнику.
Даже сейчас, когда я знаю, в чем состояло чудо, все равно улыбаюсь, вспоминая тот день. Я никогда прежде не видела, как цветут каштаны. Цветы оказались необычными, похожими на ванильные пирамидки. Честно говоря, по эстетическому удовольствию у меня на первом месте листья каштана, которые и сами похожи на гигантские зеленые цветы, на втором – плоды, словно сделанные из дерева и отполированные до идеальной гладкости, а потом уже цветы-свечки. Чудом было само то, что у нас есть каштаны. И теперь, проходя через Ямку, я обязательно заглядываю проведать их. Не стала изменять традиции и в этот раз. И Матвею прошлым летом я показала каштаны тоже в момент цветения.
Я стояла на мосту, повернувшись по течению. Слева парк «Ямка». Когда-то это место называли Большой овраг. Он появился в 1800 году, когда Лососинка вышла из берегов и смыла все, что находилось в ее пойме. Когда река утихомирилась, в углублениях осталась рыба, и жители собирали ее руками. С тех пор Лососинка никогда больше не выходила из себя настолько.
Говорят, во времена работы Александровского завода здесь образовалась свалка, которую было видно с третьего этажа (с учетом цокольного) дома горного начальника – не самое приятное зрелище. Устроили массовый субботник и место вычистили. Но настоящим парком оно стало в 1934-м. Мама говорит, что в «Ямке» насчитывается 48 видов деревьев и кустарников.
Раньше парк выглядел заброшенным и оттого жутковатым, но теперь, когда его почистили, установили освещение, это место стало для петрозаводчан одним из любимых мест прогулок.
Справа от моста – самое быстро меняющееся пространство в городе. Мы часто здесь бываем, добираясь из универа домой. Этот участок маршрута можно оставлять неизменным – он и сам по себе постоянно преображается. Помню, как открылся вид с улицы Калинина на Музыкальный театр, когда убрали старые корпуса завода; как один за другим появлялись арт-объекты на Комариной тропе; а теперь поражает, с какой скоростью возводятся здесь жилые дома.
Заброшенное становится уютным, из руин что-то восстанавливается и сохраняется, что-то убирается, чтобы дать место новому. Может, в этом и заключается искусство формирования реальности? Понять, что следует оставить, приведя в порядок, а что убрать, освободив место для нового. Об этом я и написала Матвею, добавив: «Глупо думать, что начинать нужно с чистого листа, начинать надо с принятия реальности».
Я стояла на мосту и смотрела на реку. Вода в Лососинке цвета ржавчины, но для нас в этом нет ничего негативного, для Карелии этот цвет воды привычный. Я смотрела, как вода торопится добежать до озера, и представляла, как она смывает с моей души обиды, особенно давние, застрявшие как бревна средь камней, и уносит их прочь. А потом развернулась, встав лицом к течению и призывая воду принести в мою жизнь новых интересных людей и новые перспективы.
Объект: Губернаторский парк
Две недели практики пролетели незаметно, во многом благодаря курсу «Как научиться разговаривать с родным городом». У меня отличный наставник, и сегодня я получила очередное задание, не успев сформулировать собственную тему: «Кстати, о преобразовании прошлого. Загляни в Губернаторский сад и определи, какие деревья были здесь первыми. Если что, мама поправит. И, пройдя по своей любимой улице, найди то, чего нет».
От места практики до Губернаторского сада рукой подать – пройти по улице Энгельса до площади Ленина, и ты на месте. В 1770-х здесь был въезд в город с Олонецкого тракта и в двух небольших зданиях по обеим сторонам располагалась стража. Это я помню с уроков истории родного края. А из учебника «История Петрозаводска» запомнила, что у львов, отлитых на Александровском заводе и теперь восседающих у крыльца на другой стороне площади, есть двойники в Павловском парке под Петербургом.
Я зашла через ворота в сад. Губернаторским он стал называться еще до моего рождения – в 2001-м, но мама называла его парком пионеров – пока не начала работать в экологическом отделе мэрии.
С экскурсии в школе помню, что изначально парк делился на две части: правая – губернаторская – была открыта для посещения, левая принадлежала горному начальнику и была закрыта. Раз в году здесь устраивали праздник для лучших рабочих завода. Гостей было много – столы ставили прямо на аллее. Я вообще хорошо запоминаю все, что можно представить.
Я бродила по саду, всматриваясь в деревья, словно спрашивая их: что здесь было до того, как появились эти аллеи, пруд, очертания которого и теперь угадываются рядом с домом горного начальника, и три лиственницы, посаженные здесь же двести лет назад… Я уже достала телефон, чтобы позвонить маме, как вдруг вспомнила фразу, которую слышала от нее в детстве здесь, в парке. Я не совсем тогда ее поняла, но запомнила. «В бору веселиться, в березовой роще жениться, а в ельнике удавиться». Судя по тому, что нам тогда было весело… Я не стала звонить маме для сверки, просто нашла сосну, сфотографировала ее так, чтобы было видно, что это Губернаторский сад, и отправила Матвею. И приписала: «Маму спрошу вечером».
И тут же мысли мои перенеслись на проспект Карла Маркса – мою любимую улицу в городе. Жаль, что не осуществился проект по превращению ее в пешеходную – была когда-то такая идея. И брусчатку из малинового кварцита с Первомайского проспекта хотели сюда перенести. Но нужно было разгрузить проспект Ленина, и эту параллельную улицу перекрывать не стали. А брусчатка из шокшинского малинового кварцита перекочевала на набережную, на привокзальную площадь и в тот самый Губернаторский сад.
Раз я должна увидеть здесь нечто, значит, оно существует, просто не в том виде, в каком было изначально. Два здания-призрака мне пришли на ум сразу.
Гостиный двор, простоявший 150 лет, осенью 1941 года взорвали при отступлении, а после войны решили не восстанавливать. Но недавно поставили в память о нем арт- объект «Лошадка», и с помощью дополненной реальности можно увидеть, какие товары продавали в «супермаркете» XVIII века. То есть здания нет, но память о нем зафиксирована.
На месте Национального театра в 1913 году построили кинотеатр «Триумф» – первый в Петрозаводске синематограф. В 1965 году здание реконструировали под театр, изменив его до неузнаваемости, однако общий силуэт все равно угадывается. Тоже подходит под описание.
Или вот ресторан «Петровский». Когда его закрыли? В 2018-м, а козырек с названием остался. Мама с папой любили сюда ходить и всегда заказывали мясо по-петровски: с грибами, в горшочках. Меня в детстве немного пугали низкие потолки и массивные стены, сводчатые залы, чугунные решетки на окнах, но мама объясняла, что просто это старинное здание – еще XVIII века.
Это сейчас проспект соединяет две площади, а когда-то эта улица соединяла административный и купеческий центры города, являясь ее основной артерией. За 240 лет название улицы менялось раз 30. Мне больше всего нравится, как улица называлась до революции – Мариинская – в честь великой княгини Марии Павловны.
В 1884 году в Петрозаводск приезжали великий князь Владимир Александрович Романов с супругой. В честь этого события и назвали набережную Владимирской, а главную историческую улицу – Мариинской.
Уже в советские времена здесь располагался магазин «Мариинский», а теперь магазин переименовали, а табличку оставили на память. Кстати, не ее ли имел в виду Матвей? Сфотографировала и отправила обе таблички – рестораны «Петровский» и «Мариинский».
Но «найти то, чего нет» – это ведь не про таблички. А про что? Про память?
Вот памятник поставили Чарльзу Гаскойну. Совсем еще свежий. Больше двух столетий прошло, прежде чем признали официально: да, человек очень много сделал для города и страны! Приехал сюда по приглашению Екатерины II в 47 лет, привез на завод самую современную технику, внедрил новые технологии, вывел производство пушек на мировой уровень. 17 лет здесь провел, потом уехал в Петербург, а через три года заболел и умер.
По завещанию тело его перевезли в Петрозаводск и похоронили на немецком кладбище, но в 1930-х могила была уничтожена. Теперь вот справедливость восторжествовала.
«Память – то, что не существует отдельно, но растворено в наших мыслях, словах, поступках, искажено нашим восприятием, вплетено в новые реалии. Мы помним даже то, чего не было с нами, если оно в каком-то виде вошло в нашу жизнь, вызвав у нас эмоции».
Объект: Памятник Петру I на набережной
На этот раз я поспешила отослать тему. Время возвращения Матвея в город стремительно приближалось, это радовало, но вместе с тем… мне не хотелось завершать игру.
«Как узнать, на своем ли ты месте?» – написала я в СМС и впервые подумала, что для Матвея это тоже квест – не так легко правильно выбрать место для молчаливого диалога.
На следующий день пришел ответ: «Встань, куда укажет Петр». Но пришел уже вечером, так что на аудиенцию к царю я попала только на следующий день.
Подойдя к памятнику на набережной я мысленно провела луч от его пальца и постаралась встать в эту точку. Получилось довольно далеко от памятника. Я посмотрела в лицо Петру и повторила свой вопрос: «Как узнать, на своем ли ты месте?» Петр смотрел строго, и мне стало неуютно под этим взглядом и под его указательным пальцем.
Почему, собственно, я должна стоять там, куда он указывает? Я сама решу, где стоять. И я стала искать, откуда мне комфортнее говорить с царем. Но это место оказывалось самым правильным, если хочешь пообщаться с собеседником. И тогда я… села. Ситуация стала такой нелепой, что мне стало смешно. Я сижу там, куда мне указал Петр.