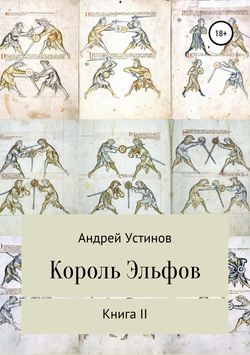Читать книгу Король эльфов. Книга II - Андрей Устинов - Страница 3
2
ОглавлениеЭлизер!
Элизер грузно ходил по комнате… ах, тут вот (какое давеча словцо учил?) надость вещать о многих-многих complétive sujets сразу…
Воспоминать магово учение было неловко. Боже бы очутился даже не в ликейоне, бесславно брошенным на второгодье, а беззубо посещал la crèche на руках кормилицы. И круже – все было большое и яркое, искрилось и путалось в слабых глазах, но совершенно невпонятное. Удивительный мир высочных существ! А тут – торжествовался дивительный мир Елизера, и даже от тщетностей припомнить и изложить мало-мальски складно – в очах ёрно рябилось-слезилось, мысли путались оглашенно, божно те уроки вторились разом в единый миг. Как бы, да, все было яркий и бессмысленный сон, когда и похоже на жизнь, даже и увлечешься сей интригой…
О, Глах!
Элизер… сказать ли: человече, в обычаях тяжкий? Но уже было бы сплутовать, ибо, сколе тяжестный в слове и ходьбе, все же бысть он неуловим, как самая жизнь, когда можно лишь помнить ее чудно́е кичливое мгновение, только бывшееся в руках, но с каждым маятничным махом ускользающее и выталкиваемое новыми песчинками впечатлений. И выпячивая дородную телесность (ах… сочная одышка-отрыжка, вспотевший дух по коридорам, плешная замятость любезного кресла в читальне), – менее всего человече бысть. А бысть – фантасмогория, скопище любопытствующих знаний о природе вещей, блаженных наказов, заклинаний на мертвых языках… Был он и лечебник-звездочет, познавший обе бездны сфер – явственной и отраженной, и магистр, познавший палитру радуги и даже более – все межцветные пространствия… И слово, бьющееся в поэме, в рифме с неслышимым чем-то, и орвис, в небеси воспарящий и бдящий за невидным чем-то, и вертопрах (в юности), перепутавший нечет и чет, и отшельник сугубый (ныне), шепчущий с каплями воды на родном языке…
Да вот и забавник ще: давеча, в добротном духе, едва расплеснул Гаэль ведрецо по камневой дорожке к дому (на листке опрелом скользнула пята), эва-на подшутил, что и ведрецо отлетело кудай-то в куст, пугливо беренча, а вода вся возбилась в несчетные капли круже Гаэля, абы пчельный рой, и даже большеватая водяная царица заискрилась короной во центре дивного клуба, да и – аж взбрызгнулась жгучею струей Гаэлю за шиворот!
Но комната!..
Комната сия, высокостворная, полдома почтитай, – кабинеция Элизера – выходила долгой стороной в сад, полный яблонных деревов, старых и мшистых, почти бесплодных. Именно деревов – столе узловых и шершавных! И при открытых вечностно створах – все-то чудились сладкие старокнижные веяния. По утрам – слепой туман тщился пролиться в окна, колыхаясь втуне, но удерживался невидной пеленой добродушного Элизерова заклятья, хотя наощупь и не чуялось ничто, окромя росы на пальцах… а по вечерам – все тайные ночные жуки слетались на свет Элизеровых вечных свеч (ибо не было ни масла, ни фитиля в них) и сбивчиво танцевали перед оконьями – и хватко мелькивали то и дело в блеклых отсветах палево-рыжие вечерницы (ну, летуны-недотепы, знаете?) и прочие привычные к местному пиршеству существа. Раз как-то, потягивая минуты меж ходами (то были шахматные проигрыши, очень досадные Гаэлю, сколь он ни маялся угадать удар… паче-то Элизер не размышлялся вовсе и приметно вел сии уроки только для jeune ami, отрываясь от важной алхимии), Гаэль воспросил сердечно…
– Но pourquoi, ах, pourquoi, мсье Элизер, вы благоволили устроить столь почтенный сад для себя? Можили бы разбить вечно-цветные вишневые рощи, такво для мадемаузель Летты, али желтые разливы нарциссов, дальновидные из моей горницы, ведущие беспечной лентой по темным вершкам холмов? Абы, знаете, стезица ко Глаху самому!
Он помолчал сконфуженно:
– Знамо ли, вы находите некую общность разговора с сими столетними стволами? Ибо, даже для допотопных яблонь, о коих ведано в ваших книжциях, они уж зело как стары, pardonne moi!
Как часто бывает с юношами, двойной смысл речений донесся до разума запоздало, когда буквы обрели отзвучие. Гаэль тут же закраснелся и прихлебнул еще пунша, и запершился, и загорячился с еще большим ударением:
– Ах, pardonne moi! Я не хотел, мсье Элизер, никоего двумыслия и сказал ровно то, что сказалось. Возможно ли, готов принять, я кручился разве… pardonne moi, разве ли о свойной судьбине и будущих днях, что мне доведется еще перебиться здесь? Как если бы, comprenez-vous, ваши любезные разномастные… pardonne moi, мастеровые ли уроки, к чему-то меня готовят, но к чему? Время на вашем чудном подворье просто застоялось – жить-не-тужить! – и будто бы я не ведаю ведать, где же заводные гири, чтобы заново запустить ваши редкостные беглые стрелки… pardonne moi!
Элизер же, мерно-грузно шагавший по упружистым половицам всё время игры, тут замер у оттворенного окна, где в наставшем молчании – ставни тихо постукивали, тянуло ще теплой сыростью, капелью оседавшей на раме, и всё птичное разголосье лилось во благом отдалении. И призвал Гаэля тихим волшевейным вздохом и молча (ще вообще разговаривался редко) как-то восплеснул кистью, и сад за окном подернулся цветовым маревом, переливаясь в живую картину. И что прозрел Гаэль: развидел многоглазую цветками поляну на холме, где пробивались молодкие яблонцы, и блеск утреннего солнца в их нежных ветвицах после грибного дождя (так даже жмуриться пришлось), и внял, кабы перенесшись живьем за старые ставни, что здесь-то давеча набрел Элизер на яблонцы сии, и воздохнул восторженно, и раскинул вокруг них грядущий Фанум, и века протекли, как сущий день, но яблонцы живы ще, подпитанные Элизеровым выдохом, но мудры, как и сам их верховный маг, и (правда! ах, правда!) любезен Элизер повздыхать с ними не людским разговором, но ласкостью вьющейся у корня травы, помыслом ползущей по стволу любоглазой улитки-крохоборки, пряностью колдовского бусенца с голубейных небес и омывающего с шершавных листков всякостных букарок и долгоносов, и шелкопрядных гусиц, и заблонников, и пядениц, и казарок… Глах их побери!.. к радости потешных окрестных ежей, соразмерно устраивающих праздничное шествие от ближней опушки!
(А вот… А любопытно, ангажировал ли вечерниц для службы, ну как лайферы… ах, а ежи-то потешные зачем? И он спросил однажды позже…)
Но шахматы!
Они пока играли на двойных, но Елизер показал ще на первейшем уроке, единым взмахом – когда рука его, обороченная пестрой тканью халата, толь быстро вспархивала над столом, что множилась и уже пестрая птица кувыркалась в воздухе! – доска троилась и четверилась полями, и фигурки равно множились, самочинно разбегаясь по позициям… и по-коголански кланяясь в реверансе ихнему notre aimable hôte, и замирая. Ах, шахматы же с Коголана выдуманы, разве не знали?!
Но Елизер смеялся только в бороду их детским ужимкам. И показывал легкими движениями рук, как бы музицируя, что цельные армии знамо движить по воле твоей, ежели только чуешь ты волю и ведаешь препоны! И вот, говорил он (а когда говорил Елизер, то всегда странно сухо, как бы с jeune ami, но внуком-недорослем, что живо коробило юношу), что малость толку знать ходы…
– Несть пользы скудно заучить хождения фигур, jeune ami. Допусти, некто ведает буквы, но может ли сей персонаж из смутных ликейонских фолий твоих вычитать вечные Галаховы пророчества? Такова разница, Гаэль! Шахматы суть простая игралка, только шесть элементных разниц в ходьбе и ратности. Но кто седьмой – ты! Но так и жизнь – почуй персонаж и красочность его: в голубом – внемли его сильности обыденные и смертные, во красном – внемли его слабости мирные и в часы отчаяния. Предвижи его движимость и линии силы, но предвидь и бесцветные тулупы глупости, душащие порывы их! Теперь – будеши множество персонажей, твоих и вражьих. Почуй каждого! Умножь линии силы на величие дней и ночей, кои пребудешь с ними во коловрате! Ах, jeune ami, заплачешь ты, сколько партий решены еще до рождения их слепых игроков!
И с этими словесами – Элизер показывал на доске, лишь мимолетно взмахивая перстом с волшебным александрическим камнем, как от малой белой пешки расходились сперва лазуритные лучики, быстро теряясь в тенях доски, как вокруг фигурки герцога вспыхивала короткая, но сильная тагашовая кайма, как от красавицы-герцогини разлетался по всей доске букет моренита, насквозь просвечивая противленцев, пока не гас в груди чернавки-самозванки! И затем – вспыхивали красным глазом ворожьи ряды: ломаные пунктиры от боевых ушанов, прямобойные линии от осадных башен и косые жала-стрелы от начальственных шершней-сержей в почетных колпаках! И затем – рать на рать – воздохновлял Елизер все огоньки волшегранного камня, и ах как правда, виделись на доске гущения красной и голубой силы, и мерцающая фиолетная линия затяжных позиций, и – ах же! – лунноватые прослабы в Гаэлевой обороне. И прав был учитель – все чудилось предрешено…
– И никогда, Гаэль, никогда не повторишь ты пройденного! Только боги, jeune ami, смеющиеся боги могут смахнуть нас, живущих, в пыльный ящик и затеять одно и то же от скуки сначала! Из смертных же – Король Эльфов один, что почиет нынче в беспокойных былинах!..
И махнул тогда Элизер рукой, и погасли огни, и доска скрипнула досадостно, и фигурки раскатились в ящицы их как неживые… и вышел молча в задышавший нежданной росностью сад. И что за урок это был? Разве ли – разве ли пожалеть несчастных крашеных колобашек, что живы-то ежели богу их угодно проучить неуча? Разве ли дотошно помолиться Глаху и Метаре, царственой паре небесных шахмат, чтобы довелась ему сила однажды пробиться туда, на окаянную вражью черту?
Ах… да что он знал, что знал? Какой горизонт, и куда пробиваться? Вот что за помутнение старец наговорил, если все было так ясно и уже рядом – и Фанум, и благовейный тенистый сад, и зацветшие нарциссами солнечные луга, и Летта-Летта-Летта, Летта всех цветов радуги и любви!
Но еще про Элизера… Еще были книжицы!
Ох, уж это была и полка! Не то и вовсе, что в подзабывшемся ликейоне, где пыльные их ряды и надость с ломкой приставной скамьей бегаться, чихаясь и голохясь, и тормошить поблекшие корешки. Но такой армуар, крепче дома, из красно-карей заморейской яхтобы! Гаэль такое древо и не знал – даже в ликейоне не ведали! – но так молвил Элизер. Ну вот – и не высотная, где шаткая приставка нужна, и не широтная, где кузнечиком стрекочешься по анфиладе от края до края… а вот же! книженцы по краям затейно туманились и титлов было не вычесть, да и не вызволить ту книжицу, абы в прозрачную холодную завесу рукой попадал – будще, знаете, под ледяной пленкой? Но надо было – вот же лихо хозяин выдумал! – требно книжку вызвать, возвестив желание, и тогда в серединной секции лед пропадал, и фольянты ярчели и переливались (словно Глах солнечной краской провел) одни на другие, сообразно задуманному предмету.
К примеру вот, зажмурился Гаэль крепко, зажелал сказенцию об эльфовом короле, что хозяин молвил, и пощурился: вот же она! Сияет тирским пурпуром переплета, даже на Гэлевой руке царственный отблеск! Ах, герой-хитрец! Хотя, кто сомневался бы, все от женщины идет! А было так: ленился Глах воевать за какую-то малость – кажется, хотел в наложницы милую чернавку из дома адского старосты Гадеса; и договорились мужчины потаенно (ну, за праздным возлиянием, куда женам хода нет), что при всех богах уступит владыка Гадесу в шахматах, прославив тем его сметливость и прозорливость и еще многие льстивости; но малая вечерница на службе у Метары проскреблась в мужьи палаты и толь занежила сторожевого ушана, что удрых живчик от трудов их пятками к небу, а вечерница пронырнула в зальный дымоход и всю интригу, хотя обожженная до гибели, донесла богине; и снизошла тогда Метара к Королю Эльфов на игральной доске (и одарила ли лаской? о-хо, книга хитрила тут!..) и свойный составила сговор; и дохнула на одуванную соринку, что попала царственному мужу ажно в слезный мешочек, и заслезился Глах, и пока протирался низко над доской (и Метара ще заботливо квохчила рядом!) – дотянулся герой и подрезал рыжую волосинку с нечесаной бороды; и выковал с нее магнитный меч, что любую вражью магию вытягивал; и когда очистился Глахов глаз – уже на доске была его разгромная победа, и разобиделся Гадес, и была меж богов и присных ужасная свара, и запечатал вконец Глах наглеца в тоево чистилище, вместе со всем домом его.
И что еще было чудно – по первости страницы мнились бесцветными папирусными листами, тесно испещреными грамотой, разве что заглавные буквицы мелькали позолотой. Но как вчитаешься и поведешь пальцем по строке, и то-то руцевой фолиант расширялся полномерно и хотелось уже буковязовую подставку под тяжелые истины! И на открывшихся полях – где-то взаправду овес колосился под копытом боевого коня, где-то синий магический кит фыркался в океане на всю эту потешную историю, а где-то на краю обложки сами Глах и Гадес сидели, бражничая, и (прислушаться!) слышен был эхом из угла их похабный сговор о грудастой чернавке. Впрочем, гм… по картинке с оборотной стороны, деваха против не была: ще бы та!
И Летта, ах, как была в восторге сущем от сей истории, но и жалилась за чернавку и пытала все: может ли, что победный Глах таки взял ее к себе хоть в рукомойницы? И сердилась на крестного, что Гаэлю можно у чинного армуара выкликивать книги, но ей нет! И опять-опять: но почему Гаэль не дочитал, почему всё ему мужеские герои важны, но никому не важится, что с простой девушкой выходит? Ахаха, простушкой! Ще бы та!!! Книжица молчит богобоязненно, но картинки-то зримо глаголют – да ведь Гадес-то нароченно чернавку хвастал, ибо была его исконной подстилкой!.. Ах ты, Летта! Ну что, что?! Так ведь наслушницу хотел заживить ко Глаху! А то листолазовой слюнцы подлила бы в кубок! И не благоверная Метара бы… Ах, право, ну что сразу драться?!..
Летта?.. Леттточка!..
Ах, воспоминания! И неслось Гаэлево обучение дальше: колдовская глаголица. Вот же, Глах прости, ересь ведическая. Ну нет – без неважества к Елизеру, даже с благовением к его чуденциям, но невежная ничуть. Заумная! Да Элизер, чудилось, и не ждал от досадного неуча (jeune ami, jeune ami!) золотых совершений. Да и хоть каких-то – али свечу околдованную возжечь по щелку? Не складалось… Но ей-же выдумал упражнение на l'accent