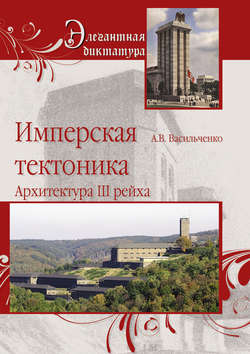Читать книгу Имперская тектоника. Архитектура III рейха - Андрей Васильченко - Страница 4
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Глава 2. «Оздоровление» городов
ОглавлениеЗначимость, которую во времена Третьего рейха придавали архитектуре, была не просто большой, но огромной. В некоторой части это было предопределено целой серией высказываний Гитлера. Так, например, 22 января 1938 года на открытии Первой немецкой выставки архитектуры и художественных ремесел, которая проходила в мюнхенском Доме немецкого искусства, фюрер заявил: «Если народы живут в великие времена и переживают это внутренне, то они оформляют эти эпохи во внешних проявлениях. Есть слово более убедительное, чем устное: это слово, запечатленное в камне». Архитектура как часть самовосприятия национал-социалистической системы являлась частью «немецкой революции», в ходе которой зодчество стало считаться самым серьезным, достойным уважения искусством, сродни возведению памятников.
Кроме того, архитектура должна была выступать в качестве носителя национал-социалистической идеологии, то есть «слова, запечатленного в камне». Другое суждение Гитлер вынес во время партийного съезда 1937 года, который традиционно проходил в Нюрнберге. Данное высказывание полностью дополняло приведенное выше: «Будничные потребности менялись на протяжении тысячелетий, и будут меняться впредь вплоть до бесконечности. Однако великие свидетельства человеческой культуры стоят тысячелетиями. Они возведены из мрамора и гранита. И только они являются поистине неподвижными полюсами в круговороте всех прочих явлений. Во времена упадка человечество пыталось обрести в них волшебную силу, а когда же оно обретало ее, хаос был преодолен, и начиналось преображение. Поэтому наши сооружения должны упоминаться на только в 1940 году, не только в 2000 году. Они, походящие на соборы нашего прошлого, предназначаются для тысячелетнего будущего».
Гитлер закладывает памятник Рихарду Вагнеру в Лейпциге (1934)
Принятие «программы предоставления рабочих мест» как части мероприятий, направленных на оздоровление городов, предполагалось еще в 1932 году. Однако ее непосредственное осуществление началось уже после прихода Гитлера к власти (30 января 1933 года). Это было в первую очередь связано с тем, что национал-социалисты из партийно-политических и тактических соображений стали проявлять повышенную заботу о «выздоровлении немецких городов». Одновременно с этих строительство новых объектов было возвышено до уровня «национальной задачи».
Городское оздоровление, подобно строительству автобанов, должно было иметь решающее значение в «битве за рабочие места». Именно этим объясняется то обстоятельство, что поначалу данный проект курировался Имперским министерством труда и занятости. Для укрепления позиций нового государственного аппарата и аппарата НСДАП была важна осуществленная политическими средствами программа «разгрузки центров городов» и «урегулирования пространства» (лозунги из национал-социалистического лексикона). Новым властям требовалось осуществить меры, которые явили бы немцам быстрые успехи, но при этом могли сопровождаться селективным управлением населением страны (устранение евреев, «асоциальных личностей» и прочего «нежелательного человеческого материала»). Не стоит предполагать, что национал-социалистические властители в данных мерах видели средство по улучшению жилищных условий городских жителей, как утверждала официальная пропаганда и агитационные документы, порожденные в недрах Имперского министерства труда. Речь скорее шла об идеологической шумихе, связанной с повышением значимости старых кварталов немецких городов. Во всем этом чувствовалось приукрашивание действительности.
Проект перепланировки здания берлинского вокзала на Фридрихштрассе
Поначалу национал-социалистическая перепланировка городов была лишь военно-оборонительным мероприятием, направленным на эффективное преобразование, точнее говоря, «урегулирование» городской среды. То есть при перепланировке городов в первую очередь учитывались военные планы. Это относилось даже к первой фазе так называемой «санационной политики» национал-социалистического руководства, когда формальным поводом для переоборудования городов являлось формальное решение транспортного вопроса. Однако «народная моторизация» была неразрывно связана с военными задачами, а потому градостроительное «растворение городов» путем их превращения в поселки и поселения, а также «разгрузка центров городов» оказались тесно связанными с потребностями противоздушной обороны. Во время второй фазы, которая началась в 1937 году со строительства объектов, предусмотренных указом Гитлера «О перестройке немецких городов» (4 октября 1937 года), общий строительный процесс характеризовался тем, что осуществлялась программа «разбора на строительный материал» отдельных старых городских кварталов.
Однако, с другой стороны, национал-социалистическая политика по перепланировке городов должна была выявить себя как «вечно» существующий в перспективе государственный порядок по проявлению идеологии через архитектуру. При этом планировка крупных городов не была почти никак привязана ни к социальным потребностям, ни к требованиям «городской гигиены». Она не была ориентирована на интересы городского населения. Архитектура была ориентирована на то, чтобы стать неким «вневременным символом режима». Национал-социалистические здания должны были быть «возвышены» над действительностью и «банальными проявлениями повседневности».
Проект высотного партийного здания, которое планировалось построить в Гамбурге
Городская архитектура и охрана памятников культуры в Третьем рейхе превратились в эффективное пропагандистское средство (почти средство массовой информации), которое было поставлено на службу национал-социалистическому режиму. Здания, которые выполняли некую функцию «посланий», кроме собственно экономической выгоды должны были возводиться таким образом, чтобы служить «вечно». При рассмотрении архитектуры Третьего рейха слово «вечно» употребляться весьма часто, причем в его истинном, а отнюдь не условном значении. Собственно, в этом нет ничего удивительного, так как сам Гитлер неустанно подчеркивал, используя для этого каждый удобный повод, что роль архитектуры сводилась к двум принципиальным моментам: она должна была служить делу пропаганды национал-социалистического мировоззрения, а с другой стороны, являться инструментом «вечного господства».
Проект реконструкции центральной части Мюнхена
Подобные высказывания Гитлера сразу же становились идеологической основой строительной программы. Подобные сентенции находили свое наиболее яркое воплощение в государственно-партийных строениях. В них наиболее последовательно воплощалась антилиберальная суть национал-социалистического режима, а также подчеркивалась его склонность к насильственному пути решения проблем. Ирония судьбы заключалась как раз в том, что архитектура, в первую очередь ориентированная на людей, указывала на антигуманность национал-социалистического режима. Государственные строения и партийные форумы символизировали в весьма специфической форме политическую силу, величие режима и его мнимую «вечность». Причем это должно было демонстрироваться не столько внешним и внутренним противникам гитлеровского режима, сколько собственным гражданам, которые в большинстве своем его поддерживали. Вновь и вновь апологеты национал-социалистической архитектуры ссылались на то, что монументальные здания являлись выражением и даже манифестацией идеи абсолютной политической власти. Еще в «Майн кампф» Гитлер писал о «излучении» античного Рима и немецких соборов, которые могли придавать долгое время силу создавшему их государству. Огромные, если не сказать циклопические, партийные сооружения, возведенные в столицах всех гау Третьего рейха, являлись исполнением ложно понятых «античных образцов», чем еще больше усиливали ощущение осознанно создаваемой дистанции между «фюрером» и «народом». Попытки постоянно ссылаться на римскую античную культуру и прусское государство с его авторитарным духом и принципом послушания привели к тому, что была принята извращенная в своей сути концепция «Агора»[5]. Тот факт, что Гитлер постоянно сравнивал «свои» строения с образцами обеих империй, указывает, что он намеревался превратить архитектуру в визуальное выражение претензий Германии на мировое господство. Чтобы легитимировать подобные сравнения, активно использовались национал-социалистические расовые теории, которые полагали, что современные германцы были потомками не только пруссаков, но и античных греков.
Пристрастие Гитлера к напыщенным проектам, в большинстве своем явленным в монументальных национал-социалистических сооружениях, выражалось не только в том, что он заказывал их проектирование, но даже частично участвовал в разработке оных. В данном случае было бы правильнее вести речь о самостоятельном архитектурном стиле. Политические «культовые строения» Третьего рейха характеризовались брутальными («героическими») упрощенно-классицистическими чертами. Их возведение в духе «каменной германской тектоники» (слова Ганса Кинера) во многом отвечали уровню анахронического, допромышленного, ориентированного на ремесленные слои производства. Уже в первые недели пребывание у власти Гитлер вместе с архитектором Паулем Людвигом Троостом спланировали возведение в Мюнхене на Королевской площади национал-социалистического партийного форума. Позже черты этого сооружения можно было обнаружить во многих партийно-государственных строениях.
Национал-социалистическое церемониальное место в Эссене (1938)
Вокруг застывшей площади, на которой проходят партийные сборы, смотры и парады, находятся монументальные имперские строения, партийные и представительные здания. Населенный пункт при помощи некоторых символов превращался в некое «сакральное» место, которое активно использовалось национал-социалистической пропагандой.
В рамках общего национал-социалистического культа сооружения на Королевской площади Мюнхена вместе с двумя «церемониальными храмами» были возвышены до уровня «алтаря нации». При этом само обрамление площади провозглашалось «новым» имперским немецким стилем, который должен был браться за образец при возведении всех последующих национал-социалистических форумов. В данной ситуации Гитлер выступал одновременно и в качестве «пророка немецкого искусства», и в качестве «зодчего нации». Он не просто предоставлял отдельным архитекторам заказы, но и оставлял за собой право наблюдать за реализацией проектов, вмешиваться в перепланировку городов, что было связано с его личностными чертами характера. Очевидно, что Гитлер как дилетант в данной сфере весьма переоценивал свои способности. Впрочем, это не мешало фюреру в присутствии немецких генералов и «государственных архитекторов» весьма самонадеянно заявлять, что если бы он не занялся политикой, то «наверняка бы стал известным зодчим, чем-то вроде Микеланджело». Однажды после очередного заявления подобного рода придворный фотограф Гитлера Генрих Хоффман все-таки решился спросить: «Так почему же, мой фюрер, вы так и не стали архитектором?» Гитлер властно и самодовольно ответил: «Я задумал стать зодчим империи, создателем Третьего рейха!»
По большому счету, архитектурные пристрастия Гитлера были обусловлены его пребыванием в Вене, улицы которой он изображал на акварелях. В итоге не было ничего удивительного в том, что будущий фюрер стал тяготеть к строениям в стиле необарокко и неоклассицизма, которые в изобилии имелись в столицах многих европейских стран: Вене, Берлине, Париже. Как видим, предпочтения Гитлера касались в первую очередь архитектуры конца XIX века. В Вене внимание Гитлера было сосредоточено на Рингштрассе (окружная дорога), а также его притягивали архитектурные сооружения Готфрида Земпера, барона Хауссмана, Фридриха фон Тирша и Пауля Валлота. Позже он стал не только придавать большое значение такой характеристике некоторых зданий, как «строения фюрера», но и не упускал случая, чтобы подчеркнуть значимость этих сооружений в своих речах, беседах, заявлениях. Гитлер предпринимал все возможное, чтобы на страницах газет, журналов, книг и буклетов как можно чаще появлялись фотографии, на которых он был запечатлен в окружении архитекторов, строителей, инженеров. Излюбленным сюжетом было изображение фюрера, склонившегося над очередным планом строительства или внимательно изучающего макет одного из объектов.
Здание парламента в Вене
Исходившие от Гитлера и первого имперского архитектора Трооста идеи стали основной для архитектурной переделки Мюнхена и Нюрнберга. Несколько позже Альберт Шпеер создал нечто вроде «программы», обязательной для всех строек государственной важности. Ей пытались подражать во всем рейхе. Во время закладки в Мюнхене Дома немецкого искусства (15 октября 1933 года) Гитлер заявил о новой программе строительства, которая будет осуществляться в «городах фюрера». Однако только 30 января 1937 года в своем выступлении перед рейхстагом в речи, посвященной завершению первого четырехлетнего плана, Гитлер провозгласил, что «внешними признаками великой эпохи воскрешения нашего народа станет планомерная застройка нескольких крупных городов рейха». По большому счету, именно в 1937 году началась первая фаза обильного градостроительства и значительных городских перепланировок.
Дом немецкого искусств» в Мюнхене
Проект гау-форума в Саарбрюкене (1938)
В части градостроительства абсолютный приоритет был отдан столице рейха, Берлину, где руководство всеми работами было поручено Альберту Шпееру. Для подтверждения исключительных полномочий ему была присвоена должность генерального строительного инспектора по имперской столице, что соответствовало военному чину генерал-майора. Закон «О перестройке немецких городов» от 4 октября 1937 года заложил основы для проведения обширных перепланировок городских застроек. С 1937 года наибольшее внимание в рамках градостроительной перепланировки должно было уделяться «городам фюрера». На тот момент таковых было четыре: Берлин, Мюнхен, Нюрнберг и Гамбург. Кроме того, обширная строительная программа должна была быть реализована во всех столицах гау. Если в «городах фюрера» в соответствии с их высоким статусом Гитлер лично назначал архитекторов, которые должны были заниматься перепланировкой, то в гау данные задачи были возложены на местных гауляйтеров. В гау за основу должна была браться предложенная в «городах фюрера» схема перепланировки. Кто-то из исследователей назвал эту программу «гигантскими штабными учениями». Хотя правильнее было бы говорить о гигантском тиражировании «имперских наработок» в архитектуре. Так, например, предлагалась почти единая модель развития городов, в которых центральная часть превращалась в некую «новую национал-социалистическую святыню». В городе выбиралась специальная площадь, на которой возводились здания, предназначенные для государственных, партийных органов, а также их подразделений. Эти здания в своем комплексе должны были символизировать «народное сообщество». Кроме того, сама площадь должна была превратиться в гау-форум с обязательной ведущей к нему улицей, чья ширина должна была составлять не менее 100 метров (со временем эти требования были смягчены). Здесь же должен был располагаться павильон для собраний (гау-павильон, или «народный павильон»). Его размеры должны были символизировать значение столицы гау и выгодно подчеркивать «могущественные» партийные строения. Если говорить о конкретных примерах, то в Веймаре площадь для торжественных построений и собраний имела размеры 100×160 метров, то есть могла вместить на себе 60 тысяч человек. В Аугсбурге она предназначалась для 100 тысяч человек (140×180 метров), в Дрездене – для 300 тысяч человек (200×380 метров), в Гамбурге – для 350 тысяч человек (250×360 метров). В Берлине эта площадь имела размеры 300×800 метров, то есть здесь могло быть построено полмиллиона человек. Как видим, чем крупнее был город, тем больше в нем должна была быть площадь для построений. Ту же самую тенденцию можно отметить и в отношении «народных павильонов». В Веймаре он был предназначен для 15 тысяч человек, в Аугсбурге – для 20 тысяч человек, в Дрездене – для 40 тысяч человек, в Гамбурге – для 50 тысяч человек. В Берлине «народный павильон» должен был вмещать в себе от 150 до 180 тысяч человек. Образцом для этих «партийных форумов» являлся агора времен поздней Античности.
На первый взгляд это было чистейшей воды заимствование из времен Античности. Хотя между гау-форумом и агорой существовали принципиальные смысловые различия. В Германии ставка делалась на монументальность, а не на функциональность строений. Кроме того, в каждом городе имелись свои протокольно выдержанные размеры для подобного рода сооружений. Сама схема гау-форума никак не соотносилась с местными строительными традициями, она была почти унифицированной. Помимо этого сама планировка города в данном случае не играла важной роли, на первом месте находилось чисто идеологическое содержание данных строений и сооружений.
Принято считать (о чем говорилось выше), что базой для развития подобных идей стал комплекс строений на Королевской площади в Мюнхене. В данном случае надо оговорить, что речь шла об общей стилистике, но все-таки не затверженной схеме. По большому счету, схема гау-форума, равно как и застройки центра города, была выработана в 1938 году немецких архитектором Германом Гизлером, который создал партийную «агору» в центре Веймара.
Проект гау-форума в Дрездене (1936)
Площадь и обрамленные каменными плитами стены партийных сооружений были строго симметричными. Сами строения были слегка вытянутыми по форме. Поскольку акцентирование внимания происходило на «колокольне» или же на высокой башне гау-форума, то возникало невольное ощущение непропорциональности всего этого комплекса. Башни как бы «короновались» имперскими орлами. Кроме того, площадь по периметру обрамлялась флагштоками, колоннами или обелисками с изображением национал-социалистической символики. Поскольку партийные сооружения и памятники должны были быть доминантами, определяющими вид города, то «колокольни» гау-форума и «народные павильоны» при своих странноватых пропорциях явно выделялись из городского пейзажа. По этой причине со временем гау-форумы стали возводить на городских окраинах, на свободных пространствах, на территориях бывших парков и скверов. Нередко новые здания соседствовали со старой застройкой, как бы являя собой противоположность «нового духа» (национал-социализма) и «старой империи». Однако во всех более-менее крупных городах гау-форумы должны были возводить именно по указанной выше схеме, что должно было являть собой «всеобъемлющее господство партии» в архитектурном отношении. Сразу же надо сказать, что унифицированные гау-форумы полагались не только для столиц гау рейха, но также и для многочисленных районных центров, индустриальных городов. Нередко они возводились даже не в самых крупных поселках. В данном случае можно согласиться с выводом о том, что в итоге целью данной политики было изменение городского ландшафта немецких городов. Осуществить это предполагалось при помощи неких «культовых сооружений», что в рамках одной тоталитарной системы привело бы к созданию церемониально-архитектурной сети, которая бы плотно покрывала всю территорию Германии. Это в свою очередь могло служить идеологической унификации немцев, формированию пресловутого «народного сообщества» и выработке «великогерманского мышления». То есть архитектурные формы выступали в качестве призыва, через который населению демонстрировалось его «политическое несовершеннолетие».
Модель гау-форума в Аугсбурге
Адольф Гитлер в полном соответствии с основными принципами национал-социалистического тоталитаризма намеревался оформить центральную часть всех крупных городов «центрами власти», для чего планировалось использовать самые различные средства, оптические эффекты в том числе. Однако появление новых градостроительных доминант должно было конкурировать с «городской короной» предыдущего века. Еще на страницах «Майн кампф» Гитлер отмечал: «То, что в эпоху древности находило себе выражение в акрополе или пантеоне, теперь приняло форму готического храма. Эти монументальные строения возвышались как исполины над сравнительно небольшим количеством деревянных и кирпичных домов средневекового города». После этого делался вывод: «Античные города характеризовались не частными постройками, а памятниками, являвшимися общественным достоянием, – памятниками, которые были предназначены не для данной только минуты, а на века. В этих памятниках воплощалось не просто богатство одного лица, а величие общества. Вот почему в античном городе отдельный житель действительно привязывался к своему местожительству. Античный город обладал такими притягательными средствами, о которых мы сейчас не имеем и понятия. Житель этого города имел перед глазами не более или менее жалкие дома отдельных домовладельцев, а роскошные здания, принадлежавшие всему обществу. По сравнению с этими замечательными строениями собственные жилища получали только второстепенное значение».
Новый, сугубо национал-социалистический центр должен был фактически переписать всю прежнюю городскую историю. Представительные партийные и государственные здания должны были становиться новым «центром притяжения» в городской среде, лишая таковой функции церковные сооружения, которые во многом определяли облик немецких городов еще со времен Средневековья. В национал-социалистической литературе постепенно происходило вытеснение словосочетания «городская корона», которое занялось «часовней» или «замком». В данном случае подразумевались не только построенные на свободных территориях орденсбурги НСДАП, но и башни гау-форумов. Ганс Штефан, один из сотрудников Альберта Шпеера, принимавший активное участие в перепланировке Берлина, писал о целевых установках данной деятельности: «Насколько значительным являлось предназначение возводимого здания, насколько большую роль оно должно было играть для народного сообщества, настолько величественнее должно было быть его архитектурное оформление. По мере того как возрастала значимость этого сооружения для народа и империи в целом, увеличивалось и количество архитектурных средств, которые применялись в данном случае. Они должны были давать наглядное ощущение этой высокой значимости. Новые здания народного сообщества должны придавать облику города прежде всего новый масштаб и формировать новый центр».
Набросок Гитлера, на котором изображен проект гау-форума в Бохуме
После первых военных успехов Германии, когда в 1939–1940 годах во время «молниеносной войны» (блицкрига) были захвачены Польша, Франция, Голландия, Бельгия, Дания, Норвегия и часть балканских государств, Третий рейх охватило ощущение победоносной эйфории. Эта эйфория почти сразу же нашла выражение в новой строительной волне, которая накрыла многие немецкие города. Большинство из них были провозглашены «городами перестройки». Для этих целей им даже предоставлялись значительным финансовые послабления. Однако только в единичных случаях строительные проекты «городов перестройки» вышли на стадию проекта или хотя бы создания строительной модели объекта. В большинстве из них строительство так и не началось. Например, показательный в силу своей схематичности гау-форум в Веймаре был закончен только в годы войны. Сразу же надо оговориться, что если с началом Второй мировой войны в некоторых городах были заморожены все строительные проекты, то в Берлине и Нюрнберге новые стройки были остановлены только на рубеже 1943–1944 годов, то есть когда война вошла в свою решающую фазу. Впрочем, строительство некоторых из объектов в «городах фюрера» было приостановлено уже сразу же после разгрома германской армии под Сталинградом.
Макет вида на берег Эльбы после реконструкции Гамбурга
Как видим, несмотря на то что проект по реконструкции городов – столиц гау, а также районных центров был достаточно частым явлением, вероятность его реализации в каждом отдельном случае была ничтожна мала. Генеральный строительный инспектор Альберт Шпеер неоднократно возмущался громадными финансовыми издержками, которые требовались для осуществления данных проектов. В своих «Воспоминаниях» он писал: «Гитлер потребовал, чтобы во время войны не только форсировалось со всей настойчивостью возведение берлинских построек. Он, кроме того, под влиянием своих гауляйтеров прямо-таки в инфляционных масштабах расширил круг городов, подлежащих коренной реконструкции. Поначалу это были только Берлин, Нюрнберг, Мюнхен и Линц, теперь же своими личными указами он объявил еще двадцать семь городов – в том числе Ганновер, Аугсбург, Бремен и Веймар – так называемыми “городами перестройки”. Ни меня, ни кого-либо еще при этом никогда не спрашивали о целесообразности подобных решений. Я просто получал копию очередного указа, подписанного Гитлером после того или иного совещания. По моим тогдашним оценкам, как я писал об этом 26 ноября 1940 года Борману, общая стоимость этих планов, и прежде всего замыслов партийных инстанций в “городах перестройки”, должна была бы составить сумму в 22–25 миллиардов рейхсмарок». Шпеер полагал весьма чреватым выходить за рамки предусмотренного финансирования, равно как и увеличивать количество возводимых объектов. В своем письме, которое датировано 20 августа 1940 года, он пытался положить конец «строительной эйфории», которая охватила Третий рейх после побед, стремительно одержанных в Европе. Шпеер опасался, что несмотря на то что не были известны даже приблизительные финансовые затраты на осуществление перестройки Берлина, Мюнхена, Нюрнберга, Гамбурга и Линца, появление наряду с «городами фюрера» «городов перестройки» увеличило бы затраты на строительство до уровня астрономической суммы.
Модель реконструкции Линца по проекту Германа Гизлера (1944)
Модель реконструкции Линца по проекту Германа Гизлера (1944)
Городское строительство в годы национал-социалистической диктатуры определялось не экономией, не приоритетом полезности, срочности или необходимости, а имело своей целью произвести впечатление на стороннего наблюдателя своей величиной, продемонстрировать всевластие режима, то есть в конечном счете запугивало отдельно взятого человека. В этой связи планирование застройки городов в Третьем рейхе являлось прежде всего инструментом общественного манипулирования. Гитлер выразил принцип этой «строительной воли» в речи, произнесенной на партийном съезде в 1937 году. Она звучала следующим образом: «Чем больше требований сегодняшнее государство предъявляет к своим гражданам, тем сильнее государство должно проявляться в самих гражданах… Противник может это предвидеть, но наши сторонники должны знать: наши здания возникают для укрепления этого авторитета». Режим намеревался произвести впечатление как на заграничных наблюдателей, так и на простых «народных товарищей». Через архитектуру национал-социалистическая партия намеревалась продемонстрировать свою власть и непобедимость государства.
«Народ», взирая на здания, построенные при национал-социалистах, должен был убеждаться в «вечности» Третьего рейха. Альберт Шпеер отмечал, что даже на стадии возможного заката национал-социалистической империи здания должны были обладать «ценностью руин».
Отдельно взятый человек перед крупными сооружениями гауфорумов должен был проникнуться мыслью, что «новое» немецкое государство не намеревалось поддерживать индивидуализм («Общественная польза должна быть выше личной корысти»), а делало приемлемыми величинами только коллективные формы: нация, партия, «народное сообщество» и т. д. Кроме того, отношения между «фюрером» и «народом» были четко отрегулированными и подчинялись исключительно сценическим законам тоталитарной политики. Согласно Зигфриду Кракауэру, архитектура должна была выполнять всего лишь обрамляющую функцию – она должна была быть непременно наполнена «человеческим материалом». В этой связи весьма показательным является один отрывок из воспоминаний Альберта Шпеера: «Гитлер непрестанно и не одного меня подгонял в строительных хлопотах. Он постоянно занимался утверждением проектов форумов для столиц гау, он поощрял партийный руководящий слой активно выступать в роли инициаторов строительства парадных сооружений. При этом меня часто раздражало его стремление разжечь среди них беспощадную конкуренцию. Он верил, что только таким образом можно добиться высоких результатов. Он не хотел понимать, что наши возможности были небезграничны. На мое возражение, что скоро начнут срываться все сроки, так как гауляйтеры израсходуют все находящиеся у них строительные материалы на собственные объекты, он никак не отреагировал».
Макет главного вокзала, строительство которого было запланировано в Линце
Набросок высотной гау-башни в Гамбурге
Если говорить о национал-социалистической застройке городов в целом, то ее можно было бы характеризовать несколькими внешними признаками: отдельно стоящие здания непременно должны были быть четкими как призма, в схеме города они отличались внешней упорядоченностью и симметричностью. В проектах официальных зданий предпочтение отдавалось плоскими крышам, а не крышам со скатами. Именно плоские крыши были провозглашены «типично немецкими». Изящное оформление крыш, наличие декоративных элементов считалось предосудительным, собственно как и динамичный («декадентский») контур зданий. Лишь в отдельных случаях в «канонические формы» национал-социалистических зданий могли вноситься региональные мотивы, но они не должны были ни в коем случае копироваться в других гау. В рамках городской застройки даже внутреннее оформление зданий должно было происходить в соответствии с требованиями Гитлера и его уполномоченных, что, впрочем, не мешало последним заявлять об «архитектурной свободе».
Монотонность фасадов только усиливала ощущение вытянутости зданий. Равномерное сечение частей здания и предписанные детали оформления вели к тому, что партийные и государственные строения казались однотипными. При этом не было никакой разницы, были ли они спроектированы Шпеером, Беренсом, Бестельмайером, Бонацом, Галлом, Гизлером, Крайзом, Загебилем или каким-то менее известным архитектором. Плюрализм в стилистике строящихся зданий был исключением, вызванным к жизни случайным стечением обстоятельств. Однако именно подобные исключения выступали в качестве фактора, стабилизирующего немецкое общество. Национал-социалистическая архитектура должна была отдавать должное различным общественным слоям, на поддержку которых рассчитывал национал-социализм. Кроме того, «новая» архитектура принципиально не разрывала отношений с прошлым, что могло вызвать ощущение стилистической преемственности. Указанный плюрализм мог проявляться в самых формах. Взору обывателя был явлен аккуратный домик на природе, молодежи предлагались романтические фахверковые дома и напоминающие орденские замки строения. Рационально мыслящим промышленникам предоставлялись функциональные управленческие здания и заводские корпуса. В итоге национал-социалисты оказывали влияние на городскую застройку не только через возведение партийных сооружений. Общий образ национал-социалистического города опирался на конгломерат самых различных моделей архитектуры, но партийные здания должны были быть не просто определяющими городской пейзаж, но демонстрировать свою взаимосвязь с прошлым. Образцов для подражания было множество. Это могли быть и проекты городской застройки Вены и Парижа конца XIX века, которые отразились на городах Германии эпохи Вильгельма II (Большой Берлин, 1908). Их следы можно было обнаружить даже во временах Веймарской республики: пояс зеленых насаждений Кельна (1919), Анхальтский вокзал в Берлине (1920), Германский дом в Штутгарте (1923–1925), выставка «Гезолай» и Рейнский павильон в Дюссельдорфе (1925). Общая стилистика национал-социалистической архитектуры отсылала наблюдательного зрителя также к национальным памятниками прошлого: памятнику Битвы народов, памятнику сражению у Танненберга, «башням Бисмарка» времен Вильгельма II, памятникам героям Веймарской республики, высотным домам из утопических проектов Петера Беренса и Отто Коца, а также фантастическим пейзажам из любимого Гитлером фантастического фильма Фрица Ланга «Метрополис» (1925–1926).
Колоннада Старого берлинского музея
Эти образцы отнюдь не слепо копировались, а так сказать «переосмыслялись» или, как предпочитают говорить в германской исследовательской литературе, «перефразировались». В конце концов, германский национал-социализм хотел отличаться от своих предшественников не только в политическом плане, но и намеревался отмежеваться от них даже на стилистическом уровне. Отнюдь не случайно, что многие почтенные профессора архитектуры (за исключением Ганса Пёльцига и Генриха Тессенова), которые еще во время кайзеровской Германии в своем стиле склонялись к «державному пафосу», в Третьем рейхе получали весьма выгодные заказы.
Футуристические образы из фильма «Метрополис» восхитили Гитлера своей величественностью
«Старых господ» «новый режим» увлек напыщенными проектами, в которых они могли выразить свои патриотические и национальные идеи. Генрих Тессенов воспринял «новую» идеологию, так как с самого начала с романтическим упрямством пытался защитить ремесло от индустрии, произведения ручной работы от машины. У него даже появились подражатели. Среди них был австриец Йозеф Хоффман, создавший формулу «высвобожденного ремесла».
Впрочем, нет ничего удивительного в том, что традиционные формы и классические образцы «прекрасно» ужились вместе с имперскими орлами и свастиками. Национал-социализм выразил свои пожелания, адресованные архитекторам, предельно ясно и точно – от них требовался празднично-торжественный пафос, совмещенный со строгими традициями «немецкой архитектуры». Для этих пожеланий даже была выработана формула-девиз: «Быть немецким – значит быть ясным». Специалисты прошлого не только «правильно» восприняли этот призыв, но оказались готовы предоставить себя в распоряжение нового режима, а также занять определенные посты в органах власти и профессиональных организациях, чтобы отдавать уже там свои указания.
Ганс Пёльциг
Впрочем, как говорилось выше, были и исключения. Ганс Пёльциг не смог заручиться поддержкой национал-социалистов, а потому после прихода Гитлера к власти был лишен права работать архитектором. В случае с Паулем Бонацом была несколько иная история – он был конкурентом Герди Троост, вдовы влиятельного Пауля Людвига Трооста, бывшего одно время любимым архитектором Гитлера. Именно по этой причине Бонац не смог попасть в обойму привилегированных национал-социалистических архитекторов. Однако, если отбросить все эти субъективные факторы, можно было бы однозначно утверждать, что и Бонац, и Пёльциг в общем стиле своих проектов могли бы легко вписаться в архитектуру Третьего рейха. Все их проекты более чем соответствовали строгим монументальным канонам национал-социалистического зодчества. Основным предназначением официальной архитектуры Третьего рейха была демонстрация «высказанного в камне мировоззрения».
Пауль Людвиг Троост
Собственно архитектурные формы должны были дополняться специально подобранными строительными материалами и особым местоположением того или иного строения. Все это должно было подчеркивать изолированный монументализм партийно-государственных зданий. Огромные стены, отделанные гладкими каменными плитами, нечастые, но глубоко врезавшиеся в пространство стен окна, разрезанные каменными оконными переплетами фасады – все это должно было усиливать впечатление компактности и непроницаемости здания. По своему общему впечатлению официальные здания Третьего рейха напоминали крепости. Аксиальные и симметричные формы зданий, а также массивные бордюры еще раз подчеркивали их «сплоченность».
Не исключено, что в партийной архитектуре мощные угловые формы были позаимствованы из романского стиля, что делает оправданным сравнение с крепостями и замками. Принимая во внимание установку, что эти «партийные крепости» должны были стоять «вечно», подобные заимствования не могут быть случайностью. Гитлер как-то назвал эти строения «каменными свидетельствами нашей веры», хотя на самом деле они были возведены из стали и бетона, а лишь затем облицованы каменными плитами. Вечность данных строений должен был символизировать тесовый камень, которым обкладывались основания большинства представительных зданий. Громадные каменные блоки, сами массивные здания, казалось, были восприняты из древнеегипетских и шумерских строительных традиций. Строения Третьего рейха выглядели статичными, лишенными подвижности, доминирующими над всей округой. Орнаменты во внешнем оформлении зданий, которые содержали в основном символы и идеологические аллегории, могли применяться лишь в некоторых местах. Украшаться ими должны, как правило, только столбы и пилястры. Если говорить о неких архитектурных архетипах, то зодчество времен национал-социалистической диктатуры отнюдь не было изобретением современности. Аналогичное впечатление производили многие исторические сооружение: замок Кастельдель-Монте, античные саркофаги и мавзолеи, пергамские храмы, напоминающие Акрополь сооружения, средневековые часовни. Кроме того, можно говорить о схожести с грубоватыми зданиями прусского стиля, которые были в свое время спроектированы Карлом Фридрихом Шинкелем и Фридрихом Жилли.
Здание датского посольства
Молодые архитекторы, оказавшиеся в окружении Гитлера, – Альберт Шпеер, Леонард Галл, Клеменс Клоц, Ганс Дустман, Фридрих Таммс, Рудольф Вольтерс – заимствовали формы французского революционного классицизма, полностью игнорируя его гуманистические идеалы и просветительский потенциал. Именно это обстоятельство отличало их от Этьена Булле, Клода Никола Леду и Луи-Жана Деспере или же их немецких подражателей, среди которых в первую очередь надо выделить Фридриха Жилли, Фридриха Вайнбреннера и Петера Шпета. Однако именно представитель западноевропейского модернизма в архитектуре Василий Лукхардт («Новые строения») занимался обоснованием перехода «от прусского стиля к новой архитектуре», изображая «логичный» переход к строениям национал-социалистического государства от творческих проектов Жилли. Строения, созданные Этьеном Булле, равно как и его прусским современником Фридрихом Жилли, воспринимались национал-социалистами как «родственные по духу». В данном случае в первую очередь учитывались огромные размеры зданий. Это позволяет высказать предположение, что именно они первоначально послужили образцами для национал-социалистического зодчества.
Проект реконструкции одной из площадей в Нюрнберге (1940)
Если говорить о гигантомании, то нельзя не упомянуть, что массивные каменные строения играли очень важную роль в самопрезентации тоталитарного государства. Представительные сооружения из «каменных блоков» расценивались как художественные свидетельства, некие документы «новых» строительных идей, а потому рассматривались как символ власти и «фирменный знак» нового режима. Массивные сооружения должны были символизировать не столько чувства немецкой буржуазии, которая затаила обиду за поражение в Первой мировой войне, со временем превратившуюся в некий комплекс неполноценности, выражавшийся в компенсировании горьких чувств титаническими проектами. Новые строения, которые должны были стоять «вечно», символизировали систему власти национал-социалистической партии, которую позже исследователи назовут «террористической». Целью архитектурных усилий было создать вневременные символы господства. По этой причине государственные и партийные здания должны были быть оторваны от повседневного мира. Нередко они возводились на приличном расстоянии друг от друга, будучи по сути изолированными сооружениями. Их формы, пропорции и размеры должны были произвести впечатление на наблюдателя и запугать его своим гнетущим величием. Эта архитектура подразумевала только лишь подчинение масс своим вождям.
Кроме того, в гау-форумах развивалась весьма специфическая «кулисная архитектура», которая имела своей целью обрамлять массовые действия роскошным монументализмом, чтобы тем самым вызвать одинаковое настроение людей, принимавших участие в данных демонстрациях, парадах и действиях. Как-то Гитлер заявил собравшимся на партийном съезде в Нюрнберге людям, чье построение весьма напоминало армейские полки: «Уровень отдельных людей отступает на задний план на фоне масштаба наших подразделений». Перефразируя, можно сказать, что задача государственной и партийной архитектуры сводилась к тому, чтобы создать «каменное обрамление» для вышедших на демонстрацию в военном построении людей.
В национал-социалистической литературе весьма часто употреблялось такое выражение, как «движение маршевым шагом». Это словосочетание является весьма удачным символом жесткой унификации, которая была применима и к оформлению архитектурных фасадов. Пристрастие к замкнутой кубатуре здания, фактически полный отказ от использования каких-либо орнаментов могли обозначаться как «солдатская выправка». Некто из современников восхищенно писал по поводу данной монотонности: «Видятся (в этой архитектуре. – А.В.) пленительные ритмы марширующих сплоченных колонн из волевых мужчин, идущих на демонстрацию».
Внутренний интерьер «Народного зала», который планировалось возвести в Гамбурге по проекту Константина Гучова
Стандартные фразы тогдашних культурных пропагандистов были услышаны и гамбургским архитектором Константином Гучовом, который излагал военный контекст своих строений следующим образом: «Органическая планировка соответствует строгому движению колонн и строгому порядку сооружения». «Строгое движение колонн», являясь скорее отвлеченным выражением, тем не менее, нашло вполне конкретное воплощение в строгих и даже скупых фасадах зданий Третьего рейха. В центре архитектурного оформления и перестройки немецких городов находилась визуализация знаменитого «фюрер-принципа». По большому счету, это было центральным мотивом множества проектов, которые были реализованы (или их только намеревались реализовать) в годы национал-социалистической диктатуры. По этой причине центральная площадь «фюрера» подчеркивалась во всех местах, где должны были проходить демонстрации. Ее должны были выделять на общем фоне перестроенные улицы, новые гау-форумы и т. д. Если фюрер не появлялся на данных мероприятиях, то его как высшую фигуру Третьего рейха должен был символизировать специальный балкон или особая трибуна.
Каменоломни близ одного из концентрационных лагерей
Считается, что осуществление обширной строительной программы в Третьем рейхе было предотвращено началом Второй мировой войны. С одной стороны, приоритет был отдан военной промышленности. С другой стороны, существенно сократилось количество ресурсов. В действительности этот тезис является лишь полуправдой. Даже если исходить из того, что в мирное время в Германии имелось достаточное количество ресурсов, включая рабочие кадры, чтобы реализовать гигантские строительные проекты, то все равно можно поставить под сомнение возможность полного осуществления этих планов. Если изучить ситуацию более детально, то обнаружится, что в Германии никогда не было достаточного количества средств, ресурсов и рабочей силы, чтобы воплотить намеченное в жизнь. В итоге вокруг войны сложилось огромное количество национал-социалистических «спекуляций», которые утверждали, что золотые запасы и валютные резервы захваченных стран все-таки позволят осуществить задуманные планы, в том числе многие строительные проекты. Кроме того, предполагалось использовать на земельных и строительных работах массы арестантов, евреев, иностранных рабочих. Помимо этого в Третьем рейхе не имелось достаточного количество строительного камня, а потому в свое время были начаты поиски «подходящих» каменоломен, которые находились за границами рейха. Некоторые из концентрационных лагерей превратились исключительно в предприятия по добыче строительного камня – большинство заключенных в таких лагерях под надзором эсэсовцев работали именно на каменоломнях. В итоге в строительные проекты Третьего рейха оказались «вовлечены» заключенные Флоссенбурга, Нацвайлера, Гросс-Розен, Маутхаузена (каменоломни), Заксенхаузена, Нойенгамме, Штуттхофа (кирпичные заводы) и даже Дахау (фаянсовая фабрика). Впрочем, как свидетельствовал Альберт Шпеер, даже подобные меры не всегда были «эффективными»: «На помощь Гитлеру пришел Гиммлер. Прослышав о надвигающемся дефиците кирпича и гранита, он предложил привлечь к их производству заключенных. Он предложил Гитлеру построить мощный кирпичный завод под Берлином, в Заксенхаузене, под руководством и в собственности СС. Гиммлера всегда интересовали разного рода рационализаторские идеи, так что очень скоро объявился некий изобретатель со своей оригинальной установкой по производству кирпича. Но поначалу обещанная продукция не пошла, так как изобретение не сработало. Подобным же образом кончилось дело и со вторым обещанием, которое дал неутомимый охотник до новых проектов Гиммлер. С помощью заключенных в концлагерях он собирался наладить производство гранитных блоков для строек в Нюрнберге и Берлине. Он тотчас же организовал фирму с непритязательным названием и начал вырубать блоки. Как результат немыслимого дилетантства предприятия СС блоки оказывались со сколами и трещинами, и СС пришлось, наконец, признать, что они могут поставить только лишь небольшую часть обещанных гранитных плит. Остальную же продукцию забрала себе дорожно-строительная фирма д-ра Тодта. Гитлер, который возлагал большие надежды на обещания Гиммлера, все больше огорчался, пока в конце концов не заметил саркастически, что уж лучше бы СС удовольствовались изготовлением войлочных тапочек и пакетов, как это традиционно делалось в местах заключения».
Новые жилые дома в Аугсбурге (1937)
Набросок проекта памятника, посвященного аншлюсу Австрии. Планировалось установить в родном городе Гитлера – Браунау
Действительно, сразу же после начала Второй мировой войны строительство в рейхе на некоторое время приостановилось. Однако полная остановка строительных проектов произошла в 1943–1944 годах. О том, что еще в 1943 году предполагалось хотя бы частично осуществить перепланировку отдельных немецких городов, что было часть одного гигантского плана, указывает письмо Ганса Штефана, который был сотрудником Альберта Шпеера. В этом письме, в частности, говорилось: «Само собой разумеется, что нет никаких проектов, предполагающих вскоре дать каждому немецкому городу новый облик. Наоборот, искусство не может насаждаться по приказу – оно должно органично развиваться. Таким образом, только лишь несколько специально выбранных городов могут явить достойные примеры, на основании которых смогут развиваться новые архитектурные идеи». Однако начальник Штефана, постепенно набиравший могущество генеральный строительный инспектор Альберт Шпеер, отнюдь не намеревался дожидаться некоего «органического развития». В своем письме, датированном 30 августа 1940 года, он сообщал начальнику имперской канцелярии Гансу Генриху Ламмерсу: «Лучшие архитекторы рейха на ближайшие десять лет заняты тем, что готовят проекты для пяти наиболее предпочтительных “городов перестройки”. По моему мнению, только те гауляйтеры, которым удается найти в своих областях талантливых архитекторов, могут все-таки приступить к началу строительства». Альберт Шпеер не уставал критиковать «хаос компетенций», который творился не только в сфере, связанной со строительством, но и во всем партийно-государственном аппарате Третьего рейха. Он указывал на недостатки принятия на местах авторитарных решений, которые в итоге приводили либо к задержке начала строительства, либо же вовсе к его пресечению. Будучи полностью уверенным в том, что он занимал самые крепкие позиции среди бонз Третьего рейха, Альберт Шпеер высказал мысль: «После войны во всех строительных заданиях должна была соблюдаться некая иерархия». Смирившись с запутанным изобилием строительных проектов, которые планировалось осуществить в рейхе, 19 февраля 1942 года Альберт Шпеер все-таки решился сообщить Гитлер в Оберзальцберг о том, что надо отказаться от намерений планировать архитектурные объекты столь же активно, как и ранее: «Данную установку надо трактовать исключительно как заключительный отчет о моей деятельности». В написанном сразу же после этого письме, которое было адресовано имперскому казначею Францу Шварцу, Альберт Шпеер давал обзор всех строительных работ и архитектурных проектов, которые велись в столицах гау «с особым учетом возведения гау-форумов». В этом письме, кроме всего прочего, сообщалось: «Следующие города были провозглашены фюрером “городами перестройки”, то есть к ним по заявлению местных уполномоченных может применяться расширенное толкование закона об экспроприации. Это Аугсбург, Байройт и т. д. В этой связи фюрер настойчиво желает получить обобщающий список всех строений, которые планируется возвести в этих городах в ближайшие 20 лет. Вместе с тем можно достигнуть существенной экономии средств, предусмотренных на строительство, если в городах и без того планировалось строительство отдельных сооружений[6]. Поэтому первым шагом в данном направлении должно стать составление программы строительства, рассчитанной на ближайшие 20 лет. Наипервейшим заданием градостроительного планирования должно являться ситуационное размещение этих строений, то есть в большинстве случаев формирование нового центра города. Преимуществом подобного размещения является вероятность ведения перспективной земельной политики, в рамках которой будет возможно приобретение участков на более благоприятных условиях. Запрет на новостройки и существенную переделку уже имеющихся зданий в данных районах позволит в перспективе избежать ненужного повышения цен на земельные участки. Согласно § 4 Закона “О перестройке” имеется возможность отказа от застройки земельных участков, равно как и внесение изменений в планы строительства, если таковые мешают осуществлению мероприятий в сфере градостроительного планирования. Фюрер принципиально настаивает на том, чтобы во всех столицах гау были возведены форумы, которые предусматривают наличие: партийных зданий, павильона, площади для демонстраций, башни, а также резиденции имперского наместника. Этот гау-форум должен быть положен в основу всех градостроительных планов. Наряду с гау-форумом почти повсеместно должны возводиться новые здания: театр, гостиница, различные государственно-административные здания (полицай-президиум и т. д.). В отдельных случаях на будущее должно быть предусмотрено возникновение новой торговой улицы с административно-экономическими зданиями и магазинами».
Альберт Шпеер в начале своей карьеры
Гитлер и Шпеер рассматривают проект здания
В своих воспоминаниях Шпеер описывал настойчивость Гитлера, который, невзирая на войну, не намеревался отказываться от сворачивания строительных планов: «После того как 25 июня 1940 года своим указом “Об обеспечении необратимости победы” Гитлер распорядился о немедленном возобновлении работ на берлинских и нюрнбергских стройках, я спустя несколько дней поставил рейхсминистра д-ра Ламмерса в известность, что “не намерен на основе указа фюрера еще во время войны снова приступить к практической реконструкции Берлина”. Однако Гитлер не согласился с таким толкованием и приказал продолжать строительные работы, даже если общественное мнение и было в основном негативным. Под его давлением было решено, что, несмотря на военное время, берлинские и нюрнбергские объекты должны быть готовы к ранее установленным срокам, т. е. самое позднее в 1950 году. Под его нажимом я подготовил “Срочную программу фюрера”, и Геринг сообщил мне затем, в середине апреля 1941 года, что ежегодная потребность в 84 тысячах тонн металлоконструкций будет обеспечена». Для маскировки от общественности эта программа шла под названием «Военная программа работ по развитию водных путей и рейхсбана Берлина». Несмотря на то что национал-социалистическая пресса время от времени все-таки сообщала о строительстве отдельных объектов, чье возведение было предусмотрено в рамках перестройки Берлина (Круглая площадь, «солдатский зал», «музейный остров»), публике не говорилось обо всех объемах предусмотренной «реконструкции» столицы рейха. Делалось это для того, чтобы не вызвать открытого общественного недовольства. В годы войны огромные финансовые затраты на строительство было весьма щекотливым вопросом.
Рисунок здания, сделанный Гитлером
По мере того как затягивалась «скоротечная война», стали все чаще и чаще раздаваться сетования Шпеера на непродуманность программы строительства. 28 августа 1941 года в одном из своих писем он подчеркивал: «Наряду с перестройкой Берлина, от которой по известной вам причине фюрер не откажется никогда, не наблюдается значительного по своим объемам восстановления городов, пострадавших от воздушных налетов. Кроме того, не видно строительства социального жилья, задача которого конечно же не настолько великая, как у возведения индустриальных предприятий или управленческих зданий, которые в последнее время возникают на немецком Востоке… Однако для перестройки других городов не остается строительных материалов. Мне кажется, очень важно учитывать всех имеющихся в распоряжении архитекторов, инженеров и техников».
Особое положение, которое занимал Альберт Шпеер при Гитлере, указывает не только на его включенность в число партийных иерархов Третьего рейха, но и на его своеобразную позицию в качестве фактического руководителя градостроительной политики Третьего рейха. Положение Шпеера принципиально изменилось только после несчастного случая, когда погиб Фриц Тодт. Только после этого Шпеер становится министром вооружений, что автоматически привело к значительному расширению круга выполняемых им поручений. О том, насколько все-таки сильным было влияние Шпеера на градостроительную политику рейха, тот не без внутренней гордости описывал в своих мемуарах: «Многочисленные проекты, появившиеся в других городах, были прямым продолжением берлинского проектирования. Отныне любой гауляйтер стремился увековечить себя в своем городе. Почти в каждом из этих проектов угадывался мой берлинский эскиз перекрестка из пересекающихся осевых линий, даже сориентированных по сторонам света. Берлинский образец превратился в схему».
Стальная конструкция одного из зданий, строившегося в Берлине (1936)
Модель «Народного зала», который планировалось построить в Гамбурге
После того как Германия оказалась в зоне постоянных бомбардировок, тайные желания теоретиков национал-социалистического городского планирования оказались осуществлены, хотя и самым циничным образом. В сентябре 1944 года Гитлер объявил сорок два города Третьего рейха, которые больше всего пострадали от воздушных налетов, «городами восстановления». Для начала планировалось составить опись всех домов, разрушенных или частично разрушенных бомбами. Только после этого предполагалось составить новые планы перестройки этих городов с учетом «освободившихся площадей». Для выполнения этих задач был даже создан специальный Рабочий штаб планирования восстановления разрушенных немецких городов. Именно наработки этого рабочего штаба были использованы, когда после капитуляции Германии в 1945 году началось восстановление страны. Однако в 1944 году Геббельс, провозгласивший курс на фанатичную «тотальную войну», отстаивал мысль о «тотальной перепланировке городов». В данном случае истребительная война стала тем самым «мотором», который позволил бы привлечь множество молодых архитекторов. Однако это была медаль с двумя сторонами: в действительности архитекторы и специалисты по планированию городской застройки служили не делу обновления немецких городов, а мании величия Гитлера, одержимого жаждой разрушений. Курс на запланированный апокалипсис, на погружение Германии в руины, с идеологической точки зрения предполагал «новое возрождение Германии». Гамбургский архитектор Константин Гучов писал в марте 1944 года относительно «нового городского центра» родного города: «Эти разрушения должны вызвать одобрение. Слова фюрера о том, что со временем разрушенные города станут прекраснее, нежели были некогда, вдвойне считаются справедливыми по отношению к Гамбургу. Мы не оплакиваем эти разрушения. Мы не пророним ни одной слезы на эти руины».
5
Агора́ (др. греч. άγορά) – рыночная площадь в древнегреческих полисах, являвшаяся местом общегражданских собраний (которые также по месту проведения назывались агорами). На площади, обычно располагавшейся в центре города, находились главный городской рынок (делившийся на «круги» по различным видам товаров) и нередко правительственные учреждения. Агору, как правило, окружали также галереи с ремесленными мастерскими, храмы; иногда по периметру площади возводились статуи. Очень часто агора являлась административным и экономическим центром города. Изначально агора представляла собой открытую площадь посреди городской застройки со стихийной планировкой; однако в классическую эпоху положение агоры стало более обособленным, и позднейший тип агоры – полностью обособленный, с регулярной планировкой – сообщался с городом лишь посредством ворот (наибольшее количество примеров агор такого типа можно найти в Малой Азии). Планировка агоры оказала влияние на архитектуру форумов в Древнем Риме. Одна из крупнейших и известнейших агор – афинская, с развалинами многочисленных торговых и общественных построек VI–I вв. до н. э. (является центром Нижнего города под холмом Акрополя); широко известны также агоры в Спарте и Коринфе.
6
Имеется в виду за счет местного, а не государственного бюджета.