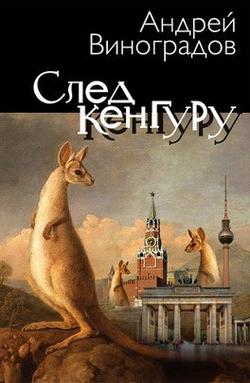Читать книгу След Кенгуру - Андрей Виноградов - Страница 35
Часть первая
Хандра, наваждения и всякое разное
Столько всего поменялось
ОглавлениеСтолько всего поменялось. Когда мне лет было, сколько сейчас моей дочери, услышь я из девичьих уст про «отбитые три конца», право, не знал бы, что и подумать, но уж точно никак не про заработки. Уж больно разбитные они нынче, на мой вкус. Разбитные и языкастые. У Антона Германовича, кстати сказать, старшая дочь, Нюша, такая же оторва, как и моя, даже побойчее и поскандальней моей будет. Иногда и через добротную кирпичную кладку ее слышно, будто кто радио приглушил. Впрочем, они, Кирсановы, все голосистые, разве что Антон Германович все больше отмалчивается, не участвует в перепалках.
«Это все вы, ироды, голь перекатная, романтики гарнизонные с трехметровыми вашими засранными кухнями, где двум тараканам не разойтись, а вы еще танцульки умудрялись устраивать, это вы меня такой сделали, генеральская парочка, а теперь, видите ли, недовольны они! Да сказать кому стыдно! Я как Золушка.», – выдает Кирсановым время от времени их дочурка, так ни разу и не удосужившись просветить соседей: почему же она «как Золушка»? А ведь людям еще как интересно!
«Виновные установлены, дело за приговором, – пропускают звук стены. Голос грудной, низкий, боль с иронией – жуткий коктейль. – Ну давай, дочь любимая, огласи вердикт.»
Это – Маша, жена Антона Германовича. Как-то пожаловалась, не мне, но в моем присутствии: «Если бы сама не родила, не поверила бы, что моя».
Раньше она заводилась, обзывала дочь неблагодарной «якалкой», сестру ей в пример ставила, отца защищала, но постепенно остыла. Наверное, поняла, что бессмысленно все это. Только отношения портятся, как негодным лекарством недуг лечить. Примирилась.
«Люблю тебя и все прощаю, – стала говорить дочери. – И ты простишь. Знаю ведь, что любишь».
Для меня загадка, каким образом снизошло на нее это примирительное озарение? Уже год, как ей удалили последний зуб мудрости, ночью, в дежурной стоматологии. Откуда такие подробности? По несчастью сам маялся в соседнем кресле, правда мой случай оказался легче. Щеку Маше так разнесло, что если бы она водолазом трудилась, то шлем брать пришлось бы на три номера больше, если такие здоровые вообще выпускают. Я ей все это рассказывал, пока меня вежливо не попросили заткнуться.
Антон Германович на сольных выступлениях дочери чаще молчит. Ни свиста, ни криков «бис», ни вежливых ободряющих аплодисментов. Домашние выяснения отношений ему не интересны. Они предсказуемы, однообразны и напоминают потерявший смысл и заездивший содержание, по неясным причинам сохраненный обряд. Это только соседи за стенами ожидают добротного, обстоятельного, без слюней примирения скандала, втайне мечтая о драке или хотя бы битье сервизной посуды. Непременно сервизной. Недостаточно им обычной, разрозненной, с выщербинками там- сям, какую своим ставят.
Меня всегда занимало: какого черта своим, кого любим, кем дорожим, мы готовы всучить блюдце с отбитым краем, тогда как для посторонних – самое лучшее не столе? Вроде как, перед чужими в лучшем свете предстать, а свои – это свои, они и так все про нас знают? Наверное. Одно утешает: в мире с этой странной привычкой мы не одиноки, показуха – не только отечественный сюжет. По этой причине в зарубежных вояжах я редко бываю в одних и тех же местах, чтобы не привыкали, и вообще не стремлюсь сближаться с кем бы то ни было до рюмок со сколами. Даже если не уважают, говорю себе, то пусть делают это с шиком. Таков мой скромный вклад в воспитание человечества.
И сидят измученные ожиданием соседи, замерев у обоев, натертых ушами до сального блеска, скрещивают пальчики: «Ну давайте же, наконец. Ну сколько можно сопли жевать. Дать бы ей раза, заразе такой языкастой! «Золушка» она, мать ее.»
Все скандалы Антона Германовича происходят на службе. Частые. Ему их с лихвой хватает. Дома он наблюдает за происходящим, отгородившись книгой, газетой, иногда уткнувшись в телевизор, хотя телевизор мешает прислушиваться и можно прозевать момент, когда понадобится его вмешательство. Невмешательство будет чревато резкой переменой темы скандала, в результате чего обе женщины ополчатся против него. Такое уже случалось, и не раз.
Обычно мать и дочь примерно с четверть часа выдерживают набранный с ходу темп, каждая свой. Обе при этом строго отслеживают, чтобы роли не перепутались, следуют заявленному в программе сценарию: юность упивается безоглядными обвинениями, обличает, унижает, витийствует, в то время как зрелость сдержанно и с достоинством соглашается:
– Все правда, доча, все так и есть.
Про всепрощение и любовь вы уже в курсе.
Потом – покаяние с обеих сторон, слезы в четыре глаза, сопли в четыре ноздри, а Антон Германович отправляется на прогулку по «нетерпящему отлагательств» делу.
«Золушка. – злится он, стараясь не наступить в непотребное в темноте прилегающих к Тверской переулков. – Ходячее невезение, а молитвы все об одном и том же: чтобы нашлась тетушка-фея или дядюшка-фей и наградили бедную Золушку немеряной денежкой, настоящими упругими сиськами, износоустойчивыми, но главное, чтобы без имплантантов. Имплантанты – пошлость, для имплантантов феи не нужны. – передразнивает он дочь. – Тьфу! И все равно любимая. Вот же дура! А насчет виноватых, – нехотя соглашается, когда сам с собой – можно. – Насчет виноватых, тут не поспоришь, тут, пожалуй, права.»
Вернувшись домой, обнаруживает, что от его коньячной заначки остаются голубиные слезы. Жалуется потом:
– Что за бабы! Я ведь и спрятал с умом.
– С умом. Профи. – передразниваю и язвлю я. – Потому и просрали.
И не дожидаясь вопроса «что именно?», сам уточняю без обиняков:
– Все просрали. Вот и заначку теперь.
Сам не знаю, что говорю, просто обидно, тоже, между прочим, на эту заначку рассчитывал. По-соседски.