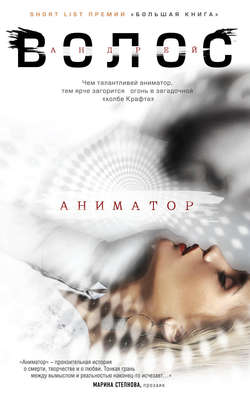Читать книгу Аниматор - Андрей Волос - Страница 3
Глава 1
Анамнез 1. Василий Никифоров, 49 лет
ОглавлениеПривалившись камуфлированным плечом к будке, охранник Полын посматривал на проходящих с той безнадежностью во взгляде, какая сквозит порой в желтых глазах цепных собак.
– Ну что, служба, – сказал Никифоров, свернув в ворота. – Паришься? Давай твоих закурим.
– От тебя хоть прячься, Михалыч, – хмуро ответил Полын. – Свои-то где?
– Своих я сроду не имел, – отшутился Никифоров, добродушно щеря щербатые зубы. – Не жмись, чего ты.
– Ишь ты, не жмись, – проворчал охранник, протягивая пачку. – Тут, блин, уже спички впору считать, не то что сигареты.
– Это да, – согласно кивнул Никифоров, пустил дым и спросил с лукавой интонацией, позволявшей предположить, что сам он давным-давно знает ответ на свой вопрос, а сейчас только хочет проверить бестолкового топтуна. – А почему?
– Да потому, блин, что совсем оборзели, – загорячился Полын. – Ты смотри, что делают! Вчера картошка семь, нынче девять. Вчера бутылка двадцать четыре, сегодня без тридцатки не подходи. Это как?
Он замолчал и возмущенно уставился на Никифорова. Никифоров хмыкнул, глядя снисходительно и немного насмешливо. Затем стряхнул пепел и сказал наставительно:
– То-то и оно-то.
– А я что говорю? – Полын нервно сжимал и разжимал кулаки. – Вон, блин, тесть у меня. У него скидка. Ну, короче, всегда на одной заправке заправляется. Как постоянный, блин. Всем восемь семьдесят, а ему восемь пятьдесят. А он и отчитывается за восемь пятьдесят. Я ему говорю: ты чего? Ты должен за восемь семьдесят! Это ж твои двадцать! Прикинь: шестьдесят залил, двенадцать целковых на карман. А он говорит: требуют. Ты понял, блин?
Сделав губы куриной гузкой, Никифоров выпустил дым тонкой струйкой и снова загадочно хмыкнул.
– Во-во, – сказал он.
– А с дачи огурцы на рынок тащит. Мешками прет – и все на рынок. Коптевский знаешь?
Полын замолчал, напряженно глядя на Никифорова. Никифоров кивнул.
– Ну и вот, блин! – просиял Полын. – На Коптевский! Я говорю: ты чего? Внук-то чей, говорю. Твой внук-то. Ему зимой-то огурца во как надо! Старый ты лапоть, говорю. А он все на электричку кивает. Мол, в один конец двадцать два. Ты, дескать, чужие не считай. Вот так. Прикинь: двадцать два в один конец.
– Совсем оборзели, – согласился Никифоров, безнадежно маша рукой. – Да эти еще. Тут уж самим не продохнуть – е-е-едут!..
– Кто? – не понял сразу Полын, а потом протянул без интереса: – А, эти-то…
– Ну да, – оживился Никифоров. – Да что далеко ходить? Вон этот-то. На черта его Григорий взял? Я говорю: Григорий. На хрена, говорю, ты его берешь?
Полын достал сигареты. Никифоров сморщился и помотал головой – он, дескать, уже накурился.
Тут, говорю, своих навалом. Вон, говорю, Колю Кратова лучше бы. Или еще Володька Синяков заходил, тоже спрашивал – как, мол, мы тут без него управляемся. Ты, говорю, конечно, всему голова.
– Ну, – отозвался Полын, посматривая на проходящих по переулку.
– Вот тебе и ну! С ним не поговоришь. У него разговор простой: выпил, так пойди проспись. Вот и поговорили. А при чем тут? Вот взял он его, да? А теперь…
Взглянув на часы, Никифоров на полуслове повернулся и пошел к дверям цеха.
Полын равнодушно посмотрел ему вслед, потом привалился пятнистым плечом к железу будки и стал разминать сигарету.
* * *
В шестнадцать с половиной лет, учась на втором курсе ПТУ, Никифоров на спор затвердил полторы страницы из учебника. Петька Хлам подначил. Все прикалывался: прикинь, какой Никифор-то козел: училка спросит, а он мычит и топчется, а уж если ляпнет что-нибудь, так мозги сломаешь, пока к делу приспособишь. А сам в носу ковыряет – ему, мол, все по барабану. «Ты сам-то понял, что сказал? – вопил Хлам. – Тебе на Хорошевку надо, для умственно отсталых!» Короче, достал до печенок, вот они и заложились. Никифоров выдолбил полторы страницы (если с картинками считать) и отбарабанил наутро без сучка без задоринки. Все аж рты пораскрывали… И что? Ну поставил Хлам проспоренную бутылку портвейна, так ее тут же и выпили – и дело с концом. А Никифоров с теми словами на всю жизнь остался. Учил на один день, чтоб к завтрему забыть, а они въелись намертво, и ничто их не брало вот уж сколько лет: ночью разбуди, от зубов отскочат… Никакого портвейна не захочешь. Так-то вроде привык, а все же неприятно. Как будто всюду в башке ровно – и здесь ровно, и там. А тут вдруг на тебе: торчат. Торчат, хоть что ты с ними делай. Ну и приходилось искать им применение, и находил: бубнил, когда совсем уж нечем было занять язык.
Вот и сейчас, переодевшись и приступив к совершению череды тех мелких действий, с которых начинался рабочий день, он привычно бормотал себе под нос. Смысла не замечал – да и не было давным-давно в тех словах никакого смысла. Иногда (особенно если чем-нибудь шумел в эту минуту: поддоны выставлял или хлопал гремучими дверцами рефрижераторов) Никифоров повышал голос. Цех был еще пуст, но если б появился невольный слушатель, то смог бы кое-что расслышать.
«…первичная обработка состоит из разделки туш и обвалки отделения мышечной ткани от костей после обвалки мясо поступает на жиловку а кости на выварку жира и для получения бульона жиловка заключается в удалении из мышечной ткани кровеносных и лимфатических сосудов жировой нервной и соединительной ткани сухожилий хрящей и мелких косточек оставшихся после обвалки…»
Как ни чисто в цеху, как ни драит Машка вечером кафель пола, металл столов, пластик кожухов, а все равно к утру чем-то пованивает.
Пощелкал выключателями. Вытяжки загудели, гоня на улицу застоявшийся воздух, потянуло свежим.
«…жилованное мясо подвергается посолу посол является одним из средств консервирования колбасного фарша помимо стойкости посол придает мясу вкус клейкость и красную окраску за счет действия селитры или нитрата для ускорения посола жилованное мясо для вареных и полукопченых колбас измельчается на волчке мясорубки эта операция называется шротованием…»
Когда после армии работал на Климовском, первым делом не вытяжки включать кидался, а волчок. Как дашь по рубильнику! – и с первым воем волчка в поддон кило полтора серо-красного фарша – хлесь! Крыс там было немеряно… не успевали они, заслышав шум, из волчка-то выбраться. Это здесь такая фигня – чуть не каждый месяц инспекция… да сам Григорий зверем ходит – почему грязь? почему кровь? – вылижи ему все. А на Климовском на это дело просто смотрели. Хлесь! – а следом говядину. И ничего.
«…измельченное мясо в мешалке смешивается с солью селитрой или нитритом и сахаром и выдерживается в охлаждаемых камерах, – натужно, с придыханием говорил Никифоров, выставляя из двух больших рефрижераторов закрытые крышками тяжеленные эмалированные кюветы с фаршем. – …при выработке сосисок или сарделек из горяче-парного мяса его немедленно после жиловки измельчают сначала на волчке с малым диаметром отверстий решетки а потом на куттере где к мясу добавляют соль селитру или нитрит и холодную воду или лед…»
– Нитрит, значит?
Не услышал, как вошел Григорий.
– Чего? Какой нитрит? – хмуро переспросил Никифоров.
– Здорово, говорю, – ушел от ответа хозяин. Глазами туда-сюда. По сторонам косится. Чего ищет?
Вчера утром так же зыркал. Еще и суток не прошло. Все непорядки ищет. Давай, ищи.
– Здорово, коли не шутишь.
– А Зафар где?
– Где-где! – проворчал Никифоров. – Сам знаешь где. В Караганде. Он же у тебя карагандинский…
Ты что это? – весело повысил голос Григорий. – Перебрал вчера? Не выспался? Что бурчишь?
– Да ничего. Сам его взял, а сам теперь спрашиваешь – где. Я его сторожить должен?
– Ой, Михалыч! – хозяин оскалил ровные зубы. Дескать, шуткуем. – Тебя вместо штанги поднимать…
– Какой штанги?
– Да такой. Тяжел больно. Ничего не говорил тебе?
– Кто?
А Григорий уже дверью хлоп – и нет его.
Ишь ты – штанги.
Никифоров почувствовал вдруг тяжелое клокотание – как будто обжигающе горячий котел забурлил в груди. Штанги? Ты говоришь – штанги? Ах, тля! Штанги, значит!..
Ладно.
* * *
Сорвал его Григорий с тормозов. Вроде и не сказал ничего – а вот надо же: сорвал.
Руки сами собой делали привычную работу: хорошо промятый фарш лоснился в никелированной емкости шприца, дозатор послушно наполнял размоченную кишку, готовый продукт в виде толстых колбасин ложился на противень для осадки… А котел в груди не остывал – напротив, пуще клокотал, обжигая душу.
Конечно, Зафарка вчера перед уходом сказал, что утром на два часа задержится. Да как сказал? – в стену сказал. Пробарабанил – так и так, мол, зуб болит, завтра на два часа позже выйду.
Собственно говоря, Никифоров с ним не разговаривает. Только если что по делу сказать. Да по делу-то говорить особенно нечего – и так все ясно. Не ракеты запускать.
А Григория не было. Григорий вчера с обеда куда-то смылся. По делам, наверное. У него дел хватает. Забот полон рот. А может, и так, от безделья. Ему что – он хозяин. Хочу – работаю, не хочу – ноги на стол.
Был бы Григорий – Зафарка бы Григорию доложился. Но не было Григория. Вот он и отбарабанил Никифорову.
Конечно, сам Никифоров мог бы сейчас Григорию сказать: мол, так и так, хозяин, к зубному Зафарка намылился, чуть позже будет. Но ведь язык не поворачивается. Когда речь заходит о Зафарке, в нем все дыбом встает. Он имени этого спокойно слышать не может. Имя – и то какое-то собачье. Что за имя – Зафарка! Да он бы Шарика своего отродясь так не назвал. За что Шарику такое обращение? Не заслужил Шарик…
И вообще он никому ничего не должен. Ни Зафарку слушать, ни Григорию Зафаркины корявые речи передавать. Это ихнее дело. У него Григорий не спрашивал – брать Зафарку на работу или не брать. Ну и все. Сам взял – сам и разбирайся.
Котел в груди все бурлил и бурлил, и в конце концов Никифоров не выдержал – щелкнул рубильником шприца и вышел в подсобку. Тут висели халаты, топырился тюк белья из прачечной, валялся на боку мятый полотняный мешок с грязными фартуками и нарукавниками. Кроме того, стоял шаткий стол, пара стульев, шкафчик кое с какой посудишкой и холодильник «Саратов».
Кряхтя, Никифоров присел, загнул руку, пошарил в темной пыльной дыре за шкафом и достал бутылку.
Налил в стакан граммов сто. Чуток добавил. Бутылку завинтил и убрал на прежнее место.
Потом открыл холодильник и окинул взглядом его морозные недра. На двух верхних полках лежали большие разномастные свертки. Это была колбаса, а колбасы Никифоров никогда, ни при каких условиях не ел – просто в рот не брал. Внизу стояла трехлитровая магазинная банка с маринованными огурцами. Оскальзываясь толстыми пальцами, извлек один. Процедил сквозь зубы содержимое стакана, посопел, неспешно угрыз половину огурца. Присел на стул и стал просветленно дожевывать, негромко чавкая и размышляя.
Башка-то как устроена? Ты спишь – а она шурупит, работаешь – варит, огурцом закусываешь – знай свое молотит. Одно и то же: так и так, достал он меня… достал! Не продохнуть уже… просто душит этот Зафарка. Ну не самому же из цеха уходить? Он тут четыре года… да и возраст. Куда идти? Это кажется – везде руки нужны, а попробуй-ка сунься. Что делать?
Тут-то его и осенило.
Когда в пальцах остался сущий огрызок – на один жевок, он налил еще грамм семьдесят пять, выпил и закусил.
А потом вышел из подсобки и направился к электрическому щитку.
* * *
Ведь Никифоров ему прямо сказал: слушай, мол. Мол, так и так: ты меня достал. Нам с тобой не сработаться. Я уж четыре года здесь. Живу в трех остановках. Тут все мое, понял? А ты кто такой? Приехал вот… зачем? Давай разойдемся подобру-поздорову. Бери расчет – да и айда. Руки всюду нужны.
Зафарка его не понял. Или вид сделал, что не понял. Они все такие. Зубы скалит – и хоть ты что. Щурится да смеется. Меленько так похохатывает. Мол, чего ты? Зачем так говоришь? Что я нехорошо делал?.. Сам, типа, посмеивается – а глазенками-то черными так и сверлит.
Они далеко друг от друга стояли. Никифоров выключил шприц и махнул Зафарке рукой – заглуши! Тот тоже щелкнул – волчок замолк. И Никифоров ему все это сказал.
Ну и вот.
А он не понял.
Никифоров повторил. Так и так, мол. Ты не смейся. Я тебе дело говорю: не сработаться нам. Сваливай подобру-поздорову.
А Зафарка все посмеивается. Напряженно так посмеивается, невесело. И спрашивает: куда?
Да мне-то какое дело? – удивился Никифоров. – Куда хочешь.
А Зафарка свое: зачем так говоришь? Что не нравится? Скажи! Два человека почему договориться не могут? Э-э-э, всегда можно договориться, да? Я к тебе по-доброму, чесслово! Как к брату, чесслово!
А Никифоров: шел бы ты со своей добротой куда подальше. Видали мы таких братьев. Насмотрелись. Не доводи до греха. Вали, пока жив.
А Зафарка, рябой черт, в ответ морщится – типа, огорчается он – и языком цокает: что ты за человек, Никифоров? Ты, типа, горя не видел. Как можешь так говорить? У меня четверо детей! Почему я должен работу бросать? Я голодать должен? Дети мои голодать должны? Ты вот стоишь тут, жирная свинья, меня прогнать хочешь? А куда ты меня прогнать хочешь? Откуда я ушел, знаешь? Как ребенка с балкона бросают, знаешь? Как старухи за гнилую корку дерутся, знаешь? Как из пушки по твоему дому стреляют, знаешь? Ничего не знаешь, а меня гонишь – и не стыдно тебе?
И вдруг он делает от своего волчка два шага к Никифорову, поднимает руку – пальцы побелевшие в щепоть сведены, – раздувает усищи и говорит слово за словом: если ты, говорит, будешь меня гнать… или, говорит, что-нибудь тут мне подстроишь… смотри, говорит, братьям скажу… они тебя, как ту свинью, разделают!
И еще показал, сволочь такая, – какую именно.
* * *
Он повернул ручку, открыл коробку щитка и стал изучать внутренности.
Проводов было до хрена. Но он точно знал, что на волчок идут вот эти.
В прошлый раз так и было. Нулевая клемма оказалась плохо затянутой. Кто ее открутил? – черт ее знает. Вроде некому. Сама открутилась. Открутилась – и все. Стоп машина. В щитке трещит, а мотор не включается. Тырк-тырк, а толку – хрен да маленько. Вовка Синяков тогда еще работал… открыл щиток… потыркал. Бурчал еще: мол, надо аккуратненько, а то шибанет. Триста восемьдесят – это не двести двадцать. Если тут шарахнет – так это уже с гарантией. Даже скорая не понадобится, сразу катафалк.
Напряженно щурясь, Никифоров смотрел на провода. Сейчас он открутит вот эту клемму. Это нулевая. Земля, что ли. Или как у них там? В которой тока нет.
И все. Закроет щиток и пойдет к своему шприцу. И займется делом. И даже помнить ни о чем таком не станет. Работа есть работа – оттягивает. А через часочек явится Зафарка. С новым зубом. Пока переоденется… пока то да се… потом тыркнет, наконец, выключатель волчка – а ничего и нету. Только в щитке что-то хрюкнуло. Он опять – тырк! И опять ничего. Еще раз – то же самое. Тогда Зафарка выругается по-своему, на собачьем своем языке, и пойдет к щитку. Раскроет его, тупо поглядит внутрь – и ни хрена не увидит. Откуда ему, чурке, электричество понимать? А волчок-то стоит… и работа стоит, и Григорий по головке не погладит. И так, не сказавшись, на два часа опоздал. А электрика звать – это целая история: пока дозвонишься, пока приедет… Крякнет Зафарка и, поколебавшись, сунет палец куда ни попадя. Разве он понимает, какая нулевая, а какая нет? Тресь! Был Зафарка – и нет Зафарки. Только дымочек – будто чья-то сизо-голубая душа полетела кверху. А сам Зафарка на пол – кувырк!..
Никифоров сглотнул и нерешительно протянул руку. Кажется, вот эту… вот эту клемму Синяк подкручивал.
Он коснулся желто-красного металла – и увидел розовое небо и большую синюю бабочку, такую яркую, что резало глаза.
– Бабочка! – удивленно сказал Никифоров, покорно раскрывая ладонь.
Он лежал на полу, а струйка дыма плыла в потревоженном воздухе, медленно расслаиваясь на отдельные волокна.