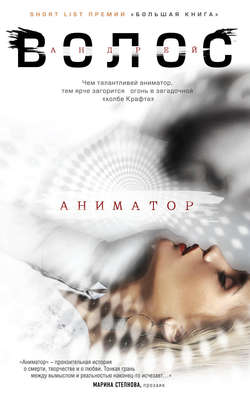Читать книгу Аниматор - Андрей Волос - Страница 5
Глава 2
Анамнез 2. Валерий Ребров, 61 год
ОглавлениеОдно из двух колес вихлялось и требовало замены. Несколько раз крутнул пальцем. Вздохнув, накинул куртку и повернул собачку замка.
Ты пошел? – сказала жена, а потом вдруг воскликнула, всплеснув руками: – Валера! А бутыли-то? Забыл?
Ребров оглянулся и захлопнул отворенную было дверь.
Тьфу ты! – сконфуженно сказал он. – Задумался…
Она снова скрылась в спальне, а он привычно продернул ремень в ручки на горловинах и приторочил растопыренную гроздь трех пластиковых бутылей к тележке. Пустыми они почти ничего не весили.
Ты сам обедай, пожалуйста, – невнятно сказала она, проходя к большому зеркалу в прихожей тем странным танцующим шагом, что проявляется, когда полная женщина оправляет на ходу не до конца еще надетое платье. Одернув подол, вынула изо рта заколки и добавила: – У меня сегодня родительское собрание. Мусор захватишь?
Хлопнула дверь подъезда, и солнечное сияние, дальний гул, шорох и запах палой листвы, навалившиеся со всех сторон, заставили его удивленно вскинуть голову и повести носом. Остановившись на секунду, оглянулся и с удовольствием потеребил бороду. Рукоятку тележки перехватил поудобнее, а пакет с мусором взял в другую руку.
Скоро он вышел к шоссе и повернул направо – вдоль длинного забора неврологической больницы. Ветер отрясал ветви ржавых тополей. На шоссе была пробка – к центру тянулся густой, медленный, раздраженно вскрикивающий поток машин.
Дойдя до угла, Ребров рассеянно пересек рельсы (к счастью, ни с той, ни с другой стороны трамваев в этот момент не было) и спустился в подземный переход.
Желто освещенная кафельная кишка перехода была пустой и гулкой. Шаги прыгали между стенами, как бильярдные шары, и с треском отскакивали друг от друга. Гулкое эхо отвлекало его от размышлений. Ребров невольно морщился. Когда наконец вторая лестница вывела его обратно к солнечному свету и ровному шуму ветра, он испытал облегчение – снова ничто не мешало думать.
Больше всего в жизни он любил думать. Собственно, жизнь и была способностью думать: порождать отчетливые образы, неоспоримые сущности, любое доказательство реальности которых является избыточным, – все равно как лезть из кожи, отстаивая объективность существования земли или неба.
Думать, думать!.. Временами его раздражала почти полная невозможность сознательно участвовать в деятельности собственного мозга. Мозг оставлял ему роль пассивного наблюдателя, пусть радостно удивленного неожиданно открывающимися видами, но все же вечно огорченного невозможностью участвовать в выборе новых направлений. Попытки понять механизм мышления, разобраться в причинах его самостоятельности занимали немалую долю раздумий Реброва. Впрочем, он давно знал, что усилия такого рода напрасны, поскольку попытки осмысления деятельности мозга предпринимались с помощью самого мозга – все равно как исследовать швейную машинку посредством самой же швейной машинки.
Физика? Да, почему-то он стал физиком. Теперь и не вспомнить – сам решил? внял совету отца? В общем, подал документы в университет, не прошел по конкурсу, направил стопы в педагогический и был принят. Физика давалась ему легко, даже слишком легко – она представала завораживающей игрой, о правилах которой он всегда мог догадаться. Учился, правда, с петельки на пуговку, на тройки – в силу все той же невозможности толком сосредоточиться на предметах практических: зачетах, экзаменах. Тетрадки с лабораторными работами терялись, контрольные оставались недописанными. В конце концов получил диплом – и первый же самостоятельный урок доказал, что его призванием является что угодно, но только не необходимость разбираться, почему Петров не знает закона Ома, а Сидоров не имеет понятия об ускорении свободного падения.
Он дошел до ворот парка и свернул направо, под укрытие шумящих деревьев. Строптиво кувыркаясь и кружа, яркая листва летела вниз, куда повелительно указывали тонкие персты солнечных лучей. Над головой она шумела широко, просторно, словно говорила о чем-то вечном и радостном; а под ногами – куце, хрипло, как будто хотела высказать последнюю жалобу, но при этом страшилась огласки, да и сил хватало только на пару слогов.
Миновав ворота и пройдя еще метров сто по асфальтированной дорожке, он остановился, чтобы перехватить рукоятку тележки. Несколько секунд тупо смотрел на собственную левую кисть, державшую пакет с мусором. Вот тебе раз. Минут пятнадцать назад его следовало кинуть в контейнер возле дома. Снисходя с заоблачных высот, разум нехотя возвращался в мир тележек, рук, ворот, деревьев, бутылей, дорожек, отбросов – всех этих утомительных мелочей жизни. – Фу ты, черт! – затравленно пробормотал он.
Воровски приседая и оглядываясь, Ребров сделал несколько нерешительных шагов в сторону решетчатого забора и, неловко размахнувшись, швырнул пакет за ограду. В полете из него вывалилась пластиковая банка из-под сметаны и горсть яичной скорлупы. Еще не прозвучал тот резкий шорох, с которым пакет упал в траву, а он уже поспешно шагал прочь, вжав голову в плечи и ожидая оклика.
Слава богу, никто не кричал в спину, не требовал вернуться.
Ходьба настраивала на привычный лад. Мысли, встревоженные было неприятным казусом, постепенно концентрировались, возвращаясь к тому, что уже несколько дней не давало ему ни минуты передышки, если не считать двух или трех часов неспокойного, сплошь из каких-то разноцветных клочков, сна.
Как правило, его занимало что-нибудь такое, что было давно продумано кем-то другим, многократно перепроверено, признано истиной и разлетелось по миру неисчислимыми профанными копиями. Предмет его интереса не требовал столь напряженного труда, и все же мозги, зачем-то к нему приступив, уже не давали покоя, заставляя до тошноты крутиться на бесконечной карусели повторяющихся размышлений. Он был бы рад сойти с лошадки и нетвердо встать на землю, с удовольствием чувствуя, как мало-помалу утихает головокружение, но остановками заведовал кто-то другой, а у самого Реброва не было под руками даже самого завалящего рычага.
Так, например, в прошлый раз его донимала теория Большого взрыва, и четыре или пять дней не удавалось от нее отделаться. Безмерный пузырь гравитации возникал перед глазами во всей своей неохватности… быстро ссыхался… схлопывался в ноль… и тут же беззвучно вспучивался новым взрывом, вновь порождая исчезнувшее было время и бесконечно разметывая пространство и материю, – а Ребров пытался понять, зачем это все происходит.
И не мог.
Четыре или пять дней – это был обычный круг его раздумий, после которого он получал два или три дня передышки, то есть более или менее нормальный сон и способность более или менее связно рассуждать о предметах повседневных. Ближе к финалу мозг, утомленный бессонницей, раздраженный непрестанной работой, начинал барахлить, как изношенный, попусту искрящий электромотор. Эту работу можно было бы сравнить с работой мельничных жерновов, если только вообразить, что мука вновь слипается в зерна, требуя все нового и нового помола. Наплывы глухой пелены, покрывавшей кругозор оптическим дребезжанием вроде ряби телевизионного экрана, чередовались с приступами леденящего грудь вдохновения, когда скорость рассудка удесятерялась, но взамен дрожали руки и накатывала тошнота.
На сей раз его терзала мысль русского философа о необходимости воскрешения мертвых.
Мысль эта была воспринята Ребровым позавчера из какой-то дурацкой телепередачи об успехах отечественной анимации. Вел ее какой-то крупный специалист в этой специфической области, отрывистой фамилии которого Ребров не запомнил. Это был человек с круглой кошачьей головой, неряшливыми черными усами, плачущим, как у вокзального побирушки, голосом и такой постановкой речевого хозяйства, что все время казалось, будто он сейчас скажет вообще все, что знает; этого, однако, не происходило, поэтому слушать его было так же тягостно, как принимать затянувшиеся роды.
Однако Реброву удалось почерпнуть из его рассуждений некоторые сведения, которые прежде почему-то обходили его стороной. Про анимацию он знал, а вот откуда ноги растут, до сей поры не имел представления.
А теперь все понял, и мысль русского философа, довольно внятно изложенная усатым модератором со странной фамилией, третий день не давала ему покоя.
Мысль была проста. Более того, она была непротиворечива и безусловна. То есть являлась прямым указанием на действие, которое нужно совершить непременно. Непременно и немедленно.
Справедливо ли, что люди смертны? – спрашивал тот старый, давно умерший философ. И сам же отвечал на свой вопрос: нет, это несправедливо.
При этом философ приводил много неопровержимых аргументов в защиту своего утверждения. Но мог бы и сэкономить: ведь Ребров и сам с младых ногтей понимал, что, во-первых, когда-нибудь умрет (в детстве, правда, казалось, что это случится так нескоро, что можно считать никогда), и, во-вторых, это действие (смерть) всегда представлялось ему совершенно никчемным, незаслуженным и бессмысленным делом.
Жить, жить, жить, а потом – бац! – и умереть?
Полный бред.
А если это бред и ошибка природы, толковал философ, тогда надо не сидеть сложа руки, малодушно кивая на трудности, а исправлять положение вещей. То есть дело делать, а не сопли на кулак мотать. Дело воистину общее, ибо касается каждого – ведь все смертны: и я, и ты, и он. Все мы умрем, разделив ту же самую несправедливость, которая уже настигла прежде умерших: они в земле, а мы смеемся над собственными шутками. Мы ляжем в землю, а живые будут так же бездумно хохотать. И, кстати, то, что живые тоже в свое время будут подвергнуты похоронному обряду и присоединятся к большинству, то есть к тем, кто уже пережил несправедливость и мучительность умирания, вовсе не извиняет их нынешнего бездействия.
Это была совершенная правда – именно так: вовсе не извиняет!
Что же именно делать? – спрашивал философ и снова отвечал: нужно бросить глупости, которым человечество столь неразумно, столь по-детски привержено, – борьбу за власть, войны, религиозные распри, национальные раздоры, стремление к бесполезному и бессмысленному (в смысле продления жизни) комфорту, страсть к самоодурманиванию, тем более нелепую, что на смену недолгому забвению неизбежно приходит похмелье. Все это забыть, отринуть, а высвободившиеся силы пустить на развитие науки, нацелив ее при этом на простую и ясную задачу – воскрешение мертвых.
Главное – не робеть, утверждал философ. Капля камень точит. Если 99 процентов усилий человечества пойдет не на жалкую борьбу с голодом (позор! позор! – восклицал он, и Ребров не мог с ним не согласиться) и не на удовлетворение мизерных запросов модниц, болтунов, сластолюбцев, гурманов и всей прочей бессознательной шушеры, а будет брошено на решение главной и общей задачи, смерть, несомненно, будет побеждена. Но для этого нужно повзрослеть. И уяснить, наконец, что человек – это не двуногое существо без перьев. Нет! – твердил философ. Человек – полпред ноосферы! Полпред вечности – вот что такое человек!
Примерно так Ребров воспринял мысли философа.
Философ понимал все трудности такого дела. Он предупреждал: не все, конечно, согласятся с нами. Ленивые и косные возразят нам: мы не хотим вечности, мы хотим свободы!.. Но мы ответим: разве свобода жрать, пить, осеменять и быть затем безвозвратно съеденным червями слаще свободы трудиться, чтобы воскреснуть?
И все это теперь без конца крутилось в мозгу, требуя от Реброва отчетливого постижения своей ясной и в чем-то страшной простоты.
Нужно было это понять!
Но как, как можно было это понять?!
Ведь все верно… все верно… философ совершенно прав… нет непреодолимых препятствий… если взяться за дело всем вместе и посвятить ему все силы, все вдохновение и разум, оно непременно будет сделано. Неужели непонятно? Понятно. А что вместо этого? А то, что если бы философ каким-нибудь чудом очутился сегодня здесь, он увидел бы мир, в котором бесполезных, нелепых и вредных занятий еще больше, чем было на его веку!.. Как же так? Зачем? Почему? Ведь он прав, прав. Это так просто. Почему же тогда мир не меняется? Почему мы миримся с этой дурацкой смертью? Совершенно очевидно: можно научиться воскрешать! – а мы тупо умираем…
Ребров пересек главную аллею и пошел налево, коротким путем. Узкая грунтовая дорожка хранила следы недавних дождей. Грязь была щедро присыпана листьями.
Главное, додумывал он, первый раз в жизни, быть может, посягая на подобный размах собственных мыслей, что воскрешение мертвых вовсе не противоречит законам физики! Смерть – это всего лишь предельное упрощение системы. Система утрачивает энергию, которая прежде шла на поддержание ее строгой организованности. Для того чтобы ее снова усложнить, то есть дать посыл новой жизни, – нужна энергия.
Но разве в распоряжении человечества недостаточно энергии?
Залитые ослепительным светом ночные города… Для чего этот свет?.. Освещать витрины?
Что же получается? Как это понять?..
Он додумывал до конца, обнаруживал отсутствие ответа и, потеребив бороду, возвращался к началу.
Ведь философ прав?..
Между тем дорожка выбежала из леса на покатые лысины по краям лощинки, свернула к мостику, который ахал под ногами всеми своими досками, и привела к длинной лестнице. Лестница спускалась в тенистую котловину, где сходились устья трех заросших оврагов.
Надпись на вмурованной в бетон ржавой мраморной доске сообщала название источника – «Голубь». Веселая струя, хлещущая из трубы, и впрямь казалась голубой, как жидкий азот. Из неустанно пополняемой лужи брал начало робкий ручеек, метра через четыре безмолвно прячущийся в траве. В лужу были брошены два бетонных обломка.
Ребров пристроился за красной курткой и стал смотреть на бурлящую воду.
– Вы последний?
Ребров не слышал.
– Эй! За водой-то вы последний? – повторила полная женщина в синем плаще.
– Что? – встрепенулся Ребров, с усилием отрывая взгляд от переливов струи. – Да, да. Конечно.
– Утром кран отвернула – чистая хлорка, – доброжелательно сообщила женщина, ставя бидон на землю. – За что народ травят? Здесь-то водица целебная…
Ребров отвернулся.
Спать совсем не хотелось, но все же сейчас, глядя на воду и размышляя, он часто и как-то куце, вползевка, позевывал. Он не высыпался, потому что ночью необходимость и, главное, близость понимания многократно увеличивалась. Назвать сном ту дрожкую дрему, в которую Ребров впадал под утро, можно было только с большой натяжкой. Он закрывал глаза и напряженно всматривался в осмысленное круговое движение ярких разноцветных пирамидок, споро летящих друг за другом от горизонта, где невидимо клокотал их вечный источник (приближаясь, они, согласно законам перспективы, увеличивались в размерах), мимо зрачков (в опасной близости, едва не чиркая по роговице острыми углами) и снова вдаль, быстро уменьшаясь, – чтобы в конце концов исчезнуть, став всего лишь безликим материалом для рождения новых. Чередование их цветов несло в себе глубокую, всеохватную мысль. Она была почти ясна, почти прозрачна. Недоставало лишь мгновенного усилия, высверка, вспышечной ясности, чтобы эта главная, последняя на свете мысль открылась во всем великолепии и во всей полноте.
Юноша в тренировочном костюме наполнил флягу; теперь на камнях кое-как утвердился старик в старомодной сетчатой шляпе. Каждую бутылку он полоскал (у него были мелкие, полуторалитровые), затем наполнял быстрой говорливой влагой и, напоследок зачем-то взглянув на просвет, отставлял в сторону. Скоро он налил все шесть, уступил место и принялся паковать. Тележка у него оказалась точно такая же, как у Реброва. Правда, Ребров, не надеясь на прочность штатной коричневой сумки, крепящейся к каркасу, давным-давно отстегнул ее и сунул на антресоли. А у старика сумка была на месте, и теперь он одну за другой совал в нее свои мокрые бутылки.
Девушка в красной куртке по-кошачьи проверила скользкий бетон мыском кроссовки, затем переступила и сунула под струю большую полиэтиленовую канистру.
Вода бурлила, мелкие брызги стреляли в стороны. Было трудно вообразить, что сущность воды не вечна. В отличие от людей материя не умирает. Она…
– Ну что же вы? – взволнованно спросила женщина в синем плаще.
– Да, да, – сказал Ребров.
Задумавшись, он упустил момент и теперь едва не ломал ногти, спеша расстегнуть непослушный ремень и освободить бутыли.
Вот они наконец рассыпались. В два рывка Ребров открутил крышку и сунул бутыль под струю. Вода радостно зафыркала в захлебывающейся горловине.
Бутыль потяжелела, и он поставил ее в лужу, а сам взял вторую. Когда первая налилась доверху (вода ударила ярким фонтаном), сунул под струю следующую. Полную завинтил и выставил к тележке.
Туда же вторую, пока доливается третья.
Вот он, вечный ритм жизни. Все так. Сначала наполняется. Потом пустеет. И снова полнится. Ведь полнится? Значит, воскресает? Это дыхание. Дыхание Брамы. Вдох. А потом выдох. А потом снова вдох. Снова вдох – это нормально. Это естественно, именно это: жизнь – смерть – жизнь. Это понятно, да. Так почему же?., почему?..
Ребров стоял в неудобной позе с последней бутылью в руках. Бутыль была полна и тяжела, но он не чувствовал ни ломоты в пояснице, ни острого холода льющейся по пальцам воды.
Как понять? Как, как можно это понять?!
– Эй!.. Мужик!.. Да толкните его!
Вздрогнув, он распрямился, неловко шагнул на сухое. – А им все равно! – гремя бидоном, злобно сказала толстуха в синем плаще. – Им хоть сто человек тут жди. Налива-а-а-ают…
Взгляда ее Ребров не заметил. Багажные резинки, которыми он притягивал бутыли к металлическому каркасу тележки, елозили на гладких боках. Третья бутыль норовила растолкать первые две. Резинка сорвалась, больно хлестнув стальным крючком по ноге. Разозлившись, Ребров намотал конец на кулак и натянул до упора. Бок верхней бутыли промялся. Защелкнув крючок на верхней перекладине, он напоследок потряс тележку, проверяя надежность крепежа. И двинулся в обратный путь.
Голубая струя ледяной воды, на которую он смотрел так долго, продолжала бесшумно лететь перед глазами. В этом струении было какое-то доказательство. Какое-то объяснение. Тележка тяжело катилась следом. Узкие колеса сминали листья и вязли в раскисшей глине. Кружение листа над головой и его неслышное падение в грязь тоже говорили о чем-то. Тоже что-то доказывали. Ребров чувствовал себя обессиленным. Новая жизнь требовала понимания, и понимание уже брезжило, уже просвечивало сквозь мусор старой жизни. Струя ледяной воды, возникающая из ничего и уходящая в ничто, была еще одним толчком, приблизившим разгадку. Но этого толчка тоже не хватило.
Он вышел на главную аллею и побрел дальше. Левое, скрипучее, сильно восьмерило. Вот что-то хрустнуло во втулке. Колесо завалилось на бок, и его заклинило. Теперь оно тянулось по асфальту, стираясь. Тележка перекосилась, и Ребров с усилием тащил ее за собой, не чая добраться до автобусной остановки.
На него неудержимо наваливалось равнодушие. Он хорошо знал это состояние. Оно знаменовало конец усилий. Разбившись о стены сияющей цитадели, измученные войска беспорядочно откатывались на прежние позиции. Там их ждали дырявые палатки… подгорелая каша… и сон, сон. Лично ему предстояли вдобавок четыре урока физики.
Кое-как втащив тяжелую тележку на площадку полупустого автобуса, Ребров пристроил ее в уголок, а сам обессиленно повалился на сиденье рядом с каким-то чернявым пареньком, державшим на коленях спортивную сумку.
Кренясь и шипя, автобус начал отваливать от остановки.
Ребров прикрыл веки. Разноцветные пирамидки полетели слева направо по фиолетовому полю.
– Что? – переспросил он, с усилием открывая глаза.
– Аллах велик! – шепотом повторил паренек. Губы у него дрожали.
– Простите? – опять не понял Ребров. Всхлипнув и скривившись так, словно ему сейчас должны были вырвать зуб или вправить вывихнутую руку, мальчик рванул что-то в сумке.
От его движения произошла бело-розовая бесшумная вспышка.
Ни того звона, с которым разлетались стекла, ни криков с передней площадки Ребров уже не услышал.