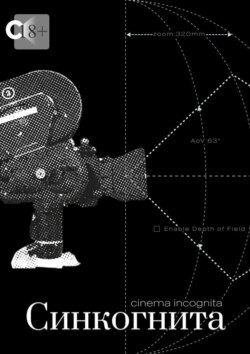Читать книгу Cинкогнита - Анна Исипчук - Страница 4
Глава 2. Россия
Личная и коллективная память в фильмах Алексея Германа
ОглавлениеОдной из важных функций кинематографа является участие в формировании представлений о прошлом. От других источников знания, литературы и архивных документов, кино отличает специфика этих представлений – они не текстовые, а образные, а значит складываются комплексно и устойчиво закрепляются в восприятии людей, и, как следствие, остаются со зрителем. Оставляя пространство для соучастия, кино оказывает влияет на то, каким в нашем сознании предстает прошлое. Однако в российском культурном пространстве наблюдается проблема дистанцированности официальной истории от памяти. История, существующая сразу для всех, идеологизирована; когда она едина, из нее уходит человек. Такой подход исключает возможность переживания прошлого и следующей из подобной рефлексии трансформации общества. Творчество Алексея Германа в свою очередь является уникальным примером сопричастности автора к историческим событиям и при этом разноформатности их презентации, превращающим кинематограф в особый способ отражения общественного видения публичной истории.
В дебютном фильме Алексея Германа, снятом совместно с Григорием Ароновым, «Седьмой спутник», наиболее отчетливо прослеживается привязанность ко времени и конкретному периоду, она отличается историзмом в репрезентации политической памяти. Начало производства пришлось на 1966—1967 годы, ознаменовав тем самым пятидесятилетие Октябрьской революции. Пролог картины имеет характер исторической справки, из которой мы узнаем, что действие происходит во времена красного террора (9 сентября 1918 года), проводимого в ответ на белый террор времен Гражданской войны.
Камера фиксирует листовку, на которой написано: «Око за око, а тысячу глаз за один, тысячу жизней буржуазии за жизнь вождя. Да здравствует Красный террор!». Таким образом, в прологе объединяются два модуса существования культурной памяти: канон, проявляющийся в содержании закадровой речи, и архив – в формеате визуального сопровождения, состоящего из документальных кадров. Сообщение реализуется по модели «я – он», при этом культурная память строго идеологизирована и сосуществует с политической.
Хронотоп картины тоже определяется историческим контекстом, так как герой находится в обстоятельствах террора и формирует самосознание индивида как непосредственного участника исторического процесса – активного с точки зрения своей принадлежности ко времени, но пассивного с точки зрения возможности совершать действия. Он – «спутник огромного тела», и в этом символе выражается трагедия его беспомощности перед историей, в которую он стремится встроиться. Можно сказать, что пространство фильма – это блуждание Адамова в новом мире, в результате которого состоится переход героя, бывшего царского генерала, на сторону большевиков. Это и станет сдвигом содержания в коммуникативной модели «я – я», который произойдет за счет функциональной роли морали, о которой писал Ямпольский1. Адамов не нужен истории, как и другие, будущие герои Германа, но в «Седьмом спутнике» это еще неизвестно – хотя мотив заложничества и несвободы проявляется как на уровне физического существования, так и на уровне памяти.
«Седьмой спутник» трудно анализировать на предмет особенностей авторского языка Германа, так как невозможно провести границу между решениями его и Аронова, однако в построении кадра прослеживаются некоторые изменения, в которых узнаются черты кинематографа режиссера. Так, например, в первой части фильма камера статична, а действие театрально-постановочно, но после подселения уголовников к сенаторам изображение трансформируется, и политическая память сменяется на социальную – мы чувствуем движение и оказываемся как бы между планами. Пока это лишь предчувствие погружения, которое достигнет своего развития в картинах «Мой друг Иван Лапшин» и «Хрусталев, машину!».
Однако задолго до них режиссером была создана картина, сама судьба которой во многом связана с темой памяти. Снятая в 1970 году, «Проверки на дорогах» была отправлена «на полку» и вышла на экраны лишь в 1986-м. Эта пауза в 16 лет создает дополнительный фильтр – на пороге девяностых зрители видят фильм о военном прошлом, снятый после шестидесятых. Из всех картин Германа именно в «Проверках на дорогах» наиболее высока степень глубины погружения в прошлое – история рассказывает о коллаборационисте, примкнувшем к советскому партизанскому движению, чтобы искупить вину за переход на сторону врага. Сам режиссер писал2 о сложностях работы с текстом Юрия Германа – ему хотелось, чтобы отец «писал фильм», который Алексей снял бы, но он писал литературу, для которой кинематографисту нужно было искать свои кинорешения. И формулировки, использованные в письмах председателю кинокомитета СССР А. В. Романову3: «картина дегероизирует великое народное движение», события и цитаты героев «были, на взгляд комитета, невозможными в 1941-1943-е годы» – подтверждают конфликт частной и официальной истории. Режиссер пошел против принятого канона, заключающегося в однобоком освещении партизанского движения на момент съемок картины. Фильм обнажает изнанку советского прошлого, а не символическую обложку, хранящуюся в политической памяти народа, минуя ее на пути к памяти социальной.
Борьба с каноном проявляется и в том, как документальное внедрено в историю. Для режиссера была важна достоверность показанного на экране, поэтому для съемок была изучена хроника, составлены щиты с образами и деталями для каждой сцены, восстановлена одежда и элементы быта жителей деревень. Герман тщательно работает со вторым планом, потому что массовка отражает социальную память, она создает в кино саму жизнь. Память передается и через лица военнопленных на барже – тот факт, что они были зэками, стирает границу между кино и действительностью, окуная зрителя в правду прошлого. Еще одним аспектом нарушения канона по Ассман является смерть советского человека, который, согласно принципам соцреализма, бессмертен.
На уровне построения кадра стоит отметить работу с камерой. Принцип нарушения четвертой стены срабатывает в картинах Германа как телепорт или машина времени, выступает в роли инструмента внедрения памяти в нарратив. Зритель становится соучастником, чувствует на себе доверие со стороны героя-свидетеля истории. Прошлое обращается к настоящему – так срабатывает память, о существовании которой зритель может и не подозревать. Фактура самих героев, смотрящих на нас через экран, – это свидетельство травмы, едва затянувшейся коллективной раны. Социальное в памяти проявляется во внимании к лицам, попадающим в объектив, – камера задерживается на них, и каждое второе создает свою маленькую новеллу. Из совокупности этих историй и формируется общий нарратив. При этом операторская работа Якова Склянского, в отличие от техники Валерия Федосова в других фильмах Германа, выступает в роли некого барьера памяти, так как приближена к канону, а не борется с ним. Стоит также отметить такой элемент новаторского киноязыка Германа, как «шипящий пулемет», никогда прежде не использованный в кино. Этот образ незначительный, но он срабатывает как воспоминание, зафиксированное в памяти участников событий, момент личного переживания истории, когда запоминается одна лишь деталь.
«Проверка на дорогах» – это фильм не о личной трагедии Лазарева, а о народной, коллективной травме. Переступая через политическую память, Герман обходит личную на пути к социальной. Этим объясняется монолог женщины в прологе – во снах к ней приходят образы близких, которых больше нет и которых страшно вспоминать.
Герман в картине утверждает, что единообразие репрезентации истории – это одновременно и инструмент, и свидетельство ее идеологизированности. В эпоху исторических катастроф частный человек теряет свою индивидуальность и вместе с тем самого себя, превращаясь в частицу больного однородного серого целого и становясь настолько маленьким и незначительным, что история буквально выбрасывает его за границы своих интересов.
Уже в «Двадцати днях без войны» Алексей Герман решительно уходит от глубокого погружения в исторический контекст, уделяя внимание формированию личной памяти об общей истории. 1943-й год нужен режиссеру не как совокупность событий прошлого, но как специфическая точка на исторической прямой. Как и в «Проверке на дорогах», режиссер уделял большое значение документальным материалам: фронтовые записки Симонова как толчок для всей истории, подготовка к съемкам и сами съемки в санитарном вагоне поезда, законсервированном в конце войны, гармонично вписанные в ландшафт города декорации, одежда из комиссионных магазинов, – все это работает с памятью как с архивом и способствует осуществлению ее реставрирующей функции. Герман писал: «Мы создали атмосферу, в которой наврать мог только плохой оператор, а он у нас был замечательный»4. Процесс архивизации проявляется и в том, что сам Лопатин по сюжету – писатель, ставший во время войны корреспондентом. Как автор он работает с личной памятью, которую не может выразить в форме нарратива, а как корреспондент – фиксирует окружающую его действительность через слова. Такое проявление культурной памяти соотносится с коммуникационной моделью Лотмана «я – он». Интересно говорить о восприятии истории через призму личности самого режиссера – он передает время, запечатленное в своих детских воспоминаниях, выступая современником и свидетелем эпохи, таким образом работая с частной памятью и личным переживанием прошлого.
Игра со временем проявляется и на уровне хронотопа. В начале фильма герой Михаила Кононова, Паша Рубцов, говорит Лопатину о возможности получения отпусков в случае, если война не закончится через год. Отъезд Лопатина в Ташкент актуализирует эту мысль, соединяя прошлое и настоящее героя в рамках картины. Покинув фронт, Лопатин попадает в реальность, существующую хоть и параллельно, но крайне близко. В этой реальности нет войны, но есть ее отпечаток. Герман вновь уходит от канона фильмов о военном времени, отказываясь от политической памяти: «Эти двадцать дней без войны – это двадцать дней без истории, время памяти и предания, ведь память растворяет исторические сюжеты и создает свой собственный»5. Вагон поезда на пути в Ташкент – символ выхода из системы «человек-история» или «человек-власть». В нем закодированы воспоминания, сконцентрированы ненужные, забытые, старые, чужие вещи, среди которых разворачивается действие фильма. Вагон поезда на пути из Ташкента – символ возвращения, но после двадцати дней в тылу у него новое содержание. В Ташкенте пролог фильма становится для Лопатина воспоминанием, мифом, а потом сам город становится мифом на линии фронта.
Об уходе от политической памяти свидетельствуют и кинематографические приемы – отсутствие тряски камеры, ощущение невыстроенности композиции, длинные планы и растянутый монтаж индивидуализируют взгляд. В отличие от «Проверки на дорогах», здесь нет ощущения хроники. Зеркальность крупных планов героев Никулина и Гурченко в сценах в поезде и в квартире также работает на проявление личной памяти Лопатина в картине, как и рассинхронизация звука и изображения в сцене в квартире, когда мы слышим героев не в тот момент, который представлен на экране, что дает ощущение звучания голосов где-то в восприятии Лопатина.
Социальное в картине начинает вырисовываться через несвязанные между собой эпизоды, «микроновеллы»6, наличие которых в кинематографе режиссера было намечено еще в «Проверке…». Это проявляется через голос Симонова за кадром (голос-автора, голос-героя, голос-свидетеля событий одновременно), восьмиминутный монолог героя Алексея Петренко в поезде и сцену с героиней Лии Ахеджаковой. Часы, полученные от мужа с фронта, – как последняя весть, как предмет памяти, содержание которого известно только ей. Ее сын похож на маленького Лопатина, и в этом тоже проявляется игра прошлого с настоящим и даже будущим. Подобное наслоение частных историй в итоге дает ощущение присутствия социальной памяти в картине. Политическое же раскрывается в ней только в сцене митинга на заводе и идет немного вразрез с общим нарративом. Но даже в этих митингующих, в жителях квартиры, в сотрудниках и артистах театра, в усталых оркестрантах проявляется социальное, коллективное, общее. Все они участвуют в формировании личной памяти Лопатина – камера цепляет лица этих неприкаянных людей, будто элементы одной мозаики, создавая эффект запоминания.
Рассматривая творческую биографию Германа в хронологическом порядке, можно проследить, как постепенно пропадает интерес к событийности прошлого как к катализатору истории. Правда о времени для него проявляется не в точности фактического изложения (то есть не в сюжетности), а в передаче состояния и ощущения времени.
Наличие большого количества деталей быта может показаться лишним, перегружающим действие картины «Мой друг Иван Лапшин», но повышенное внимание к повседневности, пусть и не всегда работающее на драматургию, помогает добиться достоверности в изображении эпохи, в репрезентации которой воспоминания наслаиваются друг на друга. Режиссер считал7, что в восприятии времени у нас есть преимущество в виде знания о нем. В какой-то степени это еще одно проявление игры с памятью. На примере «…Лапшина» также можно проследить, как меняется подход Германа к внедрению категории документального в кино. Если раньше он работал в основном на уровне подготовки к съемкам с целью создания атмосферы эпохи и выполнения реставрирующей функции, то теперь этот принцип работает на психологизм картины – так, текст сцены допроса взят из архива, что позволяет добиться нужной артикуляции, а сцена опознания убитых снята в настоящем судебно-медицинском морге. Герман работает не только с актерами, но и со всей съемочной группой, помещая ее в обстоятельства, в которых невозможно не начать думать и чувствовать по-другому, благодаря чему удается добиться передачи не сухих фактов, но состояний, разделяемых коллективным бессознательным. Личная же память появляется в фильме за счет привнесения в него слов, фраз и ситуаций из жизни семьи режиссера, а также в образе сына Занадворова, через которого осуществляется уже рефлексирующая функция памяти – это способ ощущения себя во времени самим Германом.
Уже в прологе мы слышим закадровый голос, свидетельствующий о том, что фильм – воспоминание, переносящее нас из времени выхода картины в события полувековой давности. Но эта дистанция зрителя, знающего о 1930-х больше, чем сами герои знают о себе, – взгляд поколения на себя со стороны и взгляд Германа на то время. Постоянство пространственно-временного континуума проявляется в связи поколений – голос автора из начала картины говорит о признании в любви к тем, с кем он вырос, на фоне непрерывной съемки интерьеров дома, в которых камера также фиксирует внука самого рассказчика. Это вступление, в отличие от остальных кадров черно-белой картины, цветное, что также помогает расставить временные акценты, так как последний кадр пролога замирает и постепенно тускнеет, создавая ощущение фотографии, фиксирующей определенный момент.
С точки зрения построения кадра нельзя не отметить ощущение неудобства от необходимости постоянно пробираться через лица героев, в силуэтах которых камера иногда будто путается, как через лабиринты памяти. Камера активна и непоследовательна – в одно мгновение в нас светит лампочка, а в другое актеры ломают четвертую стену, и мы снова чувствуем на себе эффект режиссерской машины времени. Взгляд людей «оттуда» на нас сегодняшних, открытый Германом для его современников, но существующий и для нас, уже в двойной экспозиции. Камера – свидетель событий, охватывающий взглядом все на своем пути, потому что ей интересно задокументировать действительность. Так, например, она перестает следить за движущимся на мотоцикле Лапшиным, фокусируясь на грузовике.
Весь фильм снят почти без раскадровок8. С одной стороны, это создает ощущение гиперболизированного натурализма, но с другой, утверждает принцип сосуществования параллельных временных линий и пространств – пока происходит одно действие, совершается другое, что задает многоголосное, многоуровневое звучание нарратива. И пусть такие сцены как день рождения Лапшина не оправдывают себя драматургически, они способствуют погружению зрителя во время. Как только камера останавливается на предметах или мебельной фурнитуре, сразу появляется желание потрогать, поднять, подвинуть, приоткрыть или закрыть – эта материя советской обыденности втягивает нас в историю, вместе с тем выполняя реставрирующую функцию.
Полифония из диалогов героев, – сценарных или взятых прямиком из текста Юрия Германа – наложенных друг на друга, избавляет от чувства смоделированности действия, но вместе с тем создает важное для картины ощущение отстраненности, когда никто не слышит друг друга даже на бытовом уровне. Патрикеевна бубнит себе под нос, играющие в шахматы Окошкин и Занадворов ищут рифмы на фамилию Капабланки, а в супе и вовсе оказывается кусок газеты – документ времени, фиксирующий действительность в словах, смешивается с едой и оказывается замеченным случайно. У фраз, брошенных героями, нет конкретных адресатов, они создают инфошум – в этом проявляется не реалистичность жизни, а ее концентрация. Герман представляет зрителю неофициальную историю, создавая калейдоскоп, в котором отражены перипетии времени.
Степень погружения в прошлое в картине «Хрусталев, машину!» можно объяснить ее названием – случайной фразой, послужившей характеристикой эпохи. Несмотря на присутствие в картине образов реальных политических деятелей (Сталин и Берия), Герман продолжает интересоваться эпохой как фоном, на котором разворачиваются уже не просто частные события из жизни отдельных героев, а «трагическая оргия страны»9. Ему удается соединить личное, коллективное, культурно-эстетическое и политическое воедино, выводя память в своем творчестве на новый виток развития, запечатлеть себя как совокупность людей, событий и процессов в истории, выйдя за рамки времени.
«Хрусталев, машину!» – это не реконструкция прошлого, а большое размышление о нем. Фильм основан на детских воспоминаниях автора, через которые дышит история советской эпохи. Детский взгляд прослеживается как на уровне памяти, так и на уровне системы персонажей, так как образ Юрия Кленского частично вдохновлен отцом режиссера, Юрием Германом. Начинается картина подобно «…Лапшину» – с закадрового голоса немолодого повествователя, уже взрослого сына Кленского, жалующегося на очевидцев событий, умерших или забывших историю или забытых ею, ведь в центре сюжета лежит тема уничтожения личности. Герман вновь нарушает канон, рассматривая народ не как движущую силу истории, но как ее жертву, поэтому герои больше похожи на испуганных кукол, чем на действующие лица. Плевок ребенка в зеркало в первой половине картины – это символический плевок в миллионы других зеркал и в их содержимое – отношение автора к эпохе.
Тема памяти раскрывается и на уровне хронотопа: номенклатурная квартира Кленского будто магнит притягивает воспоминания, заключенные в вещи (которые он потом будет выкидывать из кармана), предметы и людей. Эти вещи существуют сами по себе, лишь иногда их замечает камера, фиксируя взгляд рассказчика. Но наполненность квартиры символическая – когда жену стесняют, ей говорят о том, что никакой семьи, кроме сына, у нее нет, а все остальное – лишь подобие вещей. За пределами квартиры царит ужасающая пустота и оглушительно звучит хруст снега, внушающего страх от приближающихся шагов, ведь на улицах люди исчезают бесследно.
В картине почти нет реалистичных, «живых» звуков. Все они, как и хруст снега, реализуют коммуникацию вместо слов и диалогов. Звук на стыке планов помогает смягчить или, наоборот, подчеркнуть сам переход – когда герой, находясь в глубине кадра, срывает подметку со своего сапога, создается ощущение его близости и нахождения камеры в крупном плане, что стирает пространственно-временные границы внутри сцены. Фильм снят преимущественно ручной камерой, будто одним кадром, а отсутствие склеек создает ощущение присутствия и переживания происходящего в моменте – зритель следует за героем, смотрит туда, куда и он. Стоит также отметить субъективные планы, когда взгляд не принадлежит кому-то конкретному или внедряется в толпу персонажей, в чем выражается социальная память. Также важны для Германа и необычные, нетривиальные воспоминания, зафиксированные в памяти, как самораскрывшийся зонт на снегу, – они подчеркивают хаос мелочей, не имеющих между собой никаких логических связей.
В своей последней картине «Трудно быть богом» Герман выступает как политический режиссер, выражая позицию «против» по отношению к советской власти и созданной ей политической памяти. Фильм не до конца вписывается в рамки выбранной темы отражения памяти, так как не основывается на исторических событиях и выступает как авторское произведение, созданное на основе одноименной повести братьев Стругацких. Сама история человека, попавшего в Средневековье из будущего, является воплощением концепции машины времени, но важно заметить, что герой Румата не может изменить к лучшему ни мир вокруг, ни самих людей, – в этом заключается трагедия беспомощности человека перед лицом глобальной истории. Для понимания идеи, заложенной Германом, важно помнить о контексте времени: успех Горбачева, доказавшего миру, что все возможно, сменяется кризисом власти в конце 1990-х – начале 2000-х. Ощущение непонимания современниками происходящего на момент создания картины влияет на цели героев: если у Стругацких ученых ищут, чтобы спасти планету, то у Германа, чтобы понять, как жить.
Фильм открывается кадрами снегопада и заканчивается эпизодом в снежном поле – это не только кольцевая композиция, но и мост к заснеженным улицам в «Хрусталеве…» (как и миазмы, в которых тонет Арканар, будто наследие предыдущей картины). Белый как цвет отстранения, будто подчеркивает, что эта история – об отказе людей от способности чувствовать мир вокруг. Зритель понимает этот отказ, благодаря приему, который не нов для языка Германа, – он вынужден снова протаптывать путь через толпы людей, предметы быта и оружие, теряясь в плотности и тесноте среды, пачкаясь в ожидающей повсюду грязи.
В Арканаре жители теряют сразу три органа чувств: слух, зрение и обоняние. Горожане не слышат ни музыки, ни криков, раздающихся из Веселой башни, а врагам и вовсе отрезают уши. Дожди создают препятствие для видения, а глаза висельников, политые рыбьим раствором, выклевывают чайки. Люди постоянно принюхиваются, но не чувствуют запахи – даже камера окунается в белые розы, но и их аромат неосязаем. Жители лишают себя воспоминаний, которые только могли бы получить, и забирают их у тех, кто мог бы унести память с собой в мир иной. Сам Румата тоже постепенно слепнет, сначала надевая на себя боевой шлем, а в финале появляясь в толстых очках, искажающих реальность до такой степени, что существование в ней становится терпимым.
Камера снова разрушает четвертую стену, но на этот раз не с целью добиться эффекта погружения в прошлое. Теперь она – наблюдатель, глаз бога, наблюдающий за происходящим безучастно. В кадрах, несмотря на внушительность костюмов и декораций, нет картинности, а скорее неприкрытая жестокость созданного режиссером мира. Арканар – это город, в котором нет науки, искусства, стремления к внутренним изменениям, город грязный по внешним признакам и варварский по своей сути. Город, в котором нет памяти – ни личной, ни социальной, ни политической, ни тем более культурной. Но «Трудно быть богом», несмотря на свою непринадлежность к советской истории, это фильм-память о советской эпохе, значение которого можно будет выявить лишь в долгосрочной перспективе, фильм-капсула времени в будущее.
Тамара Тотчиева
1
Ямпольский М. Б. Дебют. Алексей Герман в начале пути. // СЕАНС, 2014
2
Герман / Сост. Л. Аркус. СПб.: Сеанс, 2020. С. 219.
3
Там же. С. 215
4
Там же. С. 258
5
Хлебникова В. По железному морю прочь / Герман / Сост. Л. Аркус. СПб.: Сеанс, 2020. С. 270
6
Марголит Е. Я. Еще меня любите…/ Герман / Сост. Л. Аркус. СПб.: Сеанс, 2020. С. 235.
7
Герман / Сост. Л. Аркус. СПб.: Сеанс, 2020. С. 295.
8
Там же. С. 307.
9
Les Inrockuptibles, 1999 / Герман / Сост. Л. Аркус. СПб.: Сеанс, 2020. С. 375.