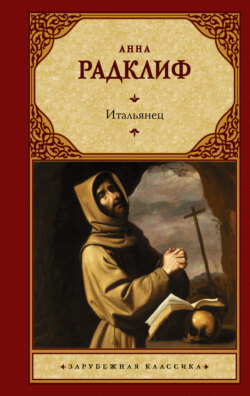Читать книгу Итальянец, или Исповедальня Кающихся, Облаченных в Черное - Анна Радклиф - Страница 3
Том I
Глава 1
ОглавлениеВ чем тайный грех – незнаемая повесть:
Не выведать, раскаяньем не смыть.
Уолпол Х., Таинственная мать
В 1758 году Винченцио ди Вивальди впервые встретился с Элленой Розальба в неаполитанской церкви Сан-Лоренцо. Едва заслышав нежный певучий голос, юноша невольно устремил взгляд к удивительно гибкой стройной фигуре, отличавшейся редким изяществом, однако лицо незнакомки скрывала густая вуаль. Зачарованный ее голосом Винченцио с мучительно-острым любопытством принялся гадать о ее наружности, каковая, он нимало не сомневался, так же полно должна была выразить чувствительность ее души, как ее мелодичный голос. С неослабным вниманием он не отрывал глаз от незнакомки на всем протяжении утренней службы, по окончании которой девушка покинула церковь в сопровождении пожилой дамы – вероятно, матери, – опиравшейся на ее руку.
Вивальди незамедлительно отправился им вослед, исполненный решимости, буде ему посчастливится, хотя бы мельком увидеть черты лица незнакомки и запомнить дом, где она могла жительствовать. Юноше не раз приходилось ускорять шаг, поскольку обе синьоры шли довольно быстро, нигде не задерживаясь и не глядя по сторонам; на углу Страда-ди-Толедо он едва не потерял их из виду; стремительно бросившись вперед, он мигом преодолел разделявшее их расстояние, которое до того предусмотрительно выдерживал, и поравнялся с преследуемыми при входе на Терраццо-Нуово, пролегавшую вдоль Неаполитанского залива и ведшую на Гран-Корсо. Юноша оказался рядом с дамами, однако очаровательная незнакомка так и не подняла вуали, а он понятия не имел, как привлечь к себе ее внимание или хотя бы краем глаза скользнуть под покрывало. Скованный почтительной робостью, смешанной с восхищением, Винченцио, борясь с неодолимым желанием заговорить, не мог вымолвить ни единого слова.
У самого подножия лестницы, однако, пожилая дама оступилась; Винченцио сей же час поспешил на помощь, но тут налетевший со стороны моря легкий бриз откинул вуаль, которую Эллена, помогавшая своей спутнице подняться на ноги, не успела придержать, и взору юноши предстало лицо, наделенное такой трогательной красотой, какую он даже не осмеливался вообразить. Облик Эллены напоминал о Греции: запечатленное в ее чертах выражение умиротворенного спокойствия свидетельствовало об изысканной утонченности ума, а темно-голубые глаза блистали чуткой живостью восприятия. Встревоженная состоянием пострадавшей, Эллена не сразу заметила, какой восторг пробудила у молодого очевидца происшествия, но, на мгновение встретившись глазами с Вивальди, тотчас же прочитала в них обуревавшие юношу чувства и, не мешкая долее ни секунды, торопливо опустила вуаль.
Неловкость пожилой синьоры при спуске с лестницы не повлекла за собой, по счастью, особо серьезных последствий, однако Винченцио не преминул воспользоваться открывшейся ему возможностью и обратился к синьорам с учтивейшей просьбой, чтобы пострадавшая, которой каждый шаг давался теперь с заметным усилием, согласилась принять его помощь. Пожилая синьора, должным образом выразив юноше свою признательность за столь любезное с его стороны предложение, долго отнекивалась, но в конце концов ей не оставалось ничего иного, как уступить его убедительным настояниям и опереться на руку юноши.
По дороге Винченцио всячески тщился завязать разговор с Элленой, однако ответы ее отличались крайней немногословностью, и потому даже в самом конце пути Винченцио все еще продолжал ломать голову, не зная, что могло бы пробудить в девушке интерес и смягчить ее холодную сдержанность. Вид представшего перед ними жилища побудил Винченцио заключить, что сопровождаемые им особы – происхождения, несомненно, благородного – обладают довольно скромными средствами. Дом был невелик, однако все в этом уголке дышало мирным уютом и свидетельствовало о безупречном вкусе обитательниц. Окруженный садом и виноградниками, дом стоял на приметном возвышении, откуда открывалась вечно-изменчивая панорама Неаполя и омывающего город залива; кровлю дома осеняли могучие ветви вековых сосен, здесь же произрастали величественные финиковые пальмы; и хотя на незатейливый портик и колоннаду внутри двора употребили отнюдь не самый дорогой мрамор, стиль архитектуры был изящный. В тени колонн можно было найти отрадный приют в часы полуденного зноя, сюда же вольно долетало освежающее прохладой дыхание моря – и ничто не препятствовало созерцанию его восхитительных берегов.
Вивальди остановился у небольших ворот, ведших в сад; здесь старшая дама снова поблагодарила его за проявленную участливость, однако приглашения войти в дом не последовало – и огорченный Винченцио, дрожа от волнения, с упавшим сердцем, не в силах откланяться, еще какое-то время медлил с уходом: взор его был прикован к Эллене, однако от растерянности он не находил способа поддержать разговор, и затянувшаяся пауза вынудила пожилую синьору вновь пожелать ему на прощание всего доброго. Винченцио набрался смелости обратиться с просьбой дозволить ему наведаться сюда позднее, с тем чтобы осведомиться о здоровье досточтимой синьоры, и, получив разрешение, устремил прощальный взгляд на Эллену, которая также отважилась поблагодарить юношу за заботу об ее тетушке. Выказанная девушкой признательность, само звучание ее голоса только усилили жажду Винченцио оставаться возле нее возможно дольше, но в конце концов ему пришлось, сделав над собой величайшее усилие, удалиться. Преследуемый в мечтах поразительной красотой Эллены и все еще слыша сердцем трогательные отзвуки ее речи, Винченцио спустился к берегу залива возле ее обиталища; он не мог уже наблюдать за ней воочию, но со временем надеялся украдкой увидеть Эллену издалека, пусть мельком, на балконе дома, где шелковый навес слегка колыхался от свежего бриза. Винченцио провел несколько часов, простершись в густой тени раскидистых сосен и блуждая, несмотря на жару, у подножия скал, нависших над береговой кромкой, и не уставал вызывать в воображении чарующую улыбку Эллены и припоминать сладостные переливы милого голоса.
Домой – в неаполитанский дворец отца – Винченцио возвратился лишь к концу дня, испытывая самые смешанные и противоречивые чувства, озабоченный и вместе с тем умиротворенный, погруженный в задумчивость и счастливый; воспоминание об услышанных из уст Эллены словах благодарности вселяло в него самые лучезарные надежды, хотя он и не осмеливался строить в уме планы касательно того, какой образ действий изберет в будущем. Винченцио явился домой как раз вовремя, чтобы составить компанию матери в ее ежевечерней прогулке по Корсо; при виде каждой проезжавшей мимо нарядной кареты в нем вспыхивала надежда повстречать предмет своих неотступных размышлений, однако Эллена там не появилась. Мать Винченцио, маркиза ди Вивальди, не преминула отметить про себя взволнованное состояние сына и необычную для него молчаливость; в попытке выяснить причины, вызвавшие в его поведении столь разительные перемены, она принялась было задавать ему вопросы, но ответы Винченцио только разожгли в ней еще большее любопытство; а посему, воздержавшись от дальнейших прямых расспросов, маркиза отложила разрешение поставившей ее в тупик загадки до того благоприятного случая, когда она сможет воспользоваться более изощренными способами, дабы возобновить свои расспросы.
Винченцио ди Вивальди был единственным отпрыском маркиза ди Вивальди – потомка одного из древнейших аристократических родов в Неаполитанском королевстве, баловня фортуны, пользовавшегося при дворе неограниченным влиянием и обладавшего властью еще более значительной, нежели его высокое происхождение. Маркиз равно кичился и знатностью имени, и положением в обществе: чувство неоспоримого превосходства уравновешивалось в нем выдержанным в строгих принципах умом; гордыня руководила и нравственными его побуждениями, стремлением к почестям. Гордыня маркиза была, таким образом, его пороком и его добродетелью, его щитом и его ахиллесовой пятой.
Мать Винченцио также происходила из знатного семейства, мало в чем уступавшего роду Вивальди: ничуть не менее супруга тщеславилась она именитостью предков и кичилась своей собственной избранностью, однако благородство фамилии отнюдь не распространялось на ее внутренний душевный склад. Высокомерие и мстительность, вкупе с необузданностью страстей, сочетались в ней с лицемерием и лживостью: неутомимая в плетении изощренных интриг, она не обретала успокоения до тех пор, пока ей не удавалось отомстить незадачливой жертве, имевшей несчастье навлечь на себя ее неудовольствие. Любовь к сыну питалась в маркизе не столько материнской привязанностью, сколько тем, что она усматривала в Винченцио единственного наследника двух блистательных домов, предназначенного судьбой объединить и приумножить славу обоих.
Винченцио очень много унаследовал от отца и очень мало – от матери. Его гордость отличалась свойственным отцу благородным великодушием; но не чужды ему были и жгучие страсти матери, лишенные, впрочем, даже малейшей примеси притворства, двуличия и неукротимой жажды мести. По натуре своей Винченцио отличался редким чистосердечием и непосредственностью в проявлении чувств; легко вспыхивал – но и быстро отходил; раздражался любым знаком неуважения, однако охотно смягчался при виде сделанных уступок; высокие понятия о чести побуждали его к скорейшему примирению; неизменная приязнь к ближним располагала к восстановлению прежнего согласия и взаимной уважительности.
На следующий же день после первой встречи с Элленой Винченцио вновь приблизился к вилле Альтьери, с тем чтобы, воспользовавшись полученным разрешением, осведомиться о здоровье синьоры Бьянки. Возможность вновь увидеть Эллену заставляла его сердце трепетать от радостного нетерпения, возраставшего с каждым шагом, так что у ворот он принужден был ненадолго задержаться, дабы перевести дух и хотя бы немного овладеть собой.
Вскоре у входа показалась старая служанка, которая провела гостя в небольшой зал, где Винченцио предстал перед синьорой Бьянки, занятой сматыванием в клубок шелковой нити. Больше в зале никого не было, хотя пустой стул, явно поспешно отодвинутый от пялец с вышиванием, указывал на совсем недавнее присутствие здесь Эллены. Синьора Бьянки отнеслась к визитеру со сдержанной любезностью, ограничившись сообщением самых скупых сведений в ответ на расспросы Винченцио о ее племяннице, появления которой он втайне ждал каждую секунду. Под самыми разнообразными предлогами Винченцио всячески старался тянуть время, пока наконец задерживаться долее сделалось неудобным: темы для разговора были исчерпаны полностью и участившиеся со стороны синьоры Бьянки паузы ясно намекали на желание хозяйки дома проститься с посетителем. С омраченным сердцем, однако заручившись не слишком охотно данным разрешением снова осведомиться о ее здоровье в один из ближайших дней, преисполненный разочарования Винченцио покинул виллу.
На обратном пути через сад Винченцио не раз замедлял шаг, оглядываясь на дом в надежде различить сквозь решетку окна фигуру Эллены и озираясь вокруг, словно ожидал ее под роскошными кронами платанов; но тщетно взор юноши блуждал в поисках дорогого образа – и безысходное отчаяние свинцовым грузом отяготило его поступь.
Весь следующий день Винченцио посвятил розыску сведений о семействе Эллены, однако выяснить ему удалось немногое. Стало известно, что Эллена – сирота, опекаемая единственной родственницей, теткой – синьорой Бьянки; род их, не приметный ни богатством, ни славой, постепенно приблизился к полному разорению. Кроме тетки, никого у Эллены не было. Но Винченцио и не подозревал о тайне, тщательно сберегаемой: Эллена всячески поддерживала свою старую тетушку, все достояние которой сводилось к маленькому имению, где они жили; целые дни напролет девушка была занята вышиванием по шелку, исполняя заказы монахинь близлежащего монастыря, а те продавали ее работы приходившим к ним богатым неаполитанским дамам, причем с немалой для себя выгодой. Винченцио и не подозревал, что великолепное платье, в котором он так часто видел свою мать, изготовлено руками Эллены; не догадывался он и о том, кем выполнено множество рисунков, изображавших памятники античности и украшавших этажерку во дворце Вивальди. Знай Винченцио об этих обстоятельствах, они бы только разожгли страсть, которую, он понимал, следовало бы подавить, поскольку его родители увидели бы в них только доказательство имущественного неравенства двух семей и воспротивились бы их союзу.
Эллена могла бы еще перенести нужду, но не презрение окружающих: именно стремление оградить себя от предрассудков и побуждало ее ревностно таить от мирских глаз свое неутомимое прилежание, делающее честь ее характеру. Она не стыдилась бедности, как не стыдилась и трудолюбия, помогавшего одолевать лишения, но душа ее инстинктивно бежала от тупоумного высокомерия и обидной снисходительности, с которой сытое довольство взирает порой на нужду. Ум Эллены еще недостаточно созрел, а взгляды ее были еще не так широки, чтобы укрепить в ней стоическое пренебрежение к язвительным выпадам злонамеренной глупости и помочь обрести горделивое утешение в достоинстве добродетели, не запятнанной зависимостью. Синьора Бьянки на склоне лет находила в Эллене единственную опору и поддержку; племянница терпеливо сносила ее немощи и с неизменной чуткостью старалась облегчить страдания больной, отвечая на питаемую к ней тетушкой материнскую любовь дочерней привязанностью. Родную мать она потеряла еще во младенчестве, и с тех самых пор синьора Бьянки стала для нее второй матерью.
Так, в счастливой тиши уединения, не ведая тревог, за кропотливой неустанной работой, проводила свои дни Эллена Розальба до того, как впервые увидела Винченцио ди Вивальди. Незаурядность юноши не могла не броситься ей в глаза, и Эллена до глубины души была поражена достоинством его осанки и благородством всего его облика, выражавшего открытость и деятельную силу духа. Опасаясь, однако, отдаться чувствам, выходившим за рамки простого восхищения, Эллена попыталась изгнать из памяти образ Винченцио и за привычными занятиями вернуть себе состояние безмятежного спокойствия, нарушенного нечаянным знакомством.
Вивальди меж тем, не находя себе места и изнывая от тоски, большую часть дня провел в беспрестанных попытках что-нибудь разузнать об Эллене. Преисполненный страхами и дурными предчувствиями, он решился под покровом темноты вновь посетить виллу Альтьери, дабы найти отраду в близком присутствии той, кто занимала все его мысли, и тешить себя надеждой на счастливую случайность, которая позволила бы ему хотя бы одно мгновение лицезреть Эллену.
Маркиза Вивальди устраивала у себя в доме званый вечер; заметив выказанные Винченцио подозрительные признаки нетерпения, она постаралась удержать его подле себя до самого позднего часа; Винченцио предстояло отобрать репертуар, пригодный для намеченного концерта, и устроить первое исполнение новой пьесы, сочиненной композитором, который обязан был своей громкой известностью хозяйке дома. Вечера маркизы славились по всему Неаполю пышностью и многолюдством; вот и сегодня во дворце Вивальди должен был собраться самый цвет аристократического общества; в нем образовалось две партии ценителей музыкального искусства: одни высоко превозносили талант автора – подопечного маркизы, другие же противопоставляли ему мастерство другого новоявленного гения. Ожидалось, что назначенная премьера так или иначе окончательно разрешит возникший спор. Неудивительно, что маркиза пребывала в большом волнении по поводу исхода соперничества, поскольку сберегала репутацию любимца столь же ревниво, как и свою собственную, и, занятая всевозможными хлопотами, не могла уделить делам сына слишком большую долю забот.
В первый же удобный момент, как только стало возможно уйти незамеченным, Винченцио покинул собрание и, закутавшись в плащ, поспешил к вилле Альтьери, расположенной не слишком далеко, в западной части города. Ни единая душа не попалась ему навстречу – и, запыхавшись от волнения, он проник в сад; там, избавленный от необходимости соблюдать утомительный светский церемониал, вблизи жилища возлюбленной, он испытал на мгновение прилив такой всеобъемлющей радости, как если бы сама Эллена оказалась вдруг рядом с ним. Однако восторженность вскоре его покинула, сменившись безысходным чувством одиночества; юноше вообразилось, будто с Элленой они разлучены навечно, и сознание этого было еще горше, поскольку всего лишь минуту назад он едва ли не уверил себя в ее непосредственной близости.
Время было уже довольно позднее, и дом тонул в темноте, из чего Винченцио заключил, что обитатели его уже отправились на покой и не стоит даже надеяться на нечаянную встречу с Элленой. Но ощущение близкого ее присутствия переполняло Винченцио такой отрадой, что ему захотелось во что бы то ни стало подобраться к дому вплотную и найти окно спальни, где почивает Эллена. Преодолеть живую изгородь, образованную густым кустарником, не составило большого труда, и вскорости Винченцио вновь ступил под колонны знакомого портика. Близилась полночь, и царившая вокруг тишина казалась еще более глубокой, когда снизу доносился тихий всплеск набежавшей на берег волны или когда раздавался глухой рокот Везувия, порой освещавшего горизонт внезапными короткими вспышками, после чего окрестность вновь погружалась во тьму. Возвышенная величавость пейзажа вполне отвечала душевному состоянию Винченцио, и он чутко вслушивался в неясный гул, напоминавший ему отдаленное смутное рокотание грома за грозовыми облаками. После каждого раската следовала пауза, и в ожидании нового все существо Вивальди наполнялось благоговейным трепетом; погруженный в задумчивость, он неотрывно взирал на туманные очертания берегов залива и на море, едва различимое в призрачном свете, лившемся с безоблачного неба. По серой водной поверхности бесшумно скользило множество судов, ведомых только без устали сиявшей в выси Полярной звездой. Освежающая морская прохлада насыщала почти недвижный воздух тонкими благоуханиями; еле заметный ветерок слегка шевелил верхушки раскидистых сосен, простерших над виллой свои могучие ветви; разлитое вокруг безмолвие нарушали только шорох прибоя и стоны далекого вулкана – как вдруг слух Винченцио уловил донесшееся со стороны пение. Сурово-торжественная мелодия заставила его встрепенуться; это был, вне сомнения, реквием – но где находились таинственные исполнители? Напев, казалось, то медленно приближался, то удалялся, наполняя собой окрестность. Это поразило Винченцио: он знал, что в иных частях Италии реквием сопровождает умирающего на смертном одре; здесь же скорбная процессия, казалось, шествовала по какой-то тропе – если не плыла по воздуху… Относительно характера песнопения Винченцио нимало не сомневался: ему уже доводилось слышать эту мелодию ранее, причем при таких обстоятельствах, которые навсегда врезали этот напев в его память. Вслушиваясь в стихавшие на расстоянии звуки, он вдруг ясно вспомнил, что это – та самая божественная мелодия, которая лилась из уст Эллены в церкви Сан-Лоренцо. Охваченный волнением, Винченцио ринулся вперед и, обогнув по садовой аллее дом, услышал голос самой Эллены, возносивший полуночный гимн Пресвятой Деве Марии под аккомпанемент лютни, звучавшей в ее руках необычайно нежно и проникновенно. Зачарованный Винченцио застыл на месте, боясь упустить хотя бы один перелив ангельски кроткого голоса, выражавшего благочестие, каковое могло быть присуще, наверное, только святым. Озираясь в поисках возлюбленной, Винченцио заметил свет, пробивавшийся сквозь заросли дикого жасмина, поспешно шагнул ближе – и заметил в окне Эллену. Решетка была поднята, с тем чтобы ночная прохлада без помех проникала внутрь, и комната Эллены представилась юноше как на ладони. Девушка только что поднялась с колен, окончив вечерние молитвы перед небольшим алтарем; лицо ее все еще светилось набожным восторгом; она возвела к небесам взор, исполненный страстной веры и преданности вышним силам; лютню она не успела отложить в сторону, однако, казалось, совершенно забыла обо всем, что ее окружает. Ее дивные волосы были небрежно стянуты шелковой сеткой, но непокорные вьющиеся пряди падали врассыпную на шею, обрамляя прекрасное лицо, которое не скрывала теперь никакая вуаль. Легкое свободное одеяние, гибкий стан, стройность и соразмерность черт, совершенство всего облика придавали ей сходство с греческой нимфой.
Взволнованный Винченцио колебался между желанием воспользоваться неожиданно представившейся ему возможностью – представившейся, быть может, в первый и последний раз – открыть возлюбленной свое сердце и боязнью оскорбить ее непрошеным вторжением в уединенную обитель, да еще в столь сокровенную минуту; не зная, на что решиться, он вдруг услышал, как Эллена, вздохнув, со сладостной мелодичностью тона, свойственной ее голосу, произнесла вслух его имя. Пораженный Винченцио, с жадным нетерпением ожидая слов, какие могли бы затем воспоследовать, нечаянно задел ветку жасмина, прильнувшую к решетке; Эллена обратила глаза к окну, но юношу целиком скрывала густая листва. Эллена, однако же, направилась к окну с намерением опустить решетку – и тут Вивальди, не в силах долее сдерживать свой порыв, отбросил все колебания и предстал перед ней. Эллена застыла на месте, и по щекам ее разлилась смертельная бледность; затем, поспешно закрыв окно, она без промедления покинула комнату. Вивальди охватило такое чувство, словно с ее уходом он распрощался со всеми своими надеждами.
Побродив еще некоторое время по саду вокруг безмолвного дома, в котором не горело ни единого огня, опечаленный Винченцио отправился в обратный путь. Теперь он начал задаваться вопросами, которые следовало бы поставить перед собой ранее: ради чего пустился он в столь рискованное предприятие и какие опасности таит каждое новое мучительно-радостное для него свидание с Элленой; ведь ее общественное положение и более чем скромная обеспеченность материальными благами никоим образом не позволяли рассчитывать на то, что родительское благословение скрепит их брак.
Предавшись тяжким раздумьям, Винченцио то склонялся к решению отказаться от дальнейших встреч с Элленой, то содрогался при одной мысли о необходимости добровольного разрыва; возможность разлуки вселяла в его сердце подлинное отчаяние. Миновав арку полуразрушенного сооружения, нависшую над дорогой, Винченцио столкнулся вдруг с человеком в одеянии монаха, лицо которого затенял опущенный капюшон. Преградив Винченцио путь, незнакомец обратился к нему по имени и произнес:
– Синьор, за каждым вашим шагом следят! Остерегайтесь показываться у виллы Альтьери!
С этими словами незнакомец исчез, прежде чем Вивальди успел задвинуть обратно меч, наполовину вытащенный им из ножен, и потребовать объяснения услышанного. Неоднократно он громким голосом окликал неизвестного, призывая того вернуться, и провел более часа в состоянии взвинченного ожидания, не двигаясь дальше, однако явление не повторилось.
По возвращении домой Винченцио не переставал думать о случившемся и терзался вспыхнувшим вдруг острым чувством ревности: перебрав в уме всевозможные догадки, он пришел к выводу, что предостережение вынесено ему не кем иным, как соперником, и грозящая ему опасность сосредоточена на острие кинжала, зажатого в руке ревнивца. Таковая убежденность разом раскрыла юноше глаза на силу охватившей его страсти и на неосторожность, с какой он обнаружил свои чувства. Однако сколь же далеко уводил этот порыв осмотрительности от вступления на путь послушного следования родительской воле, если, терзаемый мукой, дотоле ему неведомой, Винченцио твердо задумал в любом случае признаться в любви и настоятельнейшим образом добиваться руки Эллены. Злосчастный юноша, он и не подозревал о роковом заблуждении, в которое ввергало его могущество страсти!
Во дворце Винченцио узнал, что маркиза, обеспокоенная долгим отсутствием сына, не раз осведомлялась о том, где он может обретаться, и отдала слугам приказание, чтобы ей доложили о времени его возвращения. Сама она, впрочем, удалилась в спальные покои, однако маркиз, сопровождавший монарха до одной из королевских вилл на берегу залива, появился под собственным кровом еще позже Винченцио и, прежде чем отправиться на свою половину, окинул юношу весьма неодобрительным взором, но, воздержавшись от каких-либо объяснений, ограничился на прощание двумя-тремя малозначащими фразами.
Вивальди заперся у себя, чтобы отдаться размышлениям – если только можно назвать размышлением противоборствующие чувства, заглушающие трезвый голос рассудка. Часами расхаживал он из угла в угол по своим комнатам, томимый воспоминаниями об Эллене: юношу то обуревала ревность, то страшили последствия безоглядного шага, который он намерен был предпринять. Нрав отца и кое-какие черты, присущие характеру матери, Винченцио знал как нельзя лучше, и у него было вполне достаточно оснований предвидеть с замиранием сердца непримиримый запрет, который они наложат на замышляемую им женитьбу; однако, вспоминая о том, что он – единственный их сын и наследник, юноша начинал уповать на возможность прощения с их стороны, хотя именно это обстоятельство должно было усилить их разочарование. Эти размышления прерывались опасениями, что Эллена уже прониклась, может статься, привязанностью к воображаемому сопернику; некоторое утешение приносило ему, правда, воспоминание о том, с каким нежным вздохом девушка произнесла наедине сама с собой имя Винченцио… Но, положим, сватовство его будет встречено благосклонно; вправе ли он домогаться руки Эллены в надежде назвать ее супругой, если брачная церемония должна будет совершиться втайне? Винченцио даже не дерзал допустить, что Эллена изъявит готовность породниться с семейством, которое взирает на нее свысока; при этой мысли им опять овладело уныние.
Рассвет застал Винченцио в прежнем расстройстве духа, однако он пришел к твердому решению: он вознамерился пожертвовать правами, дарованными ему рождением, ради свободы выбора, в котором заключалось, как он полагал, счастье всей его жизни. Но прежде чем отважиться на объяснение с Элленой, необходимо было увериться, питает ли она к нему сердечную склонность, или же любовь ее отдана счастливому разлучнику, за имя которого Винченцио дорого бы дал. Впрочем, одного лишь желания дознаться до истины было недостаточно: нельзя было преступить границы почтительности по отношению к Эллене и оскорбить ее неделикатностью; следовало опасаться также того, что новость станет известна семье прежде, нежели он заручится нерушимой привязанностью Эллены.
В поисках выхода Винченцио открылся другу, на которого издавна привык полагаться: его суждения он и ожидал теперь с трепетом и не столько стремился обрести поддержку союзника, сколько желал услышать беспристрастное мнение со стороны. Приятеля Винченцио звали Бонармо; на роль нелицеприятного советчика он вряд ли мог претендовать, однако тут же, без стеснения, высказал свой совет. Для выяснения того, холодно или благосклонно отнесется Эллена к притязаниям Вивальди, Бонармо предложил, в соответствии с обычаями страны, исполнить под ее окном серенаду; по его убеждению, девушка непременно должна подать знак, свидетельствующий о ее неравнодушии к Винченцио; в противном же случае она не появится. Вивальди решительно воспротивился этой грубой и неуместной затее, нимало не сообразной с возвышенным характером его священного чувства; не допускал он также и возможности того, что тонкий и благородный душевный склад Эллены позволит столь ничтожному проявлению галантности польстить ее самолюбию и пробудить интерес к поклоннику; а если звуки серенады даже и отзовутся в ее сердце, Винченцио не сомневался, что Эллена ничем не обнаружит своего внутреннего порыва.
Бонармо высмеял колебания друга, слишком пристрастного, по его мнению, к мелочной щепетильности и разного рода романтическим тонкостям, извинительным разве что при полном незнании света. Но Вивальди немедля прервал дальнейшие подшучивания на этот счет и запретил ему называть свою деликатность излишне романтической и тем более говорить об Эллене в подобном тоне. Бонармо тем не менее настаивал на исполнении серенады, которое помогло бы выяснить, действительно ли Эллена увлечена Вивальди, еще до того, как он открыто сделает ей предложение. Вивальди, встревоженный и подавленный недобрыми предчувствиями, более всего жаждал избавиться от тягостной неизвестности – и в конце концов, не столько поддавшись на уговоры приятеля, сколько стремясь любой ценой покончить с томительным неведением, дал согласие произвести рекомендованный Бонармо опыт тем же вечером. Винченцио ухватился за серенаду не столько потому, что надеялся на успех, сколько для того, чтобы найти прибежище от отчаяния, в котором он пребывал.
Закутавшись поплотнее в плащи, дабы остаться неузнанными, и укрыв под полой музыкальные инструменты, друзья с наступлением сумерек в задумчивом молчании направились к вилле Альтьери. Они уже миновали арку, где накануне влюбленного подстерегал незнакомец, как вдруг Винченцио услышал странный звук: он откинул с лица капюшон и увидел перед собой ту же самую фигуру, что и в прошлый раз! Не успел он вымолвить и слова, как незнакомец, преградив ему путь, торжественно произнес:
– Беги прочь от виллы Альтьери, иначе тебя ждет участь, которой ты должен страшиться.
– Чего страшиться? – вскричал Вивальди, невольно отшатнувшись. – Заклинаю тебя, говори!
Однако монах уже исчез бесследно, словно растаял в окружающей тьме.
– Dio mi guardi![2] – воскликнул Бонармо. – Этому и поверить нельзя. Давай вернемся в Неаполь: повторным предупреждением пренебрегать нельзя.
– Нет, подобного обращения просто нельзя терпеть! – воспротивился Вивальди. – Куда же делся этот монах?
– Проскользнул мимо меня, – отозвался Бонармо, – и я не успел его задержать.
– Я готов к худшему, – заявил Вивальди. – Если у меня есть соперник, лучше всего завязать с ним знакомство прямо сейчас. Идем!
Бонармо запротестовал, указывая на грозную опасность, неминуемо уготованную им ввиду такой опрометчивости.
– Очевидно, это твой соперник – и в рукопашной схватке с наемными головорезами одной храбрости тебе будет мало.
При упоминании о сопернике в жилах Вивальди закипела кровь.
– Если опасность кажется тебе слишком грозной, – бросил он, – я пойду один!
Задетый упреком, Бонармо молча последовал за Винченцио, и вскоре они без помех достигли виллы. Винченцио уже неплохо освоился с дорогой, и они проникли в сад незамеченными.
– Ну, где же твои лихие головорезы, о которых ты меня предупреждал? – едко осведомился Винченцио у приятеля.
– Говори тише, – прошептал Бонармо, – возможно, мы даже в пределах их досягаемости.
– Возможно также, что и они в пределах нашей досягаемости, – заметил Вивальди.
Шаг за шагом неустрашимые друзья подошли к апельсиновой роще, находившейся перед самым домом; здесь они, после крутого подъема, остановились перевести дух и настроить свои инструменты. Ночь была тихая, но только теперь до них впервые донесся отдаленный гомон толпы – и внезапно небосклон озарился сверкающим фейерверком. Огни взлетели над виллой, расположенной на западной стороне залива, где был устроен праздник в честь рождения принца королевской крови. С неизмеримой вышины радужные сполохи осветили тысячи обращенных к ним лиц, позолотили воды залива, усеянного множеством лодок и шлюпок; яснее вырисовались прихотливые очертания горной гряды, окаймляющей величественный Неаполь, который привольно раскинулся на прибрежных холмах; отчетливо виднелось каждое здание, на плоских крышах всюду теснились зрители, Корсо была загружена каретами и озарена факелами.
Пока Бонармо созерцал эту великолепную картину, Вивальди устремил взгляд на жилище Эллены, видневшееся из-за деревьев, в надежде, что, привлеченная зрелищем, она выйдет на балкон, однако там было темно и ни малейший проблеск света не указывал на ее присутствие.
Растянувшись на мягком дерне, приятели заслышали вдруг, как вблизи зашуршала листва, словно кто-то прокладывал себе путь сквозь густые заросли. На оклик Винченцио ответа не последовало, и все стихло.
– За нами наблюдают! – встрепенулся Бонармо. – Быть может, убийца уже готовится нанести удар… Скорее бежим отсюда!
– О, если бы мое сердце было так же недосягаемо для стрел любви, сразившей мой покой, – воскликнул Вивальди, – как твое для вражеского кинжала! Друг мой, тебя, видно, ничто не занимает, коль скоро у тебя столько досуга для страха.
– Страшиться меня подстрекает не слабость, но благоразумие, – желчно возразил Бонармо. – Быть может, ты тогда только увидишь, как мне его недостает, когда тебе оно более всего понадобится.
– Понимаю, – отозвался Вивальди. – Что ж, давай немедля покончим с этим делом – и я дам тебе удовлетворение, раз ты почитаешь себя оскорбленным. Я так же готов загладить обиду, как нетерпим к тем, которым подвергают меня.
– Хорошо же! – вскричал Бонармо. – Ты желаешь заплатить за нанесенное другу оскорбление его же кровью!
– О нет, никогда и ни за что! – воскликнул Вивальди, бросаясь другу на шею. – Прости мне мою вспыльчивость – причиной тому мое нынешнее помраченное состояние.
Бонармо сжал Винченцио в своих объятиях.
– Довольно, ни слова больше! Ты вновь мой друг, самый близкий моему сердцу.
За разговором они миновали апельсиновую рощу и приблизились к вилле; там они расположились у балкона, нависавшего над решетчатым окном, через которое предшествующей ночью Вивальди увидел Эллену. Настроив инструменты, друзья начали серенаду с дуэта.
Вивальди обладал приятным тенором, и чуткая впечатлительность, благодаря которой он страстно обожал музыку, помогала ему с утонченным искусством следовать всем прихотливым извивам мелодии, наделяя ее предельно простой и вместе с тем трогательной выразительностью. Казалось, душа его изливается в звуках – нежная, молящая и, однако, исполненная необыкновенной силы. В тот вечер восторженность позволила ему подняться до самых вдохновенных высот красноречия, на которое только способна музыка; какое воздействие оказала она на Эллену, судить было трудно; никто не появился на балконе, нельзя было уловить и малейшего признака одобрения. Ни единый шорох не нарушил ночного безмолвия, когда смолкла серенада; нигде в окнах дома не мелькнуло и огонька; во время паузы, впрочем, Бонармо почудилось, будто поблизости кто-то перешептывается исподтишка, опасаясь быть услышанным, – он вслушался, но тщетно. Подчас голоса слышались совершенно явственно, однако туг же их поглощала мертвая тишина. Вивальди посчитал этот шум смутным отголоском кликов толпы на берегу, но Бонармо не так-то легко было переубедить.
Первая попытка друзей привлечь к себе внимание потерпела неудачу, и они, обогнув дом, остановились перед портиком, но и это оказалось бесполезным: терпеливо предаваясь музицированию, спустя час они вынуждены были отказаться от намерения снискать благоволение у непреклонной Эллены. Вивальди, забыв о том, какой ничтожной казалась ему надежда свидеться с Элленой, впал в безысходное отчаяние; Бонармо, не на шутку встревоженный последствиями такого отчаяния, не жалел стараний, чтобы утвердить Винченцио во мнении, что никакого соперника у него нет, хотя только что усердно втолковывал ему обратное.
Так или иначе, друзьям пришлось покинуть сад, несмотря на протесты Вивальди, желавшего во что бы то ни стало добиться от нарушителя его спокойствия вразумительного объяснения его темных угроз; Бонармо же, увещевая друга, указывал на трудности, сопряженные с розыском; к тому же, по его мнению, подобная дерзость могла бы привести к распространению вести о влюбленности Винченцио, который более всего страшился огласки.
Вивальди наотрез отказался прислушаться к советам Бонармо.
– Посмотрим, дерзнет ли вновь подступиться ко мне этот демон в личине монаха на прежнем месте; если да – то ему не поздоровится; если же он не явится – я стану ждать его возвращения с тем же упорством, с каким он выслеживал меня. Укроюсь в тени свода и не двинусь с места, пока не настанет мой смертный час!
Бонармо, пораженный силой чувства, вложенной Вивальди в это восклицание, оставил дальнейшие уговоры, однако просил друга подумать, достаточно ли у него с собой оружия.
– На вилле Альтьери оно тебе ни к чему, а там может понадобиться. Помни слова незнакомца: им известен каждый твой шаг.
– При мне меч и, как всегда, кинжал, – ответил Вивальди, – а что есть у тебя?
– Тише! – остерег его Бонармо у подножия скалы, нависшей над дорогой. – Мы уже почти у цели: вон та самая арка!
Арка смутно темнела в отдалении, перекинутая между двумя скалами: на одной виднелись развалины римской крепости, частью которых была эта арка; другую сплошь покрывали у поворота дороги густые заросли тенистых сосен и непроглядная дубовая роща.
Друзья шли осторожно, стараясь ступать возможно тише, то и дело окидывая окрестности подозрительным взором, всечасно ожидая внезапного явления монаха из какого-либо укрытия в расселине скалы. Однако вплоть до самой арки никто навстречу им не попался.
– А мы пришли раньше, чем он, – произнес Вивальди, едва они оказались в полной темноте.
– Говори шепотом, дружище, – отозвался Бонармо, – быть может, здесь прячется кто-то еще. Не нравится мне это место…
– Кому, кроме нас, могло бы вздуматься искать себе прибежище в столь мрачном закоулке? – прошептал Винченцио. – Разве что бандитам, которым по нраву угрюмые пристанища, – а сказать по правде, здешний приют вполне согласуется сейчас с моим настроением.
– Он вполне согласуется и с замыслами бандитов, – заметил Бонармо. – Выйдем туда, где посветлее, чтобы хорошо видеть, кто идет.
Вивальди возразил, что на открытом пространстве они сами легко попадут под наблюдение, добавив:
– Если нас обнаружит мой неведомый мучитель, все пропало: ведь он либо не приходит вовсе, либо застигает меня врасплох, не давая возможности подготовиться к поединку.
С этими словами охваченный нетерпением Вивальди затаился невидимкой в дальнем углу под аркой, у самого подножия вырубленной из камня лестницы, которая вела в крепость. Бонармо присоединился к нему и после некоторого размышления обратился к исполненному нетерпения другу с вопросом:
– Ты действительно веришь, что наша попытка задержать монаха окажется успешной? Монах исчез в мгновение ока – с быстротой, недоступной смертным!
– Что ты хочешь этим сказать? – спросил Вивальди.
– Только то, что, может быть, я стал не чужд суевериям. Здешний мрак не располагает к трезвым суждениям, и я чувствую, что готов подчиниться любым предрассудкам.
Вивальди слегка улыбнулся.
– Но согласись, – продолжал Бонармо, – что появление этого монаха сопряжено с обстоятельствами, далекими от заурядных. Кто подсказал ему твое имя, которое он назвал, как ты говоришь, при первой с тобой встрече; как ему стало известно, откуда ты идешь и намерен ли прийти снова? Каким колдовством он проник в твои планы?
– Я не склонен полагать, что он знаком с моими планами, – заметил Вивальди. – Но даже если бы и был, для разгадки таковых сверхъестественного дара вовсе не требуется.
– Итог сегодняшнего вечера, – настаивал Бонармо, – должен убедить тебя, что все твои намерения хорошо ему известны. Неужели Эллена, если только она к тебе неравнодушна и сердце ее свободно, хоть на миг не показалась бы у окна?
– Ты не знаешь Эллены, – возразил Вивальди, – и только поэтому я прощаю тебе и этот вопрос. Но, конечно, если бы она была настроена ко мне милостиво, наверняка какой-либо знак одобрения…
Винченцио умолк на полуслове.
– Незнакомец предостерег тебя от посещения виллы Альтьери, – напомнил Бонармо. – Он, по-видимому, был осведомлен об ожидавшем тебя приеме и знал об опасности, каковой ты пока что счастливым образом избежал.
– Еще бы, об ожидавшем меня приеме он был осведомлен превосходно, как нельзя лучше! – вскричал Вивальди, совершенно забыв об осмотрительности. – Скорее всего, именно он и есть тот самый соперник, против которого он же меня и предостерегал. Маскарад ему понадобился, чтобы обмануть мою доверчивость и помешать мне искать Эллену. И я должен смирно поджидать, пока он изволит тут показаться? Пристало ли мне красться за соперником, будто я какой-нибудь злоумышленник?
– Ради бога, умерь свои порывы! – взмолился Бонармо. – Вспомни, где мы сейчас находимся. Твои соображения в высшей степени неправдоподобны.
Не без труда ему удалось убедить Вивальди в основательности приведенных резонов, и юноша, мало-помалу успокоившись, постарался взять себя в руки и вновь набраться терпения.
Друзья оставались начеку еще довольно долго, как вдруг Бонармо заметил неясную фигуру, бесшумно приблизившуюся к проходу под аркой со стороны виллы Альтьери. Фигура эта, замедлив шаг, застыла у самого прохода, едва различимая в призрачном свете глубоких сумерек. Взор Вивальди был устремлен в сторону Неаполя – он следил за дорогой, Бонармо же, опасаясь опрометчивости приятеля, медлил в нерешительности: ему казалось более благоразумным выждать и вполне удостовериться, точно ли перед ними поджидаемый ими монах. Высокий рост и темное облачение, в которое он был закутан, побудили Бонармо заключить, что это именно тот, кого они подкарауливают; он потянул было Винченцио за рукав, однако фигура, ринувшись вперед, растаяла во мраке, хотя Вивальди успел уже понять, что вызвало движение друга и его многозначительное молчание. Шагов никто из них не слышал – и, ни капли не сомневаясь, что незнакомец, кем бы он там ни был, остается где-то здесь, под аркой, друзья замерли в напряженном оцепенении. Совсем рядом с ними, на расстоянии вытянутой руки, что-то прошелестело, напоминая шуршание складок плаща, и Вивальди, не в состоянии более совладать с собой, бросился с распростертыми руками навстречу противнику с громким требованием назвать себя.
Шелест прекратился, а ответа не последовало. Бонармо обнажил меч, угрожая рубить им по воздуху во все стороны, Пока не поразит того, кто затаился в темноте; он обещал ему полную безопасность, если тот добровольно вступит с ними в объяснения. Таковое ручательство скрепил своим согласием и Вивальди. По-прежнему им отвечала только тишина, но приятелям показалось, что ее нарушило чье-то стремительное движение, словно мимо них скользнул человек – проход был достаточно широк для этого. Вивальди кинулся вслед, однако не увидел никого, кто мог бы, метнувшись из-под арки, раствориться во мгле, окутывавшей дорогу.
– Клянусь, мимо нас кто-то прошел! – прошептал Бонармо. – Мне даже послышалось, будто кто-то взбежал по ступеням, ведущим к крепости.
– Тогда пойдем за ним! – воскликнул Вивальди, рванувшись к лестнице.
– Остановись, ради всего святого, назад! – вскричал Бонармо. – Подумай только, что ты делаешь! Мы окажемся в полной тьме среди развалин – и убийца заманит нас к себе в берлогу!
– Это тот самый монах! – твердил Вивальди, поднимаясь все выше и выше. – Теперь он от меня не уйдет!
Бонармо в явной нерешительности задержался у подножия лестницы, хотя Винченцио скрылся из виду; наконец, устыдившись собственного малодушия и не желая оставлять друга на произвол судьбы, поспешил за ним, кое-как одолевая выщербленные ступени.
Достигнув вершины скалы, Бонармо оказался на террасе, расположенной прямо над аркой: некогда здесь было военное укрепление, позволявшее с обеих сторон наблюдать за дорогой через расщелину. В обломках массивных стен все еще сохранялись бойницы, предназначавшиеся для лучников, и только они напоминали о военном прошлом этого оборонного сооружения. Терраса вела к сторожевой башне на противоположной скале, почти целиком скрытой в гуще раскидистых сосен, и служила, таким образом, надежным защитным оплотом, а также линией коммуникации между крепостью и аванпостом.
Тщетно Бонармо искал своего друга – только эхо разносило меж камней его настойчивые призывы. После некоторого колебания Бонармо решил направиться не к сторожевой башне, а в главное здание крепости, стены которой, построенные на крутых склонах, были едва различимы во тьме. От некогда неприступной цитадели время сохранило только мощную круглую башню, окруженную римскими арками; у края скалы громоздились руины, о первоначальном назначении которых можно было строить лишь смутные догадки.
Бонармо очутился среди громадных стен бастиона, но непроглядный мрак помешал ему двинуться дальше; несколько раз выкрикнув имя Вивальди, он возвратился на свежий воздух.
Приблизившись к беспорядочно раскиданным руинам, вызвавшим его любопытство, Бонармо различил, как ему показалось, чей-то негромкий голос – но, пока он в тревоге к нему прислушивался, навстречу ему из провала устремился человек с обнаженным мечом. Это был не кто иной, как Винченцио. Бонармо бросился ему навстречу; Вивальди задыхался, лицо его покрывала бледность; он далеко не сразу услышал вопросы Бонармо и смог заговорить в ответ.
– Идем отсюда, – едва вымолвил Вивальди, – скорее прочь отсюда!
– С превеликой охотой, – отвечал Бонармо, – но объясни, где ты был, что видел и почему ты так взволнован.
– Не задавай вопросов – скорее идем отсюда! – повторил Вивальди.
Друзья спустились со скалы бок о бок; возле арки Бонармо полюбопытствовал – скорее в шутку, нежели всерьез, – не продолжить ли им здесь ночное бдение, но Винченцио ответил «Нет!» с энергией, которая поразила его. Торопливо шагая по дороге к Неаполю, они почти не разговаривали; на все расспросы приятеля Винченцио с явной неохотой отделывался скупыми фразами – и Бонармо, сгорая от любопытства, не переставал ломать себе голову над причинами, внезапно побудившими Вивальди к подобной сдержанности.
– Так это и был тот самый монах? – не выдержал Бонармо. – Ты сумел наконец настичь его?
– Не знаю, что и думать, – пробормотал Вивальди. – В такой растерянности я еще никогда не был.
– Выходит, ему удалось скрыться?
– Об этом мы поговорим, – отвечал Вивальди. – Как бы то ни было, дело на этом не кончается. Я вернусь сюда завтра ночью с факелом; рискнешь ли ты отправиться вместе со мной?
– Прежде чем согласиться, я должен знать, зачем тебе это нужно.
– Я вовсе не принуждаю тебя идти, а зачем мне это нужно – ты уже знаешь.
– Значит, личность незнакомца, как и раньше, тебе неведома и ты все еще не уверен, за кем ты гнался?
– Вот именно; завтра ночью, надеюсь, с неизвестностью будет покончено.
– Поразительно! – вскричал Бонармо. – Только-только я был свидетелем ужаса, написанного у тебя на лице, когда ты выбежал из крепости Палуцци, и вот ты уже хочешь вернуться. И почему ночью, почему не днем, когда опасность не столь велика?
– Уж не знаю, что опаснее, – возразил Вивальди. – Пойми, тайный ход, куда я проник, недосягаем для дневного света: его можно обследовать только с факелами в руках, когда бы мы ни пришли туда.
– Если факелы необходимы, как же тебе посчастливилось выбраться на волю в полном мраке? – воскликнул Бонармо.
– Сам не могу понять – мне было не до того; меня словно направляла какая-то невидимая рука.
– И все-таки, если я пойду с тобою, – заметил Бонармо, – нам в любом случае лучше прийти туда днем, когда светло. Чистое безумие вновь искушать разбойников (а ими здешние окрестности наверняка кишмя кишат), да еще в полночь, когда им всего вольготнее.
– Я опять буду караулить на прежнем месте под аркой, – заявил Вивальди, – прежде чем принять крайние меры. А это среди бела дня немыслимо. К тому же мне надо идти в определенный час – тот самый, когда здесь обычно показывается монах.
– Значит, он ушел от тебя, – сказал Бонармо. – И ты до сих пор не знаешь, кто он.
В ответ Вивальди только осведомился, готов ли друг к нему присоединиться. «Если нет, – добавил он, – я постараюсь найти себе другого компаньона».
Бонармо сказал, что должен подумать, и обещал сообщить о своем решении до следующего вечера.
Скоро друзья вошли в город и расстались, уже за полночь, у ворот дворца Вивальди.
2
Храни меня, Господи! (ит.)