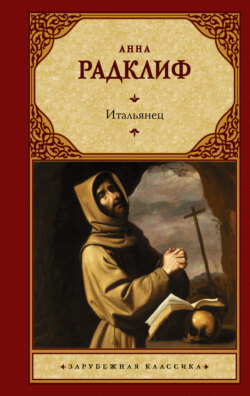Читать книгу Итальянец, или Исповедальня Кающихся, Облаченных в Черное - Анна Радклиф - Страница 8
Том I
Глава 6
ОглавлениеИх было
Шесть или семь; от темноты самой
Они таили лица.
Шекспир У., Юлий Цезарь
После внезапной кончины тетушки – единственной ее родственницы и друга всей жизни – Эллена почувствовала себя так, будто осталась одна в целом свете. Однако горесть одиночества стала ощущаться ею не сразу: поначалу боль утраты, жалость, необоримая скорбь вытеснили из ее сердца все прочие помышления.
Прах синьоры Бьянки должен был упокоиться в церкви, принадлежавшей монастырю Санта-Мария делла Пьета. Тело, облаченное в смертный покров в соответствии с обычаем и украшенное цветами, перенесли к месту погребения в открытом катафалке, в сопровождении одних только священников и факельщиков. Но Эллена не могла проститься так легко с останками любимого друга, и – поскольку традиция воспрещала ей сопроводить гроб до могилы – она направилась прежде в монастырь, дабы присутствовать там на заупокойной службе. Скорбь не позволила ей присоединиться к хору монахинь, зато торжественная величавость песнопения умиротворила ее душу, а пролитые слезы помогли утишить тяжкое горе.
По окончании службы Эллена проследовала в приемные покои аббатисы, та, наряду с выражением глубокого соболезнования, настоятельно уговаривала Эллену укрыться пока в монастыре, в чем опечаленную девушку легко было убедить. Эллена сама желала удалиться под монастырский кров как в некое святилище, наиболее отвечавшее не только сложившимся обстоятельствам, но и душевному ее состоянию. Здесь, в обители веры, думалось ей, она скорее всего обретет спокойствие и покорность судьбе, и при расставании с аббатисой было условлено, что Эллену примут в монастырь в качестве пансионерки. Теперь ей следовало вернуться на виллу Альтьери – главным образом для того, чтобы поставить Вивальди в известность о своем решении. Уважение и привязанность к нему постепенно росли в душе Эллены и теперь стали так велики, что от них зависело ее будущее, счастливое или несчастливое. Благословение тетушки – и в особенности торжественность, с какой та накануне кончины препоручила племянницу заботам Винченцио, – привязали к нему Эллену еще теснее и освятили их помолвку; она стала полагать Вивальди своим покровителем и единственным защитником. Чем сильнее оплакивала она почившую тетушку, тем с большей нежностью думала о Вивальди; любовь к нему так тесно переплелась с привязанностью к ней, что оба чувства становились крепче и возвышенней.
По завершении погребальной церемонии влюбленные встретились на вилле Альтьери.
Винченцио не выказал ни удивления, ни неудовольствия, узнав о желании Эллены удалиться на время траура в стены монастыря: такой поступок в высшей степени даже приличествовал девушке, оказавшейся в пустом доме без опекунов. Юноша поставил только одно условие – что он получит разрешение видеться с нею в монастырской приемной и, когда позволят правила приличия, попросит ее руки, дарованной ему синьорой Бьянки.
Хотя Вивальди покорился намеченному плану без единого слова жалобы, он все же был огорчен; однако, когда Эллена убедила его похвалой достоинствам аббатисы монастыря Санта-Мария делла Пьета, он постарался заглушить тайный ропот сердца верой в обоснованность принятого решения.
Между тем воображение Вивальди неотступно тревожил неведомый ему мучитель – таинственный монах, особенно поразивший юношу тем, что предрек смерть синьоры Бьянки; и Вивальди вознамерился еще раз попытаться установить истинную природу своего преследователя, а главное – выяснить, какие мотивы могли подвигнуть незнакомца заступать ему дорогу, возмущая душевный покой. Обстоятельства, сопровождавшие встречи с монахом (если только он был монахом), его внезапные появления и исчезновения, правдивость его пророчеств и особенно мрачное событие, подтвердившее его последнее предостережение, – все это повергало Вивальди в трепет; фантазия Вивальди, воспламененная недоумением и болезненным любопытством, готова была принять истолкование, выходившее за пределы человеческого опыта и намекавшее на силы, далеко превышавшие способности смертного. Винченцио обладал разумом достаточно ясным и прочным, чтобы замечать и отвергать многие господствовавшие заблуждения, а также презирать распространенные предрассудки, и в обычном расположении духа он, вероятно, даже не потрудился бы задуматься над этой загадкой, однако теперь чувства его были возбуждены, воображение разыгралось; пожалуй, обманись он в своих ожиданиях (хотя сам Вивальди этого и не сознавал), ему было бы досадно покинуть области грозного величия – мир устрашающих теней, куда он воспарил, – и очутиться вдруг на твердой земле, которую попирал всякий день и где терзавшая его тайна получила бы самое простое и вполне естественное объяснение.
Вивальди замыслил вновь посетить крепость Палуцци в полночь и, не дожидаясь появления монаха, обыскать с факелами все укромные уголки и установить, по крайней мере, бывают ли там какие-либо другие человеческие существа, кроме него самого. Главное препятствие, мешавшее ему до сих пор осуществить свое намерение, заключалось в том, что трудно было подыскать спутника, которому он мог бы всецело довериться, а пускаться в столь рискованное предприятие в одиночку, как он убедился, было нельзя. Синьор Бонармо упорно отвечал отказами на просьбы Винченцио – и, быть может, поступал разумно; поскольку же у него не было других знакомых, кому бы он мог объяснить обстоятельства достаточно, чтобы добиться содействия, ему в конце концов пришлось остановить выбор на своем собственном слуге Пауло.
Вечером, в канун того дня, когда Эллена должна была переселиться в монастырь Санта-Мария делла Пьета, Вивальди отправился на виллу Альтьери с ней попрощаться. Во время разговора юноша был подавлен более обычного; хотя он знал, что пребывание Эллены под монастырским кровом не будет слишком продолжительным, и верил в преданное постоянство Эллены, насколько это возможно для влюбленного, все же его не покидало предчувствие, будто расстаются они навсегда. Юношу осаждали тысячи смутных и тревожных предположений, ранее даже не приходивших ему в голову: так, ему казалось вполне вероятным, что монахини искусными ухищрениями побудят Эллену затвориться от мира и принять постриг. В ее теперешнем душевном состоянии такой поворот событий представлялся более чем правдоподобным – и, несмотря на все уверения Эллены (а перед разлукой она позволила себе отступить от присущей ей сдержанности), Вивальди никак не мог до конца избавиться от одолевавших его сомнений.
– Если судить по моим опасениям, Эллена, – воскликнул он, забыв о рассудительности, – мы расстаемся с тобой как будто бы навеки! На сердце у меня тяжесть, которую я не в силах сбросить. Я согласен с тем, что тебе необходимо удалиться пока в монастырь, – этот шаг продиктован соображениями благопристойности; я должен, однако, знать о скором твоем возвращении; знать, что скоро ты покинешь келью как моя жена, дабы никогда уже более не удаляться от меня, от моей нежной любви и заботы. Опасаться вроде бы нечего – и все же тревога мешает мне полагаться на настоящее и заставляет остерегаться будущего. Неужели случится так, что я тебя потеряю; неужели ты не будешь моей навсегда? Коли возникают подобные сомнения, как мог я малодушно тебя отпустить? Почему я не настоял на том, чтобы скрепить без промедления те неразрывные узы, расторгнуть которые не властен никто из смертных? И как мог я предоставить решение собственной судьбы воле случая, когда способен был устранить источник угрозы! Впрочем, почему – был? Думаю, еще и сейчас не поздно… О Эллена! Пусть суровость обычая подчинится моему стремлению спасти свое счастье. Если ты и отправишься в монастырь Санта-Мария, то только для того, чтобы предстать перед его алтарем!
Вивальди произнес эту тираду порывисто, не давая Эллене возможности вставить хотя бы слово; когда же он умолк, Эллена нежно укорила юношу за недоверие к ней и попыталась развеять одолевавшие его недобрые предчувствия, но отказалась внять его просьбе. Она напомнила, что не только душевное состояние вынуждает ее к уединению, но и уважение к памяти тетушки; она добавила строго: если Вивальди так мало полагается на ее постоянство, что без свершения брачного обряда сомневается в ее верности даже на протяжении столь короткого времени, то он поступил опрометчиво, избрав ее подругой всей жизни.
Вивальди, пристыженный выказанной им слабостью, умолял о прощении, стараясь унять внутреннее волнение, оправдываемое страстью, но порицаемое разумом, – и все-таки не мог обрести ни спокойствия, ни уверенности в грядущем; даже Эллена, хотя поведение ее определялось безошибочностью ее чувств, не в силах была совершенно освободиться от подавленности, которую испытывала с самого начала разговора. При прощании влюбленные обливались слезами; Вивальди ушел не сразу: он еще возвращался – то испросить новое обещание, то выяснить какую-то подробность, – пока Эллена с вымученной улыбкой не заметила, что подобным образом расстаются не на несколько дней, а разве только перед вечной разлукой; ее упрек вселил в юношу новые страхи, послужившие предлогом для новой задержки. Наконец, сделав над собой немалое усилие, Винченцио покинул виллу Альтьери и, поскольку до назначенного расследования в крепости Палуцци оставалось слишком много времени, вернулся в Неаполь.
Эллена меж тем, желая рассеять грустные воспоминания, занялась сборами к намеченному на завтра отъезду и провела весь вечер до позднего часа в хлопотах. Ей предстояло – хотя и ненадолго – покинуть дом, где она провела столько лет: жила она под этим кровом с тех самых пор, как начала помнить себя, и теперь ей было очень грустно. Непросто было оставить привычное, хорошо знакомое обиталище, где, казалось, все еще медлила с уходом тень покойной тетушки; дом представлялся Эллене последним островком недавнего благополучия, живым памятником минувших лет; он служил ей утешением и в нынешнем горе; Эллене чудилось, будто она должна вступить в некий новый и бесприютный мир. По мере того как надвигался урочный час, Эллена все сильнее ощущала привязанность к дому – ей думалось, что дороже всего вилла Альтьери станет ей в самую последнюю минуту расставания.
Эллена подолгу задерживалась в любимых ею комнатах: войдя в столовую, где она ужинала с тетушкой накануне ее смерти, она погрузилась в грустные воспоминания – и, возможно, предавалась бы им еще дольше, если бы ее внимание не отвлекло внезапное шуршание листвы за окном; Эллена вскинула глаза, и ей померещилось, будто кто-то быстро проходит мимо. Ставни, как обычно, были открыты, дабы через окна свободно проникал в дом свежий ветерок с моря, и теперь встревоженная Эллена устремилась было к окну, но не успела еще закрыть ставни, как до слуха ее из портика донесся стук – и тут же в вестибюле послышались вопли Беатриче.
Испуганной Эллене достало, однако, смелости устремиться на помощь старой служанке, но, едва она оказалась в проходе, ведущем в вестибюль, перед ней выросли трое мужчин в масках, закутанных в плащи. Эллена бросилась обратно в столовую – они последовали за ней. Запыхавшись, охваченная ужасом, Эллена постаралась взять себя в руки и спокойно спросить у незнакомцев, зачем они явились. Те молча набросили ей на лицо вуаль и, схватив с обеих сторон за руки – Эллена почти не сопротивлялась, умоляя отпустить ее, – повели к выходу.
В вестибюле Эллена увидела Беатриче, привязанную к колонне; еще один негодяй, тоже в маске, не сводил с нее глаз, молча делая угрожающие жесты. Крики Эллены, заклинавшей пощадить Беатриче так же отчаянно, как она просила о себе, вернули почти бесчувственную экономку к жизни, однако все мольбы оказались напрасными – и Эллену быстро увлекли из дома в сад. Там она потеряла сознание. Очнулась она в карете, двигавшейся с большой скоростью, где ее по-прежнему держали за руки те же самые, насколько она могла судить, похитители. Полумрак мешал Эллене разглядеть пристальней фигуры ее спутников, в ответ на все вопросы и просьбы хранивших гробовое молчание.
Всю ночь карета безостановочно катила вперед – лошадей меняли только однажды на почтовой станции, где Эллена попыталась криками привлечь внимание окружающих: занавески на окнах были плотно задернуты. Форейторы (очевидно, введенные в заблуждение похитителями) не замечали ее отчаяния – и спутники Эллены вскоре сумели лишить ее единственного средства, каким она могла оповестить о себе.
В первые часы Эллену целиком захлестнули и ужас и смятение: она никак не могла разобраться в случившемся, но мысли ее постепенно прояснились – и из глаз у нее брызнули слезы, вызванные безнадежностью положения. Ее разлучили с Винченцио – уж не навсегда ли? Жестокая невидимая рука, направляющая ее в неизвестность, наверняка не ослабит своей хватки, пока не поместит туда, где ее не в силах будет найти ее возлюбленный. Уверенность в том, что они с Винченцио больше на этом свете уже не увидятся, порой охватывала Эллену со всепоглощающей силой – все прочие чувства и соображения забывались и исчезали: в такие моменты ей становилось решительно безразлично, куда ее везут и что ее ожидает.
Из-за возраставшей духоты занавески слегка отодвинули, чтобы впустить внутрь кареты свежий воздух, и Эллена увидела, что с ней находятся только двое из тех, кто проник на виллу Альтьери, по-прежнему в плащах и масках. Определить, через какую именно местность они проезжают, было трудно: сквозь узкую щель виднелись только крутые вершины гор, скалистые обрывы и густые чащобы, нависавшие прямо над дорогой.
Около полудня, судя по накаленному воздуху, карета остановилась у почтовой станции – и в окошко подали воду со льдом: в тот момент, когда угол занавески отогнули в сторону, Эллена обнаружила, что вокруг – дикая пустынная равнина, стиснутая поросшими лесом горами. Люди у дверей почтовой станции, казалось, «не знали жалости и на себе ее не испытали». Безысходная бедность наложила свою печать на их бледные, изможденные лица; непреходящая тревога затаилась в морщинах, избороздивших впалые щеки. Они отнеслись к Эллене довольно безразлично, хотя черты ее, отуманенные страданием, пробудили бы интерес в любом сердце, не ожесточенном собственными муками; маски и плащи ее спутников также не вызвали у них особого любопытства.
За все время пути Эллена впервые омочила губы прохладным питьем. Ее провожатые, осушив свои стаканы, вновь задернули занавеску и, несмотря на почти непереносимый зной, двинулись дальше. Изнемогая от жары, Эллена взмолилась о том, чтобы открыли окна, на что ее спутники, побуждаемые скорее собственными потребностями, нежели галантностью, раздвинули занавески, и взорам Эллены представился величественный горный край, однако ни единая примета не указывала на то, где они находятся. Эллена видела только головокружительные уступы и бездонные пропасти, обнажавшие разноцветные мраморные породы; растительность была довольно скудной – приземистые сосны, карликовые дубы и остролист: она придавала темные штрихи многокрасочным скалам, а иногда спускалась темневшими массами в глубокие извилистые долины, манившие путника вдаль каждым новым поворотом. Ниже утесов простирались сумрачные рощи оливковых деревьев, далее шли пологие утесы, нисходившие к равнине террасами, на которых вился виноград и располагались возделанные участки с искусственной почвой, окаймленные зарослями можжевельника, гранатовыми и олеандровыми кустами.
Эллена, после долгого пребывания взаперти, в темноте, среди тревожных раздумий, нашла отраду, хотя и слабую, в созерцании лика природы; величие окружавшего ее ландшафта оживило ее душу, и она проговорила мысленно: «Если я приговорена к несчастью, я смогу перенести его с большей стойкостью именно здесь, а не среди обыденных проявлений природы. Эти грандиозные картины укрепляют и возвышают сердце. Невозможно склониться перед враждебностью фортуны, пока шествуешь, словно с Божеством Небесным, среди Его изумительных Творений!»
Образ Вивальди мелькнул перед ее умственным взором – и Эллена залилась слезами; вскоре, однако, она преодолела минутную слабость и на протяжении всей дороги сохраняла полное самообладание.
Жара начала ослабевать, когда карета въехала в узкую теснину; впереди открывался – будто через перевернутый телескоп – вид на отдаленную равнину, над которой высились горы, освещенные пурпурным великолепием закатного солнца. По тенистому ущелью стремила свой шумный ток река, падавшая со скал, пенясь и разбиваясь в брызги о темные камни, затем успокоенные воды мирно катились до нового обрыва, а там с раскатистым гулом низвергались в бездну, так что целое облако мелкой водяной пыли повисало в воздухе, венчая, словно короной, этот уединенный заброшенный уголок. Русло потока занимало все пространство ущелья, образовавшегося древле после потрясшей землю конвульсивной судороги, и дорога вилась по самому краю пропасти; нависшие над головой мрачные утесы вкупе с оглушительным ревом водопадов сообщали пейзажу особо зловещий вид, описать который не в состоянии ни одно перо. Эллена поднималась по ней не то чтобы равнодушно, но спокойно; испытывая наслаждение, смешанное с ужасом, смотрела она вниз, на неукротимо рвущийся поток; чувства ее достигли предельного напряжения, когда она увидела, что дорожка ведет к шаткому мостику, переброшенному через пропасть на головокружительной высоте над водой между двумя расположенными друг против друга скалами, между которыми низвергалась река. Мостик, защищенный ненадежными перилами, висел, казалось, где-то меж облаков. Оказавшись на нем, Эллена забыла едва ли не о всех своих несчастьях. Достигнув противоположной стороны лужайки, дорога на протяжении полумили полого спускалась от пропастей к просторным долинам, откуда распахивалась широкая панорама очерченных на горизонте и залитых солнцем вершин. Внезапная перемена пейзажа была равносильна переходу от смертной юдоли к вечному блаженству, но мысль об этом сходстве недолго тешила Эллену. На склоне горы, замыкавшей один из боковых отрогов могучего хребта и возвышавшейся над прочими пиками в горной цепи, которая опоясывала долину, виднелись шпили монастыря; Эллена почти сразу же поняла, что это и есть цель их путешествия.
У подножия горы карета остановилась; спутники Эллены сошли на землю и принудили ее поступить так же; подъем был для кареты слишком крутым и неровным. Эллена без сопротивления следовала за похитителями, точно ягненок, влекомый к жертвеннику; наверх среди скал шла извилистая тропа, отененная густыми зарослями, – миндальные и фиговые деревья, широколистый мирт и кусты вечноцветущих роз тесно сплетались с ветвями земляничного дерева, сплошь осыпанного лепестками, с золотистым жасмином, восхитительной мимозой и множеством других источавших благоухание растений. В просветах между зарослями порой виднелись низины, переливавшиеся яркими красками, или же открывался вид на широкий простор, замкнутый по черте горизонта снежными вершинами Абруццо. С каждым новым шагом взору представлялись красоты, способные наполнить восхищением безмятежного созерцателя: прихотливо-узорчатые отвесные плиты мрамора, обломки горных пород, поросшие мхом и цветами всех оттенков радуги, непролазные дебри кустарников и величественно колебавшиеся в вышине листья стройных пальм очаровали бы кого угодно, кроме Эллены, душу которой обуревала тревога, и ее бесчувственных спутников. По мере приближения к монастырю меж деревьев начали проглядывать отдельные части громадного сооружения – шпили кафедрального собора над западным окном, узкие остроконечные крыши галерей, неприступные стены на краю обрывов и темный портал, ведущий в главный двор: все эти архитектурные детали, являясь взгляду сквозь сумрачные кипарисы и широколиственные кедры, казались несчастной Эллене предвестиями грозивших ей страданий. Миновав несколько надгробий с изваяниями, наполовину скрытыми среди разросшихся кустарников, ее спутники задержались у небольшой часовни близ тропы; там, сверясь с какими-то бумагами (что вызвало у Эллены некоторое удивление), они отошли в сторону – словно бы посовещаться относительно ее самой. Беседовали похитители так тихо, что нельзя было разобрать ни слова, но даже если бы обрывки их речей и достигли ее слуха, вряд ли это помогло бы ей угадать, кто они такие; любопытство Эллены было подогрето упорным молчанием, до сей поры строго ими соблюдавшимся.
Вскоре один из похитителей направился к монастырю, оставив Эллену на попечение своего сотоварища; у него Эллена почти без всякой надежды попыталась в последний раз снискать сочувствия, но на все ее мольбы он, отвернув лицо, отвечал только отстраняющим жестом руки; тогда Эллена приняла решение с твердостью и терпением встретить испытание, которого она не в силах была ни избежать, ни отвратить. Уголок, где ей пришлось дожидаться возвращения похитителя, отнюдь не навевал уныния – он мог внушить разве что возвышенную меланхолию, какая охватывает душу при виде грандиозного и величественного зрелища. Отсюда были явственно различимы необозримые равнины – прежде Эллене не доводилось видеть столь широкого простора – и мощная горная цепь, которая надежно ограждала расстилавшийся у ее ног великолепный ландшафт. Причудливо нагроможденные, вытянутые вверх пики, торжественно сгрудившись в темнеющей дали и напоминая костер, острые языки пламени, поражали монументальностью, тогда как более мелкие детали, недоступные глазу в этот вечерний час, сливались на расстоянии в единое массивное целое, которому смутные предзакатные тени придавали величавую выразительность. Царившее вокруг нерушимое безмолвие усиливало впечатление глубокой торжественности; Эллена сидела недвижно, погруженная в задумчивость, и тут до слуха ее донеслось пение: в соборе началась вечерняя служба; созвучная тишине гармония находилась в полном согласии с ее чувствами; выводимая хором мелодия нарастала, крепла, словно вдохновленная Небом, и стихала, истаивая в пространстве. Сердце Эллены отдалось могучей власти божественного песнопения; когда раздались женские голоса, присоединившиеся к монашескому хору, у Эллены родилась надежда, что монахини проникнутся участием к ее страданиям и отнесутся к ней с сочувствием столь же нежным, как их пение.
Эллена уже полчаса отдыхала на травяном склоне возле часовни, когда завидела в сумерках, как из монастыря к ней спускаются два монаха. Еще немного – и она различила их одеяние из грубой серой ткани, их капюшоны и бритые головы с небольшими венчиками седых волос, что служило указанием на их принадлежность к определенному ордену. У часовни монахи приветствовали спутника Эллены, с которым отошли в сторону для переговоров. Эллена впервые услышала голос своего провожатого – и, несмотря на приглушенный тон, хорошо его запомнила. Второй негодяй еще не появился, однако монахи, несомненно, вышли в ответ на его сообщение; когда Эллена взглядывала на того, кто был повыше ростом, ей порой представлялось, что она видит перед собой отсутствующего злоумышленника, – и чем пристальней она его рассматривала, тем более укреплялась в своей догадке. Телосложением оба во многом сходствовали: та же самая нескладная худоба, которую даже разбойничий плащ не в состоянии был скрыть, обнаруживала себя и под складками монашеского одеяния. Если можно судить о характере по внешности, то монах явно обладал хищным нравом: его острый пронзительный взгляд, казалось, постоянно выискивал себе жертву. Его брат по ордену ни наружностью, ни манерой держаться приметно не отличался.
После недолгого совещания монахи подошли к Эллене и объявили ей, что она должна направиться вместе с ними в монастырь; сопровождавший ее похититель между тем, препоручив свои обязанности монахам, немедленно пустился в обратный путь вниз с горы.
В полном молчании все трое прошествовали по крутой тропинке к воротам уединенной обители, которые им отворил послушник. Эллена очутилась внутри просторного двора, три стороны которого были обнесены высокими зданиями с крытыми галереями, а четвертая вела в сад, отененный аллеями задумчивых кипарисов и простиравшийся вплоть до собора с украшенными лепкой окнами и резными шпилями, который замыкал собой перспективу. Слева от сада располагались другие строения, тогда как справа за монастырем расстилались обширные оливковые рощи и виноградники.
Монах, сопровождавший Эллену, пересек двор по направлению к северному крылу и позвонил там в колокольчик; дверь отворила монахиня, на чье попечение Эллена и была передана. Духовные особы обменялись многозначительным взглядом, однако ни слова не было сказано; монах удалился, монахиня же, по-прежнему сохраняя молчание, провела Эллену по безлюдным коридорам, где не слышалось ни единого, даже отдаленного шага, а стены украшали аляповатые изображения, имевшие предметом суровые предписания религии и призванные внушать благоговейный трепет. Надежды Эллены, уповавшей на жалость и сострадание, растаяли при виде мрачных картин, которые свидетельствовали о нраве здешних обитателей: к тому же запечатленное на лице монахини выражение угрюмой злобы говорило о ее готовности навлечь на окружающих хотя бы часть того несчастья, от которого она сама страдала. Монахиня бесшумно скользила вперед в белом одеянии, развевавшемся в пустынных переходах; ее изможденные черты слабо озарялись игрой светотени от едва мерцавшей свечи, которую она держала в руке; весь облик ее напоминал скорее призрак, только что восставший из могилы, нежели живое человеческое существо. Наконец они остановились у приемной аббатисы, и, обернувшись к Эллене, монахиня произнесла:
– Сейчас читаются вечерние молитвы. Вам придется подождать здесь, пока наша настоятельница не вернется из церкви; тогда она с вами поговорит.
– Именем какой святой назван ваш монастырь, сестра, – спросила Эллена, – и под чьим началом он состоит?
Монахиня ничего не ответила и, окинув пришелицу недобрым испытующим взором, вышла за дверь. Несчастная Эллена недолго оставалась одна: вскоре появилась аббатиса – величавая дама, явно обладавшая большим самомнением и приготовившаяся встретить гостью надменно, с жестким высокомерием. Будучи происхождения довольно знатного, аббатиса самым непростительным из всех возможных преступлений, близким к святотатству, полагала оскорбление, наносимое знатным особам. Неудивительно поэтому, что, предположив, будто Эллена, девушка без роду без племени, тайно пыталась связать себя родственными узами с благородным домом Вивальди, аббатиса прониклась не только презрением, но и негодованием – и с готовностью дала согласие не только покарать обидчицу, но и найти средства для сохранения старинного достоинства оскорбленной стороны.
– Насколько мне известно… – проговорила аббатиса, при появлении которой испуганная Эллена поднялась с места; не предложив ей сесть, аббатиса продолжила: – насколько мне известно, вы – именно та молодая особа, что прибыла из Неаполя.
– Меня зовут Эллена ди Розальба, – ответила ее собеседница, обретая мужество при словах аббатисы, которыми та желала подавить ее дух.
– Ваше имя мне безразлично, – заявила настоятельница. – Я знаю лишь то, что вас направили сюда, дабы вы познали себя и долг свой. Пока вы находитесь под моей опекой, и я намерена строжайшим образом блюсти возложенную на меня тяжкую обязанность, которую я согласилась исполнять из глубочайшего уважения к благородному семейству.
Эти слова тотчас же открыли Эллене виновника совершенного над ней деяния и мотивы, которыми тот руководствовался; Эллену так ошеломил внезапно представившийся ей ужас случившегося, что она безмолвно застыла на месте. В ней попеременно боролись страх, стыд и гнев; обвинение в том, что она якобы возмутила спокойствие семьи, с которой желала породниться, невзирая на выказанное ей презрение, поразило Эллену в самое сердце, однако сознание собственного достоинства вернуло ей уверенность в себе, возродило ее мужество и стойкость, а посему Эллена потребовала объяснить, по чьей воле она оторвана от дома и чьей властью содержится на положении узницы.
Аббатиса, не привыкшая к тому, чтобы слова ее вызывали сопротивление, от негодования не могла ответить, и Эллена, уже совершенно овладевшая собой, спокойно ожидала грозы, готовившейся разразиться у нее над головой. «Пострадала только я одна, – говорила она сама себе. – Так неужели же преступный гонитель будет торжествовать, а невинная страдалица склонится под бременем позора, которого заслуживают только виновные? Никогда не поддамся я столь недостойной слабости. Сознание собственной правоты укрепит во мне присутствие духа, которое позволит мне судить о моих притеснителях по их поступкам и презреть их власть».
– Должна вам напомнить, – произнесла наконец аббатиса, – что вопросы, вами задаваемые, не подобают вашему положению. Раскаяние и смирение лучше всего помогут вам искупить свою вину. Можете удалиться.
– Справедливо, – промолвила Эллена, с достоинством поклонившись настоятельнице. – Я охотно предоставляю такую возможность моим гонителям.
Эллена воздержалась от дальнейших расспросов и изъявлений неудовольствия; понимая, что упреки будут не только бесполезными, но и унизительными, она не замедлила исполнить веление аббатисы и решила стоически переносить все страдания, раз уж они выпали на ее долю.
Из приемной аббатисы Эллену сопроводила та же самая монахиня, которая ее приняла; они прошли через трапезную, где после вечерней службы собрались сестры во Христе; их пытливые взгляды, усмешки и торопливое перешептывание свидетельствовали о том, что новоприбывшая возбуждает в них не просто любопытство, но и подозрительность; Эллене стало ясно, как мало сочувствия можно ожидать от сердец, из которых даже повседневное служение Всевышнему не вытравило злобной зависти, которая побуждала их возноситься высоко, унижая других.
Крошечный покой, куда отвели Эллену и оставили, к ее величайшему облегчению, в одиночестве, походил скорее на келью, нежели на жилую комнату; как и в прочих помещениях, здесь было только одно окно, забранное решеткой; узкое ложе, стол, стул, распятие и молитвенник составляли все убранство. Оглядев печальную свою обитель, Эллена с трудом подавила вздох, но, как ни старалась, не могла отогнать от себя воспоминаний, нахлынувших на нее при осознании перемены в ее судьбе; не в силах она была и подумать без горьких слез о Вивальди, оторванном от нее, быть может, навсегда и даже не подозревавшем, где ее искать. Но слезы, увлажнившие глаза Эллены, тут же высохли: воображению ее представилась маркиза – и иные чувства вытеснили горесть. Все случившееся с ней Эллена приписывала в первую очередь маркизе; теперь стало очевидным, что семейство Вивальди не просто не одобряет, но и решительно противится союзу с ее семьей. Не так изображала дело синьора Бьянки; исходя из репутации семьи Винченцио, она, хотя и предвидела с их стороны неодобрение его брака с Элленой, все же не сомневалась, что они вынуждены будут примириться с событием, которое даже самый высокомерный гнев не властен объявить недействительным. Сознание того, что ее отвергают наотрез и безоговорочно, пробудило в Эллене гордость, убаюканную ранее заблуждением тетушки и нежной привязанностью к Винченцио; теперь Эллену мучили досада и острое раскаяние в том, что она дала согласие тайком войти в чужую семью. Честь сближения со знатным домом на поверку оказалась мнимой, после того как более основательно были взвешены условия, сопряженные с подобным родством. Здравый ум Эллены, получившей ныне возможность выносить суждения самостоятельно, подсказывал ей гордиться усердными трудами, доставлявшими ей средства к независимому существованию, гораздо больше, чем возможными привилегиями, дарованными скрепя сердце. Уверенность в собственной невиновности, столь поддержавшая Эллену во время беседы с настоятельницей, начала ослабевать.
– В нареканиях аббатисы была и доля справедливости! – воскликнула Эллена. – Я с полным основанием навлекла на себя кару, поскольку позволила себе, пусть лишь на миг, унизиться до желания вступить в брачный союз, заведомо, как я знала, вызывающий неодобрение. Но еще не поздно восстановить уважение к себе, утвердив собственную независимость, – и навсегда отринуть Вивальди. Отринуть Вивальди! Отказаться от того, кто любит меня всем сердцем? Обречь его на страдания? Сделать несчастным того, от одной мысли о ком к глазам моим подступают слезы и кому я дала обет верности? Пожертвовать избранником, могущим потребовать исполнения этого обета, воззвав к священной памяти о моей покойной тетушке? Порвать с тем, к кому я привязана всей душой? О злополучный выбор! – ибо я могу поступить благородно только ценою счастья всей моей жизни! Благородно? Можно ли назвать благородным поступок, если придется покинуть человека, готового отдать ради меня все на свете, и ввергнуть его в пучину горя, лишь бы только угодить предрассудкам родовитой фамилии?
Бедная Эллена понимала, что не в состоянии подчиниться диктату справедливо возмущенной гордости, ибо слишком бурно протестовало ее сердце, и подобного разлада в собственной душе она еще никогда не испытывала. Горячая привязанность не позволяла ей действовать с твердостью, которая обрекла бы ее на долгие страдания. Мысль о разрыве с Вивальди представлялась Эллене совершенно непереносимой, однако, стоило ей только вспомнить о его семье, ей казалось, что она никогда не согласится войти в нее. Эллена порицала бы и синьору Бьянки за недальновидность (ведь увещевания тетушки во многом способствовали нынешнему ее затруднению), однако нежность, которую она питала к ее светлой памяти, исключала такое отношение. Ей оставалось только безропотно сносить тяготы, противостоять которым было невозможно: и отказ от Вивальди ценой обретения свободы, буде ей предложили бы свободу на этом условии; и согласие соединиться с ним, презрев соображения гордости, если бы Винченцио вызволил ее из стен монастыря, – обе эти возможности представлялись смятенному уму Эллены одинаково неприемлемыми. Но когда Эллена подумала о том, что Вивальди, быть может, никогда не удастся обнаружить ее обиталище, сердце ее так мучительно сжалось, что она поняла: она гораздо больше боится утратить суженого, чем принять его предложение; любовь, стало быть, безраздельно господствует над всеми другими ее побуждениями.